Книга: Павел Луспекаев. Белое солнце пустыни
Назад: ТАКАЯ ДОЛГАЯ ТЕМНАЯ НОЧЬ
Дальше: ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, МЕСЯЦЫ, НЕДЕЛИ, ДНИ, ЧАСЫ, МИНУТЫ…
ДЕЛО БЫЛО НА КАСПИИ
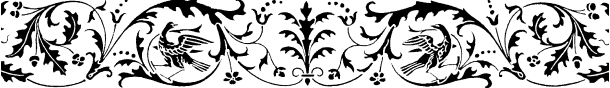
«Заходи!» – отрывисто произнес Павел Борисович, совсем как таможенник Верещагин Сухову после того, как испытал его, предложив ему прикурить от запала, воткнутого в динамитную шашку.
Сухощавое подвижное лицо Мотыля выразило удивление. Его, как и многих, ошеломил, должно быть, моментальный переход на «ты». Павел Борисович мысленно пожурил себя – в который уж раз? – за свою привычку, с которой, как ни старайся, никак не сладить. Отчасти же он и доволен был произведенным ошеломлением. Он делил режиссеров кино на «говорунов» и «работяг». Первые говорили красиво, но работали плохо. Актеры сыграют, оператор снимет, монтажница смонтирует, звукооператор озвучит… – вот на чем основывалась наглая самоуверенность этих «кинодеятелей». Обращение на «ты» они переносили болезненно.
«Работяги» же делали то, что положено было делать в меру отпущенных им способностей, и «ты» воспринимали нормально, иные даже с облегчением – слава Богу, без церемоний!..
Этот, кажется, судя по первому впечатлению, может быть причислен ко вторым, если первое впечатление подтвердится последующими, можно будет указать ему и на некоторую «нестыковку» в поведении Сухова, выявленную ими с Инной.
Если бы Павел Борисович умел читать мысли других людей, он сразу бы убедился, что относительно Мотыля беспокоился зря. Предупрежденный своим другом и коллегой по кино Геннадием Ивановичем Полокой о некоторых странностях Луспекаева, он к ним был отчасти готов. К чему же не готов, надеялся приноровиться в процессе общения. Было бы даже странно, если бы такой человек, как Луспекаев, оказался без странностей. Обращение на «ты» смутило Мотыля лишь на мгновение. В подобном обращение имеются как минусы, так и плюсы. Глупо ориентироваться на минусы.
Куда больше удивило Мотыля иное – Луспекаев был на ногах! Никаких костылей. Только в руке палка. А ассистенты, занимавшиеся подбором актеров для картины, уверяли, что лежит пластом. Они пользовались, значит, информацией не из первых рук. Вернувшись в Москву, надо будет сделать им соответствующее внушение.
Немало чего интересного и еще вычитал бы Павел Борисович в голове московского гостя, умей он это делать. Например, о том, как Геннадий Иванович Полока, которому Мотыль пожаловался, что лето кончается, вместе с ним уходит и «натура», а исполнитель роли Верещагина все еще не найден, выразил недоумение, которое при желании можно было принять за возмущение: «А Луспекаев? Чем тебе не исполнитель?»
Владимир Яковлевич печально возразил, что Луспекаев болен. Полока затащил его в свою монтажную, показать одну из актерских проб, сделанных им с Луспекаевым.
Мотыль опечалился еще сильней: проба подтвердила его убеждение: идеальный кандидат на роль Верещагина – Павел Борисович. А разгоряченный Полока принялся уверять, что скоро Луспекаев станет бегать и взлетать на лихих коней – такой у него характер!
Владимир Яковлевич осторожно заметил, что Верещагину нет нужды ездить на лошадях.
– Тем более! – обрадовался Полока. – Придумай сцены в воде. Он плавает как рыба. И поезжай к нему. Полюбуйся его торсом. Рубцы на плече, на руке – это же биография!
Возбуждение Полоки перекинулось на Мотыля, как пламя с одного предмета на другой. Режиссерская фантазия воспламенилась… «В самом деле, Верещагин – герой германской войны, кавалер георгиевских крестов. Что же удивительного, если у него костыли! В воображении замелькали сцены драки на баркасе: как герой пустил в дело костыль и как бандит метнул нож, угодивший в деревянную ногу, а Верещагин даже не поморщился…»
«Распропагандированный» Полокой, подхлестываемый своей «бесчинствующей» фантазией, Мотыль примчался в Питер, разыскал улицу Торжковскую, весьма отдаленную от центра, надавил на кнопку дверного звонка… и нате вам: Геннадий Иванович-то как в воду глядел – Луспекаев действительно выглядит так, будто готов хоть сейчас на горячего скакуна и – в раздольные степи с разбойничьим свистом, от которого посыплются с деревьев листья, поникнут буйные травы и застынут проточные воды…
Мотыль был удивлен. Более приятного удивления, чем это, ему не доводилось, кажется, еще испытывать в своей жизни. Впереди его ждали, однако, еще несколько удивлений, не менее приятных и ошеломляющих, чем только что испытанное…
Поскольку Павел Борисович умел читать лишь те мысли, которые явственно отражались на лице, а о тех, что не отражались, лишь догадывался, он, внимательно всматриваясь в лицо гостя, провел его в свою комнату и первым делом поинтересовался, не голоден ли он, а то, может?..
Гость отказался, сообщив, что позавтракал в буфете гостиницы «Октябрьская», где остановился.
В развитие знакомства он передал Павлу Борисовичу «пламенный привет и наилучшие пожелания» от Геннадия Ивановича. Полока действительно просил передать привет, и пламенный, и с наилучшими пожеланиями…
Лицо Павла Борисовича просияло. Значит, догадка, что Геннадий Иванович «к этому делу руку изволил приложить», оказалась верной.
Мотыль почти осязаемо ощутил волну расположения, пахнувшую на него от Луспекаева. Ответив на соответствующий вопрос, что Гена поживает настолько хорошо (или настолько плохо – кому как нравится), насколько это возможно в условиях развитого социализма, Владимир Яковлевич в закрепление наметившейся взаиморасположенности сообщил, что видел Павла Борисовича в роли Макара Нагульнова в спектакле «Поднятая целина», когда Большой драматический приезжал на гастроли в Москву.
Внутренние кончики мохнатых бровей Луспекаева вопросительно взлетели, черные глаза в упор уставились на собеседника. Если бы и Владимир Яковлевич в свою очередь умел читать чужие мысли, он бы прочел следующее: «Ну-ка, ну-ка! Интересно, что он скажет о «моем» Нагульнове. Нельзя ли от этого «романтика мировой революции» перекинуть мостик к Федору Ивановичу Сухову?..»
Но Владимир Яковлевич тоже не умел читать чужие мысли. Даже в том случае, когда на него в упор смотрели черные, явно затаившие в своей непостижимой глубине какое-то желание, глаза.
Тут уж ничего не оставалось, как продолжать затронутую тему, пока она не исчерпает себя.
Мотыля поразил масштаб личности Нагульнова, заданный артистом. «Казалось, что этот человек заполняет собой и сцену, и зрительный зал. Темперамент Луспекаева сказывался даже в паузе, и с такой силой, что зал разражался овацией».
Глаза и лицо Павла Борисовича повеселели. Настороженности как не бывало. А гость продолжал изрекать еще более приятные вещи: «Аплодисменты на острую реплику героя, на эффектную мизансцену, на ситуацию – все это привычно для театра, но чтобы зрители аплодировали тому, как актеры молча смотрят друг на друга?! Такое бывает не часто».
И тут настал черед удивиться Мотылю еще раз – в третий по счету: вместо того, чтобы словами выразить свою реакцию на выслушанные комплименты, Павел Борисович постучал набалдашником палки в стену. Через несколько секунд вошла молодая стройная женщина, с изумительно красивой, «лебединой», как отметил про себя Мотыль, шеей, и приветливо кивнув, произнесла:
– Слушаю тебя, Паша.
– Будь добра, Иннуля, – попросил Павел Борисович. – Там в холодильнике, на подносе, все приготовлено. Если тебе, не трудно, дорогая…
– Хорошо, Паша.
«Иннуля» вышла, вернулась с подносом, уставленным тарелками с закусками, графином с водкой, в которой плавал стручок красного перца, и рюмками, и опять вышла. Мотылю понравилась деликатность жены Павла Борисовича. Появление угощения, заранее приготовленного, но придержанного до поры, – а оно могло не появиться и вовсе – означало, конечно, что хозяин полностью доверяет гостю.
Пока происходила процедура, отработанная, должно быть, многократными повторениями, Мотыль осмотрелся. Обстановка была скромная. Внимание режиссера привлек катушечный магнитофон на журнальном столике, засыпанный обрезками магнитной ленты. Или рассинхронившиеся катушки рвут ленту, и хозяину приходиться часто склеивать ее, или он начитывает какие-нибудь тексты, а потом монтирует, выбирая наиболее удачные куски. Многие актеры при заучивании ролей пользуются магнитофоном…
После первых трех рюмок, принятых за знакомство, за кино и «за успех нашего безнадежного дела», разговор приобрел еще более доверительный характер.
– Да-a, Нагульнов, – усмехнулся Павел Борисович. – Все газеты трещали: «романтик мировой революции», «фанатик-интернационалист»… Не так все просто… Точней всех выразился по поводу моего Нагульнова мой отец, он приезжал на один из первых спектаклей из Ворошиловграда. Простой обрусевший армянин. «Твоего бы, – говорит, – Макара растянуть на скамейке и выпороть». – «За что?» – «За то, что дурак. Лушку, такую бабу, променять на мировую революцию». Я с ним согласился. Лушка – это же женщина, каких поискать! Это же вывернутая наизнанку п…а! Да я бы с нее не слазил, не заморочьте мне голову этой еб. ой мировой революцией!
Впечатления Мотыля от роли Нагульнова, в общем-то, не противоречили тому, о чем писали газеты. Но то, о чем говорил Павел Борисович, точней, даже не говорил, а намекал, прибегнув к мнению третьего лица, ввело его в смущение. И свое собственное мнение, и мнение прессы стало выглядеть вдруг искусственным, иллюстративным, поверхностным.
Эпитет, приложенный Павлом Борисовичем к понятию, о котором надлежало говорить с благоговейным придыханием, поразил Мотыля смелостью. Такое нечасто услышишь даже от закоренелых вольнодумцев. И удивило то, что слова, с момента своего возникновения как бы обреченные звучать грубо, уничижительно, в устах Луспекаева звучали вполне нормально, не резали слух и не коробили душу.
А как удивило и обнадежило отождествление себя с некогда сыгранным персонажем!.. Если такое же произойдет и с Верещагиным, лучшего нечего и желать.
Павел же Борисович неожиданно поинтересовался, задумывался ли Владимир Яковлевич, почему Шолохов – «мудрейший и лукавейший казак, – нас Гога возил к нему в гости в Вешенскую», – одарил «романтика революции» такой, скажем прямо, непристойной фамилией?..
Владимир Яковлевич, выяснилось, не задумывался.
– В станицах и на хуторах, – продолжил Павел Борисович, – о девке, забеременевшей «от ветра», до сих пор гутарют: нагуляла младенчика. «На шо намекает наш автор?» – как спросил бы великий Гога?.. Не на то ли, что наш беззаветный страдалец за мировую революцию произведен был на свет блядью, скажем мягче – блудницей? А ежели это так, ежели, как пишут, он типичный представитель огромной армии пламенных интернационалистов, то…
Луспекаев резко оборвал фразу, предоставляя собеседнику самому довести ее до логического завершения. Мотыль, перестав соображать, чему следует удивляться больше: ошарашивающей ли доверчивости Павла Борисовича или шокирующей глубине его суждений, сам, в нарушение этикета, потянулся к рюмке с водкой.
Выпили «за жизнь». Мотыля не оставляло впечатление, что разговор о Нагульнове Павел Борисович поддержал и развил с неким умыслом, но спросить, так ли это, не решился. Если «да», тема проявится в свое время. А «нет», впечатление испарится само собой.
Незаметно разговорились о сценарии. Мотыля поразило, насколько хорошо Луспекаев изучил его, едва ли не лучше, чем он сам. Павел Борисович наизусть помнил не только диалоги, в которых был задействован Верещагин, но и в которых тот не принимал участия, не был причастен к ним хотя бы косвенно. Привыкший к тому, что многие актеры учат свои роли в последний момент, на съемочной площадке, прямо перед кинокамерой, Владимир Яковлевич был удивлен чрезвычайно – в пятый раз. И весьма польщен. Не часто встречается столь ответственное отношение к своему делу. Вопрос об исполнителе лично для него был решен бесповоротно. Только бы не вмешались врачи. Так ли уж здоров актер, как пытается выглядеть?..
Буквально все интересовало Луспекаева: как будет выглядеть этот эпизод, как тот, кто партнеры, написана ли песня для Верещагина, где будут проводиться натурные съемки?..
На все вопросы ответы были исчерпывающими. Анатолия Кузнецова, Спартака Мишулина и Кахи Кавсадзе, приглашенных на роли Сухова, Саида и Абдуллы, Павел Борисович знал по фильмам и театральным постановкам. А вот фамилию Годовиков слышал впервые. Между тем, тому, кто будет играть роль Петрухи, он придавал первостепенное значение. Ему хотелось, чтобы не только Верещагин полюбил Петруху, но и он, Луспекаев, полюбил актера, который сыграет эту роль.
Мотыль, лукаво улыбаясь, сообщил, что и Годовиков не темная лошадка для Павла Борисовича, он должен помнить его по фильму Геннадия Ивановича «Республика ШКИД». Крупное лицо Луспекаева расплылось в ответной улыбке.
– Маленький, рыжий, шустрый? – быстро спросил он.
Мотыль ответил, что насчет первого сомневается, за три минувших года молодой парень, естественно, вытянулся, а в остальном все правильно.
– Не подставь он мне тогда кресло, лежать бы мне сейчас в гробу, – проговорил Павел Борисович и поведал Мотылю о том, что случилось на съемках эпизода с взбунтовавшимися шкидовцами, как вошедший в раж Сандро Товстоногов едва не отправил его к праотцам, оглоушив табуреткой, слишком прочно изготовленной бутафорами…
Мотыль слышал об этой жуткой истории от Полоки, но с удовольствием выслушал ее еще раз и много смеялся.
О композиторе Исааке Шварце Павел Борисович знал понаслышке. На «Ленфильме» говорили о нем как о многообещающем кинокомпозиторе. Что слова песни напишет Булат Окуджава, обрадовало Луспекаева настолько, что он тут же попытался напеть «Песенку про Арбат» и «Дежурного по апрелю», но тут же прекратил попытки, испугавшись, как бы режиссер не подумал, что он записывает песни в собственном исполнении и напрашивается на то, чтобы «показать» записи. Гость нравился ему все больше. Раскованная, доброжелательная и доверительная манера его общения покоряла. Чем-то он напоминал и НеллиВлада и Михаила Федоровича Романова одновременно. Быть может, особенным добродушием, которое можно приобрести только в Малороссии.
За возвышенным разговором не забывали и про низменное, преходящее – графин опустел, а закуски иссякли. Павел Борисович опять постучал палкой в стену. Мгновение спустя появилась «Иннуля» с заиндевелой бутылкой водки и двумя тарелками, на которых шипели поджаренные куски мяса с молодым, аппетитно подрумяненным картофелем и свежей редиской. Привычки мужа «Иннуля» выучила назубок и исполняла их с мастерством видавшего виды официанта.Выпили «за здоровье». Воспользовавшись удобным моментом, Мотыль осторожно осведомился, как Павел Борисович себя чувствует, что говорят о его здоровье врачи?.. «А что?» – насторожился Луспекаев, и что-то жесткое мелькнуло в его аспидно-черных зрачках. «И тут я понял, – вспоминал Владимир Мотыль, – что настала пора изложить мой план. В заключение про новую биографию Верещагина я пообещал, что часть сцен на баркасе мы перенесем в павильон, чтобы ему не мучиться в штормовую качку.
Была луспекаевская пауза. Потом он поднялся, демонстративно отставив палку, и прошелся по комнате, постукивая голыми пятками. По сей день не могу понять, как он держался, как не терял равновесия. Дав мне прийти в себя, Луспекаев сказал по-свойски:
– Знаешь, все-таки Верещагина должно быть жалко. А что получится? Пьяница безногий – вроде, туда ему и дорога. А здоровый мог бы жить – и вдруг нате! Это же лучше. Вот две-три роли сыграю без костылей, а уж потом поглядим – может, какого-нибудь инвалида… И сцену на баркасе надо снимать в море, чтоб штормило, качало, чтоб получилось как надо».
Выпили за «как надо». Ледяная водка обожгла небо. Сочное мясо таяло на языке. Молодой картофель и свежая редиска казались необыкновенно вкусными.
Полагая, что беседа исчерпала себя, что все темы затронуты и обговорены, Мотыль засобирался уходить, как вдруг Павел Борисович, как бы нечаянно обронил: всем хорош сценарий «Белого солнца…», но смущает одно – поведение Сухова с женами «Черного» Абдуллы. Что такое: молодой здоровенный бугай, наверняка изголодавшийся по женской плоти, а ведет себя так, будто никогда не прикасался к бабе?! Причем, ведь и жены не против, считают его своим господином и даже сексуальный «бунт» закатили, обвинив во всем Гюльчетай. Вот Петруха – совсем другое дело, у него естественная реакция на присутствие рядом молодой женщины. Но поскольку он парень, не попробовавший еще, чего хочется, да, к тому же, и из деревни, то и ведет себя соответственно – предлагает жениться. У него, вишь ты, и мамаша хорошая – добрая…
Так вот почему затеян был разговор о Нагульнове и его беспутной, но неотразимо обаятельной и соблазнительной жене Лушке, брошенной своим мужем на растерзание кобелям черт знает во имя чего!..
Мотыль молчал, удивленный интуицией и умом сидящего перед ним человека. Не дождавшись его ответа, Павел Борисович завершил беседу ответом, придержанным им до поры:
– А что врачи? Они свое сделали – отпилили стопы, отдали их в музей Военно-медицинской академии, и радуйся. Будем работать…
Мотыль отправился на встречу с Эдуардом Розовским, главным оператором фильма «Белое солнце пустыни», позвонив ему от Луспекаевых. А Павел Борисович, закрыв дверь за удалившимся гостем, незамедлительно вернулся в свою комнату, включил магнитофон и в считаные секунды завершил то, что не получалось за многие-многие минуты – поставил уверенную точку в звуковом эквиваленте эпизода драки Верещагина с басмачами на баркасе…
Затем откинулся на спинку дивана, смежил веки и стал прикидывать, когда его вызовут на съемки. О том, что могут не вызвать, и в голову не приходило. Если поверить режиссеру, дней через десять надо заказывать билеты. Если на всякие производственные неурядицы добавить дня четыре, то – через пару недель. Это сколько же еще ждать, сколько же еще терпеть! Так хочется играть. Не получилось бы с Верещагиным так, как получилось с Косталмедом и Скалозубом, а то и еще хуже – Павел Борисович знал, что скоро умрет.
Но ведь другие-то об этом не знали! «Мы знали о его изнуряющей, мучительной болезни, но относились к этому как к досадному недоразумению, – печально констатировал много лет спустя после кончины артиста Георгий Александрович Товстоногов. – Не было сомнения в том, что он поправится, вернется в театр и будет дарить щедрую радость всем, кто имеет счастье соприкасаться с этим неповторимым талантом».
Не поправился, не вернулся… А вот радость дарит и по сей день…
В литературном сценарии фильма «Белое солнце пустыни» эпизода «видений» Федора Ивановича Сухова, главной героиней которых была «несравненная Екатерина Матвеевна», отсутствовали. Не было их и в режиссерском сценарии. Эти эпизоды придуманы Мотылем и озвучены великолепными текстами Марка Захарова после монтажа основного материала картины. Вряд ли кто осмелится возразить против них, так много свежести вдыхают они в сюжет, в фильм. Но помимо этого они психологически объясняют и оправдывают странное поведение Сухова, волею судьбы оказавшегося вдруг «господином» целого гарема – как можно изменить «несравненной» и «бесценной»?.. Тут, кстати, вполне уместна и пресловутая «революционная сознательность» – как удачная приправа к основному блюду… Вполне возможно, что Владимир Мотыль во время описанной встречи не придал замечанию Луспекаева о его отношении к Нагульнову и проведенной им аналогии с Суховым того значения, которое теперь, много лет спустя, придаем ему мы. Сомнение, однако, было посеяно в подсознание, укоренилось, взошло, вызрело и реализовалось в абсолютно верное творческое решение, сообщив образу Сухова убедительность, которой ему недоставало на уровне литературного и режиссерского сценариев…
«Реконструированный» нами разговор Владимира Мотыля и Павла Борисовича Луспекаева состоялся в июле 1968 года. А уже в августе артист, сопровождаемый «Иннулей», то бишь верной Инной Александровной, прибыл в Дагестан. Здесь, на пустынном берегу Каспия, южнее Махачкалы, заканчивалась подготовка к съемкам натурных эпизодов фильма.
Ларису оставили у деда и бабки, заехав по пути в Луганск. Отец, тщательно расспросив, кого «изобразит» сын в фильме, вздохнул с облегчением: «Слава богу, в этот раз «изобразишь», кажется умного, а не дурака…»
Первыми, кого увидел Павел Борисович, выйдя из вагона на перрон вокзала Махачкалы, были двое молодых людей, которым Мотыль поручил встретить его и доставить в гостиницу «Дагестан». В одном из них, что постарше, он без труда узнал того самого ассистента с «Ленфильма», который передал ему сценарий «Белого солнца пустыни» месяц тому назад. Поскольку картина снималась на производственной базе питерской киностудии, предприимчивый ассистент с помощью мосфильмовских коллег, вручавших ему сценарий, умудрился устроиться в группу Мотыля, предвкушая в перспективе интересные съемки на песчаном берегу теплого моря.
Второго юношу Павел Борисович тоже узнал сразу. Он был совсем еще молоденький, рыженький, по-мальчишески застенчивый. Сейчас он с беспокойством всматривался в выходивших пассажиров, явно не уверенный в чем-то. Предприимчивый ассистент, мигом высмотрев Луспекаева, с фамильярностью, присущей одним киношникам, бросился к нему, улыбаясь так, будто тысячу лет был его закадычным другом.
Рыженький увидел тоже, и видно было, что и ему хотелось броситься, но сомнения, узнает ли его Павел Борисович, а, узнав, признает ли, остановили его. Инициативу возобновления знакомства Павел Борисович должен был, конечно, взять на себя. Быстро пожав ассистенту руку и попросив его помочь Инне Александровне вынести из вагона оставшиеся вещи, он подошел к рыженькому.
– Здорово, – сказал он, едва не раздавив в своей лапе вялую ладонь оробевшего юноши. – А я тебя помню по «Шкиде». – Ты был тогда маленький, шустрый и самый рыжий.
«Как вы думаете, какие чувства я тогда испытывал? – спросил автора этой книги Николай Ильич Годовиков во время беседы с ним в начале апреля 2003 года. – Он был тогда уже большим артистом, а мне только-только стукнуло восемнадцать. Так началась наша дружба. Я просто боготворил его. Мне казалось, что его должны, нет – обязаны! – любить все…»
Так оно и получилось. Забавная и любопытная деталь. По сценарию Верещагина звали Александром. Но на первой же съемке актриса Раиса Куркина, экранная жена Павла Борисовича, непроизвольно переименовала забубенного таможенника в Пашу, и сколько ни бился с ней режиссер, сколько ни сняли дублей, всякий раз выскакивало из нее это имя: Паша – и все тут! Мотыль сдался. Так Александр Верещагин превратился в Павла Верещагина, что в глазах Коли Годовикова явилось убедительным доказательством общественного признания высоких человеческих достоинств его кумира. Но если бы наивный простодушный «Петруха» обладал способностью заглядывать в чужие души, он увидел бы, что самого Павла Борисовича утрата экранного имени и обрадовала, и огорчила. Обрадовала потому, что приятно, конечно, когда товарищи по съемкам так быстро признают тебя за своего. А огорчила – Верещагин, получивший его, Луспекаева, имя, должен был умереть. Это усиливало предчувствие Павла Борисовича о своей скорой смерти – не на экране, а в жизни…
Иначе, то есть чтобы Павла Борисовича не полюбили, и быть не могло. Все, начиная от артистов и кончая рабочими на съемочной площадке, видели, как он работает – полная самоотдача, никаких скидок на инвалидность. Едва в съемках образовывался перерыв, Павла Борисовича немедленно окружали люди: и свой брат актер, и бутафоры с декораторами, и подсобные рабочие, как питерские, так и местные. Истории, одна другой забавней, сопровождаемые бесподобными мимическими «показами» прямо-таки фонтанировали из него. Его местонахождение на тот или иной момент уверенно устанавливали по смеху, исторгаемому неожиданно сгруппировавшимися людьми.Как настоящий следователь не начнет расследования, пока не проникнется атмосферой места преступления, так Павел Борисович не считал возможным приступать к работе, не вжившись в место действия, не сделавшись для него своим. С особенным пристрастием осмотрел он «свой дом», то есть дом Верещагина – декорацию на натуре, построенную дотошнейшим, интеллигентнейшим, болезненно вздрагивавшим от любого матерного слова, художником Валерием Петровичем Костриным, – и остался весьма доволен. Никогда не было у них с Инной Александровной загородного дома, так хоть в кино будет.
Опираясь на палку, то и дело погружавшуюся в сыпучий песок по самый набалдашник, или на плечо Инны Александровны, а чаще всего на плечо не покидавшего его ни на минуту «Петрухи», то бишь Коли Годовикова, выходил Павел Борисович к кромке берега, на котором разворачивались драматические события фильма, где его герою суждено было принять смерть «за други своя». Ибо Верещагин, как и Евангелист Иоанн, был убежден: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Как Верещагин полюбил, словно сына, молоденького красноармейца Петруху, так Луспекаев полюбил молоденького актера Колю Годовикова.
Через пару дней после возобновления знакомства, осознав, должно быть, что со времен «Шкиды» Николай если и изменился, то в лучшую сторону, Луспекаев неожиданно упрекнул:
– Что ты все Пал Борисыч да Пал Борисыч? Дядя Паша я для тебя, усек?
Так и пошло с тех пор «дядя Паша», и длилось это до того времени, когда жизнь навсегда развела их. «Но Павел Борисович не терпел фамильярности, – утверждает Годовиков, подтверждая подобное мнение, высказанное много лет раньше Владимиром Рецептером, – умел установить должную дистанцию между собой и теми, с кем общался. А желающих слыть его закадычными приятелями было предостаточно».Съемочная группа спешила. Приближался период свирепых осенних штормов на Каспии. Съемки начались на следующий день по прибытии Павла Борисовича в Махачкалу. Автобусы доставили съемочную группу на берег моря, до съемочной площадки оставалось не более пятисот метров, но какие это были метры – по вязким и сыпучим барханам. Даже здоровые люди выбивались из сил.
Съемочную технику: камеру со всеми ее прибамбасами – осветительные приборы, бутафорию и т. д. – подвозили на санях, прицепленных к бульдозеру. Предложение Мотыля воспользоваться этим транспортом Павел Борисович с негодованием отверг: хорошо он будет выглядеть, взгромоздившись на груду вещей, как седло на корове.
«Опираясь на палку и на плечо сопровождавшего ассистента или чаще жены – самоотверженной Инны Александровны, он вышагивал медленно, мучительно», – вспоминал много лет спустя Владимир Яковлевич, забыв упомянуть не менее самоотверженного «Петруху».
А ведь надо было после такого перехода входить в кадр, исполнять указания режиссера и оператора и… играть!.. Поставить бы западных звезд, того же Рода Стайгера, в те условия, в которых работали и работают наши актеры, да посмотреть, что у них получилось бы… Но лучше не надо. Умней подтянуть уровень нашего кинопроизводства к их уровню.
Помимо неожиданного, хоть и вполне понятного, превращения таможенника Верещагина из Александра в Павла, первый съемочный день запомнился его участникам еще тремя выразительными событиями, которым при желании легко придать символическое значение и которые, как вместе взятые, так и каждое по отдельности, можно истолковать по-разному – в зависимости от того, кто их истолковывает, какие тайные и явные желания и надежды обуревают истолкователя на тот момент. Естественно желать исполнения самых лучших, самых радужных надежд. Редко кто, подобно пророку Даниилу, может толковать беспристрастно, с безоглядной смелостью.
Бутылка шампанского, брошенная Владимиром Мотылем в борт баркаса, на котором должен был вступить в схватку с басмачами и погибнуть доблестный Верещагин, разбилась лишь с третьего раза.
Мотыль тут же предсказал трудное прохождение фильма в курирующих инстанциях – в худсовете «Мосфильма», в Госкомитетах по кинематографии РСФСР и СССР. Предсказание режиссера сбылось полностью – «Белое солнце пустыни» имело трудную предэкранную судьбу…
Как истолковал это первое событие Павел Борисович Луспекаев, осталось неизвестным. Можно только догадываться – как…
Съемка была в разгаре, когда атмосфера вдруг начала сгущаться, темнеть, пока не наступил полный мрак. Диск солнца сделался черным. Тут кто-то вспомнил, что по радио предупреждали о солнечном затмении.
В дополнение к предсказанию Мотыля кто-то пошутил, что в мозгах чиновников комитетов сначала потемнеет, а потом посветлеет, и с фильмом все будет в порядке. Сбылось и это шутливое предсказание, с одной лишь, впрочем, существенной поправкой: посветлело не только в мозгах чиновников комитетов, но и в мозгах самого Мотыля, ибо многое в «придирках» к его творению было вполне справедливым, позитивным, как нынче выражаются. Сумев признать это, режиссер сумел донести фильм до блистательного завершения…
Павел Борисович отмолчался и в этот раз.
Когда меняли отработанную точку съемки на следующую, все тот же Мотыль поймал боковым зрением какой-то странный блестящий объект дискообразной формы, то стремительно перемещавшийся над территорией, прилегавшей к месту съемки, то зависавший над нею. Съемочная группа чутко воспринимает перепады в настроении режиссера-постановщика, особенно если он наделен сильным волевым характером. Первая реакция – что случилось? Чем шеф недоволен?.. Так было и в этот раз. Проследив за изумленным взглядом Владимира Яковлевича, все участники съемок зафиксировали то же самое, что немного раньше зафиксировал он.
Толковать это событие никто не рискнул. Записные материалисты, ревнители прописных истин назовут стечение трех обстоятельств, столь разительно отличающихся одно от другого, разумеется, случайным, а попытку автора усмотреть в нем некий потаенный смысл вздором. История культуры, однако, щедра фактами, свидетельствующими об особенной – мистической – судьбе многих шедевров литературы и искусства. Укажем хотя бы на сложную, далеко не завершившуюся еще судьбу «Тихого Дона» или Янтарной комнаты. Так почему бы такому шедевру кинематографа, как «Белое солнце пустыни», не обрести похожую судьбу? И не полезней ли вопреки наивному желанию отмахнуться, поразмыслить, что пытается втемяшить в наши ленивые головы Всевышний через явленные им события? А ведь пытается же!..
По издавна заведенной традиции «первый кадр» полагается «омыть». Суеверные киношники, каким бы трезвенником кто ни оказался, не осмеливаются нарушить эту традицию. Не нарушила ее и съемочная группа «Белого солнца пустыни». Ритуал, освященный многими поколениями кинематографистов, состоялся в просторном номере Мотыля. Не только Инна Александровна и юный Годовиков заметили, что в начале «омывки» Павел Борисович был задумчив, сосредоточен в себе и мрачен.
Работа съемочной группы Мотыля и Розовского организована была сравнительно четко. Здесь не допускалось вмешательство в работу режиссера с актерами кого бы то ни было, – нередкое явление в группах слабых режиссеров, – даже оператора. На съемочной площадке Мотыля – Розовского каждый занимался своим делом. Вздорного «светляка», вздумавшего бы во время работы выяснять справедливость существующих трудовых отношений, здесь немедленно вернули бы в Питер – пусть профком киностудии растолкует ему, что к чему.
Отличную организацию съемок оценили и местные жители, нанятые в качестве подсобной рабочей силы.
Эдуард Александрович Розовский любил и уважал актеров. А любя и уважая, делал все от него зависящее, чтобы облегчить их тяжкую ношу.
Определяя, например, фокусировку объектива на протяжение всей предстоящей актерской мизансцены, он пользовался услугами своих помощников, давая актерам возможность отдохнуть. И свет выставлял так же, лишь поправляя его, когда актер занимал свое место в кадре.
Так же вел себя и главный художник фильма Валерий Петрович Кострин. При организации кадра часто требуется оперативная поправка декорации. Причем делать это надо так, чтобы она не «заплясала» в эпизоде – в одном кадре стоит так, а в следующем этак. Валерии Петрович вносил поправки настолько продуманно, что их ощущала лишь операторская группа, да и то потому, что трудилась в теснейшем с ним согласии.
Подлинным мастерам своего дела нет нужды демонстрировать свою власть…
Все это, конечно, лишь облегчало положение артиста. Но готовность к работе оставалась у него стопроцентной. Человек, случайно оказавшийся на съемочной площадке, ни за что бы не догадался, как ему трудно.
«Часто после команды «мотор», – свидетельствует Мотыль, – могло показаться, что страдания его уходили. Он был жаден на дубли. Если оставалось малейшее сомнение в сыгранном, – как бы долго ни длилась съемка, какая бы ни стояла жара».
Какой ценой оплачивалась такая «жадность», знали не все. «Однажды, после команды «Стоп! Снято!» Павел Борисович оперся на мое плечо и тихо сказал: «Пойдем к морю», – вспоминал Николай Ильич Годовиков в упоминавшейся уже беседе. – Мы вышли на берег, сели у самой воды. Я помог ему снять сапоги и протезы. Он сунул свои культи в воду и замер, сомкнув веки. По снулым щекам его текли слезы. Мне стало тяжело, неудобно, но оторвать от него взгляда я не смог. Я был как под гипнозом и готов сделать все, чтобы ему не было так больно. Вдруг он очнулся, резко повернулся ко мне, строго посмотрел в глаза и сказал: «Ты этого не видел! Не было этого! Пошли купаться».
Как более тридцати лет тому назад, так и теперь Николай Ильич уверен, что Павел Борисович скрывал свои мучения, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, не отягощать окружающих постоянным выражением сочувствия. Это, разумеется, так, но не совсем. Утративший по инвалидности работу в театре, артист не мог, естественно, не испытывать опасений за свое будущее в кино. Далеко не каждый режиссер рискнет пригласить актера, даже очень хорошего, от состояния здоровья которого зависит, будет фильм сдан в срок или не будет. Ведь задержка с запланированным сроком сдачи неизбежно повлечет за собой лавину административных репрессалий, самая неприятная из которых – вычеты из постановочных.
Так что запрет Павла Борисовича Николаю Годовикову не распространяться о его мучениях понятен в полном объеме.
Как и его старший товарищ и друг, юный Годовиков был «жаден» на дубли, хотя, разумеется, не всегда осмеливался попросить лишний – не тот, как говориться, авторитет. И так же, как Павел Борисович, любил сниматься без репетиций – им обоим требовалось лишь подробно обговорить сцену, прояснить ее психологическую подноготную и напомнить, какой эпизод будет перед снимаемым, а какой после… Это сближало актеров – начинающего и находящегося в полном расцвете творческих возможностей – еще больше.
А тоска о театре преследовала Павла Борисовича постоянно и с нарастающей силой. Однажды Коля Годовиков, которого Инна Александровна, вынужденная вернуться в Петербург, так как начинался новый учебный год и надо было собирать в школу Ларису, попросила присмотреть за оставляемым мужем, стал невольным свидетелем такой сцены: сидя у себя в номере, Павел Борисович твердил: «Ну за что? Я ведь могу, могу?!.»
Минуты тоски и отчаяния проходили, и Павел Борисович просил «Петруху» позвать одного гитариста из местных жителей, с которым они познакомились на съемочной площадке. Гитарист охотно принимал приглашение, и тогда весь этаж, на котором расположен был люкс Луспекаева, слушал его задушевное пение. «Пел он, – как не слишком оригинально констатирует Николай Ильич, – сердцем… Он очень полюбил песню Окуджавы «Ваше благородие» и мог петь ее сотни раз в день. При этом, не замечая иногда, что из его глаз катятся слезы. Мне и тогда казалось, а теперь я в этом уверен, что в такой миг дядя Паша пел о себе».Владимир Яковлевич Мотыль добился для Луспекаева высшей оплаты за один съемочный день – семьдесят рублей. Деньги по тому времени баснословные. Для сравнения скажем, что месячная зарплата воспитательницы детского сада была сорок пять, а средняя зарплата инженера – сто десять рублей.
Словом, кошелек Павла Борисовича не пустовал, и поскольку строгий женский контроль, осуществлявшийся до этого Инной Александровной, отсутствовал, а денег он никогда не жалел, то и частенько «разрешал» себе – не в ущерб делу, конечно. Гитарист был мусульманин, но ради хорошей компании, да и хозяин был наполовину кавказцем, и он «принимал на грудь»…
Едва ли не каждодневные эти бдения, часто затягивались за полночь. Страшась остаться в пустом номере наедине с изнуряющей бессонницей, Павел Борисович затянул бы их до утра, до того часа, когда нужно отправляться на съемки, но Коля, утомленный событиями минувшего дня, частенько засыпал прямо за столом, прильнув щекой к прохладной лакированной столешнице, а гитарист обязательно уходил незадолго до полуночи, ссылаясь на родителей, жену и детей, ждущих его дома, и являя собой как бы живой упрек Павлу Борисовичу, честно считавшему себя неважным семьянином.
Приехав на съемочную площадку, Павел Борисович и Николай шли купаться. Утренняя волна, вобравшая в себя прохладу ночи, освежала и бодрила. Чистый воздух усугублял оздоравливающее действие морской воды. Плавал Павел Борисович действительно как рыба, Полока сказал Мотылю истинную правду. Словно могучий Левиафан ворочался он в набегающих одна за другой волнах, забывая на какое-то время о своем страшном недуге, с каждым днем забиравшим над ним все большую власть. Помня о наказе Инны Александровны не оставлять Павла Борисовича без присмотра особенно во время купания, Коля плавал и нырял рядом, хотя угнаться за своим кумиром ему бывало трудновато. «Дядя Паша» словно не признавал усталости, словно своей неукротимой жизнерадостностью мстил болезни за все унижения, которым она его подвергала.
«Ценой каких усилий отодвигал он физические страдания во время съемки! – горестно воскликнет Владимир Яковлевич Мотыль, когда придет время отдать долг памяти почившему актеру. – Ценой каких мук давалась ему та правдивость, при которой никто из зрителей не только не заподозрил в Верещагине инвалида, но увидел образ былинного богатыря!»
И тут же он убежденно констатирует:
«Работа Луспекаева в фильме «Белое солнце пустыни» была подвигом в самом высоком и буквальном смысле этого слова. Это была победа человеческого духа над обстоятельствами, казалось бы, безвыходными».
А Павел Борисович просто работал, делал свое дело. Никто и не заметил, как и за какой промежуток времени его авторитет в группе стал бесспорным.
Как-то Анатолий Кузнецов, он же красноармеец Сухов, среди своей амуниции не обнаружил огромных, похожих на будильник, наручных часов, составлявших особенный предмет гордости Федора Ивановича. Часы были бутафорские, ценности сами по себе никакой не представляли. Но без них нельзя было продолжать съемку. На изготовление дубликата ушло бы много времени. А каждый день простоя съемочной группы, состоящей из нескольких десятков человек и оснащенной дорогостоящей разнообразной техникой, – это огромные средства, потраченные зря. Тщательные и упорные поиски ни к чему не привели. Вскоре стало ясно, что часы украли – не денег ради, а памяти. Ясно было и то, что «свои» – москвичи и питерцы – подложить такую свинью не могли. Сперли, стало быть, местные, кто-то из них. Но как обвинить гордых и вспыльчивых джигитов в столь неблаговидном поступке?
Не предавая факт кражи огласке, стали думать, как быть. Часы нужно было «обнаружить», чего бы это ни стоило. За сетованиями, предположениями и предложениями не заметили, как Павел Борисович отошел от руководства группы и «втерся» в группу наемных рабочих. Они встретили его настороженно, почуяв, видно, что в группе что-то стряслось.
Вскоре они хохотали, увлеченные рассказами и анекдотами, как всегда, щедро посыпавшимися из артиста, полюбившегося им за «простоту». Между делом Павел Борисович пожаловался, что пропали часы Сухова, а без них хоть останавливай съемку и возвращайся в Питер…
Часы «обнаружились» в одном из автобусов, на одном из сидений. Их подбросили…Наступил последний день работы съемочной группы на «натуре». Люди устали, поизносились, поистратились, рвались домой. «Уже шел октябрь, дули сильные ветры, и Каспий был так неспокоен, что порт не давал «добро» рыбацким судам, – вспоминал Мотыль. – Мы вымолили у портового начальства выход в море. После дубля, где Верещагин, покидав за борт бандитов, смотрит им вслед и говорит: «Помойтесь, ребята!» – у меня осталось ощущение незавершенности куска. Но шторм усиливался, надо было успеть снять другие кадры, да и Луспекаев был основательно вымотан (как правило, он не допускал дублера). Мы, участники съемок, на здоровых ногах с громадным усилием держались на палубе. Каково же было ему? К тому же во многих кадрах Луспекаев снимался в мокрой одежде, и на ветру между дублями у него зуб на зуб не попадал.
Скрепя сердце, я произнес: «Снято» – слово, после которого осветители сдвигают приборы, а операторы «сбивают» камеру. Но Луспекаев почувствовал мою неудовлетворенность и закричал:
– Не разбегайтесь! Давайте дубль.
И мне виновато:
– Чего-то недотянул? Сейчас будет как надо.
И откуда бралось это дьявольское его чутье?..
В новом дубле он, будто после чарки водки, лихо выдохнул, и этот выдох был той точкой, которой недоставало в эпизоде. Этот кадр с «выдохом» вошел в картину.
Съемка окончена. Луспекаев грузно опускается на палубу. С него стаскивают холодную мокрую рубаху, дают спирту. С потемневшим, усталым лицом сидит он, приходя в себя…»
«Выдох», о котором говорит Мотыль, был не только той точкой, которая завершила отснятый эпизод. Он же завершил и звуковой эквивалент этого эпизода, созданный Павлом Борисовичем в день его памятной встречи с Владимиром Яковлевичем пару месяцев тому назад на тихой питерской улице Торжковская. «Дьявольское чутье» опиралось на неутомимую, беспрерывную внутреннюю работу артиста, на «домашние заготовки», на те «личные кладовые», подмеченные у Павла Борисовича Леонидом Викторовичем Варпаховским. Ведь и у концовки, что так восхитила Владимира Мотыля, имелся свой прообраз – далекий, семилетней давности.
В 1961 году Павел Борисович снимался в небольшой роли аэродромного техслужащего в фильме «Балтийское небо». В одном из эпизодов он должен был «поставить на свое место» самовлюбленного доктора, которого играл Владислав Игнатьевич Стржельчик, за сальный оскорбительный намек. И текст был неплохой как будто, и актеры замечательные, а эпизод «не шел», выглядел надуманным, неорганичным. И уж совершенно не «вытанцовывалась» концовка.
Павел Борисович задумался и неожиданно сказал:
– Текста тут не будет.
– А что будет? – опешил режиссер-постановщик Владимир Венгеров. – Как будет?
– А вот как, – отозвался Луспекаев и отошел за угол домика-медпункта. Оттуда он поманил обидчика пальчиком, деликатно так поманил, словно приглашая на рюмку водочки под хрустящий соленый огурчик или квашеную домашнюю капустку.
Крайне заинтригованный таким поведением коллеги, не почуяв никакой опасности, исходящей от партнера по эпизоду, Стржельчик направился вслед. Когда он приблизился вплотную, Павел Борисович невозмутимо сгреб его за грудки и… посадил в таз под уличным умывальником…
В таком виде этот эпизод и вошел в фильм, не слишком-то богатый подобными сочными эпизодами. А Павел Борисович «рассчитался» наконец-то с Владиком за его: «Помни, Паша, помни! Это должен помнить каждый!»
Иван Иванович Краско, ставший невольным свидетелем этого эпизода, до сих пор не может удержаться от смеха, вспоминая физиономию Владислава Игнатьевича, в тщательно отутюженном мундире с до нестерпимого блеска надраенными металлическими пуговицами восседающего в тазу с помоями…
Возникнет, очевидно, вопрос: какой же это прообраз, в чем тут сходство? Здесь один поступок, выражающий взаимоотношения действующих лиц, там – совершенно иной… Сходство внутреннее, в существе поведения персонажей, сыгранных Луспекаевым: и Кузнецов в щекотливом положении с доктором, и Верещагин в смертельной схватке с басмачами «черного Абдуллы» ведут себя одинаково – по-мужски и – да простится мне, убежденному противнику «пламенного интернационализма»! – очень по-русски.
Съемка внутренних интерьеров «дома Верещагина», древней крепости и др. проводилась в декорациях, выстроенных в павильонах «Ленфильма» в Сосновой поляне и в 3-м павильоне «Леннаучфильма» на Обводном. К этому времени поиздержались не только члены съемочной группы, вернувшиеся из длительной экспедиции. Изрядно «похудела» и смета фильма. Экономили буквально на всем. «Голь на выдумки хитра» – гласит народная мудрость. Зритель, завидовавший обилию паюсной икры, набуханной женой Верещагина в деревянную миску, и мысли, конечно, не допускал, что посудина была с двойным дном и что второе – верхнее – дно покрывалось совсем небольшим – около килограмма – количеством дефицитного и дорогостоящего продукта. Не догадывался зритель и о том, что Павел Борисович, будь его воля, слопал бы эту икру и без понуканий «жены». А как делили потом эту икру, стараясь никого не обидеть!..
В канун павильонных съемок Мотыль, по обыкновению остановившийся в гостинице «Октябрьская», собрал в своем номере актеров: Анатолия Кузнецова, Раису Куркину, Николая Годовикова и, конечно же, Павла Борисовича Луспекаева якобы для «репетиционного застолья». Все почему-то догадывались, что собрал он их вовсе не для этого. Пока актеры, привыкшие друг к другу за время киноэкспедиции в Дагестан и отвыкшие за тот срок, что минул после экспедиции, снова «притирались» друг к другу, Владимир Яковлевич кому-то позвонил. Глазастый и все замечающий «Петруха» отметил, что фраза, произнесенная Мотылем в телефонную трубку, походила на заранее условленный пароль. И вообще Мотыль вел себя явно конспиративно. «Читка, значит, для отвода глаз, – догадался Коля. – На самом деле будет что-то другое».Так оно и оказалось. Несколько минут спустя после загадочного звонка Мотыля в дверь номера постучались. «Войдите!» – торжественно провозгласил просиявший Владимир Яковлевич.
Дверь медленно отошла от косяка, и присутствующие увидели гитару, что, естественно, удивило их. Затем показалось улыбающееся лицо с усами полоской. Вошел невысокий человек с мягкими, деликатными движениями. Не сразу и поверили собравшиеся, что их почтил своим посещением Великий Бард – сам Булат Окуджава!..
Юный расторопный Годовиков был тут же откомандирован в буфет. Его энергичными стараниями стол вскоре уставился коньячными и водочными бутылками, разнообразными закусками. Финансировал пирушку Мотыль. Не остался в стороне и Булат.
В процессе застолья выяснилось, что знаменитый гость успел посмотреть материал, отснятый под Махачкалой, и остался доволен им. Все актерские работы он нашел превосходными и выразил надежду, что съемки в павильонах окажутся на уровне, достигнутом при съемках на натуре.
Наконец его попросили спеть. Начать, может быть, «Вашим благородием?» – чтоб в тему, так сказать. Взглянув на Павла Борисовича, Великий Бард вдруг передал гитару ему, едва не опрокинув при этом бутылку с лимонадом, поставленную для запивки крепких напитков. Удивленный Павел Борисович гитару принял. И, повинуясь просящему взгляду Окуджавы, исполнил песенку Верещагина.
– Вот так и пойте, – при общем вопросительном молчании одобрительно произнес Бард и, приняв гитару обратно, запел совсем другую песенку…
…Вечер, проведенный в номере Мотыля, опять сблизил актеров, отвыкших было друг от друга. Съемки в павильонах прошли быстро и на высочайшем художественном уровне…
Если внимательно присмотреться к театральным и особенно к телевизионным ролям, сыгранным Павлом Борисовичем в так называемый «товстоноговский период» его творческой карьеры, можно без особенного напряжения обнаружить и «родословную» Верещагина. Требуется лишь проявить немного дерзости…
Для начала приведем несколько выдержек из статьи мартовского номера «Советского экрана», опубликованной после премьеры «Белого солнца пустыни» в Центральном доме кино в марте 1970 года.
«Играет Верещагина… актер редкой и сильной индивидуальности, – пишет рецензент. – Луспекаев сумел показать его трогательное простосердечие, наивность, незащищенность… Нелепый человек? Да! Буйная головушка? И это! И еще – пленительный романтический характер, в котором под конец взорвутся благородные силы. И кинется он, очертя голову, в схватку с бандитами и погибнет».
Попробуем припомнить, к кому из ранее сыгранных персонажей Луспекаева наиболее приложимы слова, произнесенные рецензентом, для кого из них перечисленные качества – «трогательное простосердечие, наивность, незащищенность» – органичны и естественны?..
Да, конечно же, для… Ноздрева!..
Неубедительно? Натяжка?.. Обратимся к помощи иных авторитетов и вспомним, как отзывался о Ноздреве в ночном разговоре с Александром Белинским сам Павел Борисович: «Слушай, а Ноздрев человек безумно трогательный ».
А это, Юрия Владимировича Толубеева: «…мы часто смеялись на репетициях. Но иногда в его характеристике Ноздрева проскальзывала и гоголевская грустная интонация, и тогда мы внимательно приглядывались к нему».
Припомним заодно отмеченные в Ноздреве – Луспекаеве Александром Володиным жажду дружбы, готовность «принять и полюбить всякого, кто способен ответить на эту жажду дружбы».
Обратимся, наконец, к самому… Николаю Васильевичу Гоголю.
«С тобой, – говорит он Чичикову устами Ноздрева, – никак нельзя говорить как с человеком близким … Никакого прямодушия, ни искренности…»
А ведь Петруха в безупречном исполнении Николая Годовикова – само прямодушие, сама искренность…
Вспомним взгляд Верещагина – Луспекаева, когда Сухов сообщил ему о том, что Абдулла «зарезал Петруху» – это взгляд человека, готового без колебаний положить душу свою за друзей своих.
Александр Володин говорит о худшем варианте развития личности Ноздрева. Луспекаев – о лучшем, вполне возможном…
Был и еще один прообраз Верещагина, правда, не на сцене и не в телеспектакле, а в жизни. Это… сам Павел Борисович.
Верещагин переживает такую же жизненную драму (может быть, уместней сказать: трагедию?), какую переживал артист Луспекаев – отлучение от дела, обессмыслившее вдруг жизнь. Очень точно подметил Коля Годовиков, что, исполняя песенку «Ваше благородие», Павел Борисович пел не столько о Верещагине, сколько о себе…
Иван Иванович Краско в своих раздумьях о театре и о судьбах людей театра постоянно обращается к личности давно ушедшего из жизни Павла Борисовича, с которым ему, в общем-то, не так уж долго довелось поработать на одной сцене. Обращается он «к великой тени» любимого коллеги и в своей интересной книге «Жил один мужик».
Он ставит любопытный вопрос: почему жизнь распорядилась так, что Верещагин Луспекаева затмил Сухова? А ведь Анатолий Кузнецов сыграл свою роль, честно говоря, не хуже. И персонаж его – главный.
Иван Иванович полагает, что это произошло потому, что «Паша смертью своей потряс Россию…».
С недостаточностью, скажем так, этого объяснения согласиться никак нельзя. А разве жестокое, бессмысленное убийство Петрухи, чистого, ни в чем не повинного мальчишки, которого «черный Абдулла» насадил на штык, как жука на булавку, потрясла меньше?.. А гибель Гюльчетай?.. И гибель самого Абдуллы, признаюсь, вызвала у меня невольное сожаление – по причине, указанной ниже. И не у одного только у меня, наверно…
Естествен вопрос, возможно кощунственный: а потрясла бы нас гибель Сухова так же, как потрясла гибель Петрухи и Верещагина? Кощунственный, но естественный ответ: вряд ли.
И вот почему. В отличие от Петрухи и Верещагина, в общем-то не по своей воле оказавшихся в эпицентре басмаческих разборок – Петруху большевистские комиссары явно насильно загнали в Красную Армию, а Верещагин и вообще ни при чем, – Сухов – сознательный борец за советскую власть, за смутное «светлое будущее». Он солдат, обязанный бороться за то, что исповедует. Его вступление в разборку только на поверхностный взгляд случайное. На уровне подсознания мы, зрители, ощущаем неосновательность, фальшь идеологической подоплеки поведения Сухова. Он декларативен. Провозглашая женщин освобожденного Востока «величайшей ценностью», он к ним по существу равнодушен. В отличие от Петрухи ему не интересно, чтобы кто-нибудь из них показала ему свое личико.
Он убежден, что многоженство – плохо, но не удосуживается озадачиться элементарным вопросом: почему же огромный Восток, который, по его же словам, дело тонкое, веками терпит такой уклад общественной жизни. Сухов прямо-таки до отказа напичкан большевистскими банальностями. Абдулла, например, имеющий двенадцать жен, в его понимании – эксплуататор. Он и мысли не допускает, что эксплуатором-то, скорее всего, можно считать его самого, а не Абдуллу – не случаен ведь эпизод, когда пытливая, живо интересующаяся всем, что видит вокруг, Гюльчетай, сама, разумеется, не подозревая о том, пытается наглядно растолковать Сухову преимущества многоженства не только для мужчин, но и для женщин Востока. Тяготы семейной жизни, которые двенадцать «забитых» жен Абдуллы распределяют между собой, «ненаглядной Екатерине Матвеевне» приходится одолевать одной. И неизвестно еще, как поступит с нею Федор Иванович, вернувшись домой с полей сражений за мировую революцию, и, пообвыкнув, быть может, как Нагульнов с Лушкой, – во имя той же мировой революции, разумеется.
Гюльчетай напрасно пыталась. У товарища Сухова ответ готов на все: «Вопросы есть? Вопросов нет…» Его революционная аргументация на уровне аргументации тех матросиков, что за Ленина или партию кому угодно глотку готовы перегрызть…
И мы, зрители, подсознательно отметили: товарищ Сухов бесцеремонно вперся со своим – причем дурным – уставом в чужой монастырь, а мы, как нормальные люди, подобное отношение не одобряем. Не потому ли гибель Абдуллы и вызывает чувство сожаления, что мы, вольно или невольно, видим в нем в первую очередь защитника устава своего монастыря, а не бандита?..
Гибель Сухова, таким образом, явилась бы для нас естественной гибелью человека, отстаивающего свои политические убеждения. А такая смерть слишком сильно потрясти не может: понимал же человек, на что шел. «За что боролся, на то и напоролся».
Гибель же Петрухи и Верещагина противоестественна, ее не должно было быть. Петрухой и Верещагиным вполне мог быть воспринят отчаянный призыв Достоевского: «Смирись, гордый человек!» Не умом, так сердцем уразумели бы они, что не к слепому повиновению, не к раболепному послушанию призвал их пророк, но к спокойствию и уверенности духа, которое к созиданию и к спасению.
Сухова этот призыв наверняка возмутит: Как это «смирись»? Перед кем? Кто ты такой, чтоб я перед тобой смирялся? «Человек – это звучит гордо!»
В том, что гибель Петрухи и Верещагина стала возможной, есть доля вины и товарища Сухова. Якобы мятежный, якобы «пламенный борец за светлое будущее», он, по существу, бездушный и беспрекословный раб тех догм, в которые уверовал, приняв их мнимую внешнюю правдивость, точней, правдообразие за истину в последней инстанции, раб их авторов – провокаторов, которые «на горе всем буржуям мировой пожар раздули», использовав в качестве растопки и топлива миллионы доверчивых петрух и Верещагиных. Холокост русских – вот что осуществляли эти провокаторы вселенского масштаба, если называть вещи своими именами…
Возникает и еще один вопрос, не менее, быть может, «кощунственный», чем те, что уже прозвучали: а смог ли бы Сухов, подобно Верещагину, положить жизнь свою за человека, которого хоть и полюбил, но знал всего лишь несколько часов? Сомнительно. Федор Иванович привык «мыслить» глобальными категориями: положить голову за мировую революцию – это еще куда ни шло. А за какого-то Петруху из-под Курска… Это же не Клара Цеткин и даже не Яков Свердлов!..
А вот Верещагин смог. Это-то нас и потрясает. Потому что в его поступке мы угадываем самих себя, свою способность к самопожертвованию ради самых естественных понятий, как-то: дружба, бескорыстие, любовь…
Не согласиться же с Иваном Ивановичем Краско в том, что Анатолий Борисович сыграл не хуже Луспекаева, невозможно. Роль сделана великолепно, выше, как говорится, всех похвал. Сыграй актер не так ярко, обаятельно и самобытно, слабости идеологической подоплеки его образа стали бы еще более ощутимыми, и фильм, возможно, не стал бы тем, чем стал – шедевром русского и мирового кинематографа, в котором спели свои «лебединые» песни Николай Годовиков, Николай Бадьев, Анатолий Кузнецов, Каха Кавсадзе и Павел Борисович Луспекаев…Весной 1970 года, незадолго до своей скоропостижной кончины в одиночном номере гостиницы «Минск», Павел Борисович, приехавший в Москву сниматься в телесериале «Вся королевская рать», пригласил Михаила Михайловича Козакова на просмотр фильма «Белое солнце пустыни», демонстрация которого началась в кинотеатре «Москва».
Состоявшийся после киносеанса разговор артист завершает резюме, в котором, как мне кажется, обозначил основную составляющую, определившую грандиозный успех фильма: «Я, знаешь, доволен, что остался верен себе. Меня убеждали в картине драться по-американски, по законам жанра. Мол, вестерн и т. д. А я отказался. Играю я Верещагина, «колотушки» у меня будь здоров, вот я ими и буду молотить. И ничего намолотил…»
Чем внимательней вчитываешься в этот текст, тем сильней становится ощущение, что Михаил Михайлович или не совсем точно запомнил слова Павла Борисовича, или сознательно подсократил, подредактировал их. Логичней, если фраза бы звучала так: «Я, знаешь, доволен, что остался верен себе. Меня убеждали в картине драться по-американски, по законам жанра. Мол, вестерн и т. д. А я отказался. Играю я Верещагина, русского мужика, «колотушки» у меня будь здоров, вот я ими и буду молотить по-нашенски. И ничего намолотил…»
«Дожил, – сказал бы Верещагин. – Уж назвать себя тем, кто ты есть по крови, вроде как грешно…»
Не отрекаясь и от армянских корней, Павел Борисович считал себя глубоко русским человеком. Сыграть Верещагина усредненно-интернациональным, на что, как видно, его подталкивали, он попросту не мог, не изменив своей актерской природе, не изменив принципам, воспринятым им в «Щепке» от своего любимого наставника Константина Александровича Зубова. Верными себе остались и другие исполнители: Анатолий Кузнецов, Николай Годовиков, Николай Бадьев и Раиса Куркина. Национально четко обозначенных персонажей играют Спартак Мишулин и Кахи Кавсадзе.
Следуй творческий коллектив «Белого солнца пустыни» «законам жанра», наверняка мы в лучшем случае имели бы пародию на вестерн, более или менее удачную, в худшем – досадную неудачу. К счастью, этого не случилось, вовремя осознав несостоятельность первоначальной творческой установки, Владимир Мотыль также нашел в себе силы остаться верным себе.
«Белое солнце пустыни» – это фильм, успех которого определяется в первую – ив последнюю! – очередь именно тем, что он истинно русский. В его ярких, сочно поданных персонажах воплощены лучшие черты национального русского характера, в них мы узнаем себя. Менталитет фильма прозрачен и бесконечно обаятелен. Так обстоит дело со всеми фильмами – от «Баллады о солдате» и «Летят журавли» до «Утомленных солнцем» и «Особенностей национальной охоты», имевших успех дома и за рубежом. Фильмы же приверженцев менталитета, так сказать, общечеловеческого – значит, обезличенного, – обречены на скорое и прочное забвение.
Фильм «Белое солнце пустыни» создавала интернациональная бригада: азербайджанцы, армяне, дагестанцы, евреи, украинцы, русские… В ней ничего не делили, но все опускали в общую копилку. В результате – шедевр национального и общечеловеческого значения. Так, может, перестать делить и растаскивать, не обогащая, а обедняя себя? И разве плохо, если название «копилки» – Россия?..
Накануне старта в космос космонавты каждой российской экспедиции обязательно смотрят фильм «Белое солнце пустыни», как бы подзаряжаясь его духовностью. Не это ли предвещало появление НЛО в первый день съемок на песчаном берегу Каспия?..

