Нико Лордкипанидзе
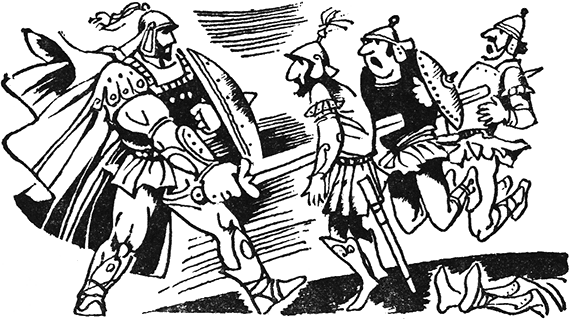
Богатырь
Прангулашвили издавна славились по всей Нижней Имеретии своей богатырской силой. Недаром их часто называли Вешапидзе. И в самом деле они обладали столь же чудовищной силой, сколь и чудовищной прожорливостью. В боях Вешапидзе никогда не притязали на первенство, но кинжалом, величиною с буйволиное ярмо, орудовали так, словно то был легкий прутик.
И применяли они это оружие своеобразно. Если вражеский отряд приближался гуськом, Прангулашвили разили противника прямо в грудь или живот, не разбирая, в кость или мякоть, одним ударом насаживали на острие кинжала по два-три человека и потрошили их, точно поросят. Если же враг наступал развернутым строем, они били наотмашь от правого уха к левому бедру, сокрушали одним ударом двоих противников, а третий сам валился на землю, то ли от ужаса перед сверкающим лезвием, то ли опрокинутый воздушной волной.
На войну Прангулашвили обычно посылали только одного воина, ни больше, ни меньше, поскольку весь их род состоял из одной семьи.
Кого-то из Прангулашвили так искромсали в бою, что на нем живого места не осталось. Монах Гогия долго глядел на бездыханное тело, лежавшее перед ним в пыли и крови, и, наконец, пробормотал: «Не жилец он на белом свете!» И все-таки монах решил попытать счастье и не покинул брата во Христе на поле брани. «Такому воину и сам святой Георгий не откажет в помощи», — думал он, обмывая раны Прангулашвили и вливая ему в рот вино.
Ран на нем было так много, что не стоило перевязывать каждую в отдельности. Монах наложил сорок тампонов, обсыпал все тело раненого мелко нащипанной корпией и запеленал его в большую простыню, оставив открытыми только ноздри и рот, чтобы он мог свободно дышать.
Монаху долго не удавалось вынуть гигантский кинжал из судорожно сжатой руки Прангулашвили. Пришлось смазать рукоятку салом и полить пальцы маслом. Высвободив, наконец, кинжал, старик вложил его в ножны.
— Что же это со мною приключилось? — с недоумением воскликнул Прангулашвили, придя в себя на третий день.
— Ты ранен, сын мой.
— Где я?
— У меня в келье.
— Дай пить…
— Вот вода, сын мой.
— Спасибо. А давно я ранен?
— Три дня прошло с тех пор.
— Освободи-ка меня от повязок.
— Я и сам хотел осмотреть твои раны.
Монах впал в изумление, увидев вместо зияющих ран едва заметные красноватые рубцы.
Только две раны чуть кровоточили — рассеченное топором плечо да кинжальная рана от лба к носу.
— Дай снова перевяжу, — сказал монах.
— Не стоит, святой отец, присыпь солью, и все.
— Что ты, сынок? Соль ведь жжет, боль такая — не стерпишь!
— Пустяки! Схвачусь с врагом и забуду.
Прангулашвили легко вскочил с ложа, — казалось, вздремнув после обедни, он спешит теперь на веселую пирушку.
— Слава тебе, господи! — воскликнул монах. — Ты создал человека-скалу, и ты же сотворил человека-былинку…
* * *
Прангулашвили долго хранили диковинный кинжал легендарного предка.
Кинжал стоял в углу, и нужно было обладать богатырской силой, чтобы извлечь его из ножен.
Лемех сохи, мотыга, лопаты и топоры, поныне еще принадлежащие семье Прангулашвили, выкованы из чистой стали этого кинжала.
Прангулашвили размножались.
Один из них обеднел до того, что иной раз и пообедать было нечем. И пришлось бедняге много работать, да мало есть, — недаром говорят: «По одежке протягивай ножки».
Как-то приказал он жене приготовить обед на двенадцать человек.
— Хочу за один день промотыжить арендованную землю, потом уйду в лес, авось удастся немного заработать.
Жена приготовила обед и понесла в поле.
— Где же твои помощники?
— Мы только что кончили, разбрелись кто куда. Приготовь-ка ужин получше.
— Благослови их бог… На славу поработали, — сказала жена и ушла.
Вечером муж воротился домой один-одинешенек.
Жена спросила:
— Где же остальные?
— Скоро подойдут. Выкладывай на стол что настряпала!
Хозяйка вынесла на балкон все, что у нее было. Прангулашвили уселся за стол.
— Слава господу богу, да благословит он Глахуа Прангулашвили и жену его Сидонию, — произнес он и опорожнил кувшин вина, разбавленного водой.
— Что ты, что ты! Неужели не подождешь своих помощников?
— Какие помощники! Я сам себе и хозяин и помощник. Угости чем можешь!
— Ох, ослепнуть мне! — воскликнула Сидония и горестно хлопнула себя по щеке. — Наказание господне, зарезала последних двух гусей, ничего в доме не осталось… мерку муки у соседей заняла…
— Начнешь теперь куски считать! Поработал я за двенадцать человек, а то и больше, не все ли тебе равно, кто съест твоих гусей — двенадцать чужих или собственный твой муж?
— Ох, ох, что за человек, ослепнуть мне, на тебя глядючи!
* * *
Богатый помещичий дом. На кухне суетятся слуги, бранятся повара, покрикивает моурав.
— Нарежь баранину! Живее, ишак!
— Жуешь да жуешь, неси гоми к столу!
— Где серебряные ложки?
— Переворачивай, чего зеваешь!
— Блюдо, блюдо мне!
— Барин вина требует!
— Передайте пустой кувшин!
— Просят оджалеши. Черт бы его взял, поналивали во все кувшины этого белого!
— Слей в котел, парень, сами разопьем!
— Некуда! Здесь корка от гоми, там харчо; и достанется же мне от барина за то, что замешкался! Вылью проклятое — и все!
— Дай, братец, кувшин, я его мигом опорожню…
— Будь другом… Смотри-ка, смотри, что он делает? Пьет и пьет… Нет, брат, не осилишь… До дна! Вот так молодец!
Слуга схватил огромный пустой кувшин и кинулся с ним в погреб.
— Как звать тебя, братец? — спросил дворецкий незнакомца.
— Глахуа Прангулашвили… У меня письмо к барину, сделай милость, передай.
— Ладно, а пьешь ты, брат, здорово, клянусь жизнью барина! Садись, успеешь пообедать, пока напишут ответ на письмо.
— Спасибо, путь мне предстоит дальний, не задерживайте…
— Сейчас передам.
* * *
— Вам письмо, батоно.
— Давай! Что случилось с моим свояком? Просит охапку сена?! Эй, моурав!
— Прикажите, батоно!
— Угости как следует того человека и дай ему сена, сколько подымет… Да из лучшего стога…
— Слушаюсь, батоно.
* * *
— Батоно, помилуйте, он весь стог забрал, не то что охапку.
— Полно врать!
— Клянусь твоей милостью. Это сено я берег для коня госпожи. Он опутал стог веревкой и тянет. Мы не позволили. Как быть, прикажите?
— Что за черт! Кто он такой?
— Прокляни его господь, кто бы он ни был! Выдул, не переводя дыхания, целый кувшин, сожрал поросенка, котел гоми и двенадцать мчади, потом со всеми вместе уплел говядину, каравай хлеба и, вставая от стола, выпил еще кувшин вина — во здравие, говорит, барина!
— Отдай, брат, отдай, а я погляжу, как он стог на спину взвалит. Неужели унесет?
— Унесет, батоно, хоть бы кто врагов твоих так унес…
Хозяин, гости, прислуга — все от мала до велика высыпали полюбоваться удивительным зрелищем.
Прангулашвили крепко встряхнул стог, затем повернулся к нему спиной, захватил на груди концы веревки, которой стог был перевязан, пригнулся, и… стог двинулся в путь.
Человека не было видно.
Хозяин не удержался и крикнул вдогонку:
— Скажи барину, чтоб не держал тебя в доме, разоришь, брат, семью.
— Скажу, батоно, — отозвался стог.
Таковы были Прангулашвили, которых многие называли Вешапидзе.
Назад: Нико Ломоури{246}
Дальше: Сулейман Сани Ахундов{259}

