Нико Ломоури
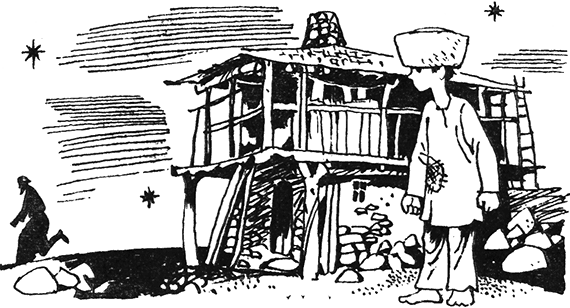
Русалка
I
Помню, когда я был еще совсем маленьким и не мог уверенно держать в руке не то что пастушеский бич, но даже прут, которым погоняют волов; в пору, когда мне не доверили бы не только стадо, но даже поросенка в поле, — у меня было одно заветное желание: мне хотелось побывать в лесу. Все, кому я решался высказать свое желание, неизменно подымали меня на смех.
— Экая подумаешь невидаль — лес! Ты что же, малыш, клад там зарыл или зерна жемчужные посеял?
Клад! Жемчужные зерна! В ту пору я даже не понимал значения этих слов. Мои желания не простирались тогда так далеко.
Обычно мой отец и три моих дяди привозили мне из лесу то голубиные яйца, то зайчонка, то маленьких пискливых перепелят; они дарили мне пригоршни лесных орешков с плотными сочными ядрышками — мое любимое лакомство; привозили они мне и пучки красноватых гибких ивовых прутьев, из которых я плел потом маленькие запруды для рыб, водившихся в нашей речушке. Каждую весну я получал в подарок маленькую звонкую дудочку, искусно вырезанную из тростника.
Я чувствовал себя в ту пору безгранично счастливым.
Если иметь в виду, какое впечатление производили на меня, маленького мальчика (звали меня Симоном), все эти подарки, привезенные из лесу, — могло ли показаться смешным и необычным мое желание увидеть лес.
Не удивительно, что тогда я не мог и не решился бы задать этот вопрос. Но я отлично чувствовал, что родные были неправы, подымая меня на смех. Вместо того чтобы выполнить мою неприхотливую просьбу, они, как я уже сказал, потешались надо мной, думая тем самым отбить у меня охоту увидеть лес.
Они, конечно, ошибались… Произошло как раз обратное: насмешки взрослых только подогрели мое желание, и вскоре оно стало неодолимым! В каком бы веселом настроении я ни был, стоило мне вспомнить лес — веселье исчезало бесследно.
Однажды, когда я, сидя верхом на палочке, играл в кругу своих сверстников, меня вдруг с новой силой охватило желание увидеть лес. Незаметно от товарищей я погнал своего скакуна к деревне, посреди которой и поныне стоит полуразрушенная церковь. К этой церковушке я и направил своего коня. Не знаю, что на меня нашло, но только помню хорошо, что, войдя в церковь, я приблизился к образу Божьей Матери, опустился на колени и стал молиться. Я горячо просил ее исполнить мое заветное желание.
— Это ты, Симон? Ты что тут дурачишься, пострел? — раздалось за моей спиной.
Я тотчас же узнал голос моей бабушки, — вскочил и опрометью выбежал из церкви. Мне показалось, что я совершил недостойный и смешной поступок… и решил не возвращаться домой до ужина. И в самом деле, было уже совсем темно, когда я скрипнул дверьми нашего хлева. Мне хотелось узнать, дома ли бабушка. «Что говорят обо мне?» Я притаился за дверью, прислушался. До меня донеслись голоса собеседников. Один из них был наш сельский дьякон Захарий, корчивший из себя дворянина.
— Поверь мне, Георгий, — говорил дьякон, — поверь! Не годится тебе, братец, жить рядом с церковью! Ведь святой Георгий видит каждое твое деяние.
— Да славится его святое имя! — прервал дьякона отец. — Пусть видит! Богу ведомо, что в моем роду никто человека не убивал, краденого в дом не приносил.
— Эх, Георгий, Георгий, — продолжал дьякон, — кто из нас безгрешен перед господом богом? Ты, может, и не знаешь всех прегрешений своей семьи, а всевышнему они открыты, дорогой! И потому добрый мой тебе совет — снимись отсюда да переселись поближе к саманнику.
Отец что-то ответил Захарию, но что — я не расслышал; я только понял, что он рассердился на нашего пройдоху дьякона, так как тот сразу же заспешил домой. Он прошел мимо меня, бормоча что-то себе под нос, и юркнул в дверь. Я переждал немного, потом тихонько приоткрыл дверь и вошел в комнату. Вся семья была в сборе: бабушка, мать, отец и три моих молодых холостых дяди. Сначала они как будто не обратили на меня внимания. Я незаметно проскользнул к очагу и сел, прикорнув у ног матушки.
— Ну что, монашек? — раздался вдруг насмешливый голос младшего дяди. — Замолил свои грехи?
— Монашек, а монашек, о чем ты молился в церкви? — закричали со всех сторон, и вслед за этим грянул дружный взрыв смеха.
Я прижался головой к матушкиным коленям и замер.
— Вздор вы говорите! Грешно смеяться над молитвой дитяти! — раздался вдруг голос моего отца.
Я, ободренный этими словами, поднял голову.
— Ну, скажи мне, внучек, о чем ты просил давеча Матерь Божию? — ласково спросила бабушка.
Поощренный ее лаской, я тем не менее ответил не сразу.
— Я просил: «Боженька и святой Георгий, покажите мне лес!» — пролепетал я.
И снова комната огласилась раскатами веселого смеха.
— Вот заладил — лес да лес! Скажи пожалуйста — какая невидаль! — весело заметил мой старший дядя.
— Ну а вам-то что? Хочу — и все тут! Вы только возьмите меня в лес, а я потом, ей-богу, буду целый день быков стеречь.
— Ладно, ладно, сынок! Вот поедем на днях в лес за хворостом, тогда и возьму тебя с собой, — пообещал отец.
— Как бы не так! — живо возразила матушка. — Того и гляди с арбы свалится парнишка и расшибется. Нет, родненький, не ходи в лес! Там шакалы бродят и волки. Тут же набросятся на тебя и съедят живьем.
— Не ходи, — поддакнула и бабушка, — не ходи, внучек! Там русалку повстречаешь, — она, проклятая, вцепится тебе в горло и задушит.
— Да ведь русалка маленькая девочка. Как же она может одолеть меня?
— Нет, родной, русалка не девочка, — пояснил мне дядя, — а женщина. Красивая, краше самого солнца. По плечам у нее струятся пряди дивных волос. Сядет она в лесной заводи, распустит свои косы и примется их чесать золотым гребешком. Но боже упаси, если она увидит человека: тут же вскочит, окаянная, кинется на него и задушит!
— Сильная она! Ой, какая сильная! — добавил мой младший дядя.
И все наперебой заговорили о русалках, каждый рассказывал о них, что знал. Смех и шутки умолкли. Родные мои то и дело крестились да поминали имя святого Георгия. Все это заставило меня крепко призадуматься. Я почти не прикоснулся к ужину и всю ночь, до самых петухов, не смыкал глаз. Я все думал о русалках. В воображении рисовался лес, посреди которого протекал быстрый хрустальный ручей, а в ручье — там, где он образует небольшую заводь, сидит женщина чудной красоты, с распущенными волосами. Женщина озирается по сторонам своими лучистыми черными глазами, высматривает человека, чтобы броситься на него и задушить. Такая картина рисовалась мне всю ночь. После первых петухов я заснул, но уж лучше не засыпал бы вовсе! Во сне мне приснилась русалка, и я проснулся с бьющимся сердцем…
Лес и русалка теперь уже были неотделимы в моем представлении. Я хотел увидеть лес, но боялся русалки. «Как же сделать так, чтобы, побывав в лесу, не встретиться с русалкой?» — вот что сделалось предметом моих неотступных размышлений. Долго я бился над этой мыслью, но лес и русалка слились в моем воображении. Под конец желание видеть лес все же взяло верх. Я решил отправиться в лес, но не отходить ни на шаг от отца и дядюшек. С этим решением я встал на другое утро, и хотя у меня болела голова и я то и дело зевал, — все же ничем не выдал себя и стал молча дожидаться дня, когда мои родные отправятся в лес за хворостом.
II
Мне не пришлось долго ждать. Через два дня, к вечеру, отец принес из дому топор и стал снаряжать арбу. Немного погодя дяди мои подкатили к дверям хлева и другую арбу.
Я понял, что они завтра собираются ехать в лес. Я напомнил отцу о его обещании. Он сказал, что возьмет меня с собой. Но я все же недоверчиво отнесся к его словам и ночью лег около младшего дяди, под опрокинутым дзари; я решил сторожить, чтобы не пропустить время отъезда.
На другое утро солнце еще не взошло, а я, лежа в постели, уже таращил глаза на арбы, стоявшие во дворе. Вот пригнали волов и стали их впрягать. Тут я вскочил, надел чоху, обулся в кожаные лапти и побежал навстречу отцу, выходившему из дому с караваями хлеба, завернутыми в полу чохи.
— Пойдем, пойдем, сынок! — сказал он мне, направляясь к запряженной арбе. Я, сам не свой от радости, побежал за ним вприпрыжку. В лес ехали трое — отец и два моих дяди. Отец посадил меня на передок арбы, а сам пошел рядом. Арбы тронулись. К полудню мы въехали в лес. Лес, правда, показался мне не таким, каким я его себе представлял, но после зноя полей прохлада, царившая здесь, огромные, вековые, таинственно шелестевшие деревья, многоголосый звон и щебет птиц так подействовали на меня, что я первое время совсем забыл о русалке. Я спрыгнул с арбы и весело побежал к кустам орешника, из-под кудрявых листьев которого выглядывали плоды. Рядом я увидел такой же куст, а дальше — дерево, на ветвях которого заметил птичье гнездо, наискось — черенок ясеня, прямой и гибкий, годный на хворостину… Так, незаметно для самого себя, перебегая с одного места на другое, я отходил все дальше от арбы. Но вот я подошел к маленькому рокочущему ручейку — и тут остановился как громом пораженный. Безотчетный страх овладел мною. Однако мало-помалу я стал приходить в себя. Мысли мои сосредоточились на двух одновременно и заманчивых и страшных для меня вещах — на лесе и русалке.
— Что это со мной случилось? — пробормотал я и стал, замирая от страха, озираться вокруг. С трех сторон меня обступили густые заросли орешника и крушины. Сверху свисали ветви огромных дубов. Я был так поражен этим зрелищем, что перестал слышать шелест листвы и птичий гомон. Мне казалось, что вокруг царит могильная тишина. Я стал прислушиваться, но ни одного голоса не доносилось до меня, только где-то вдали время от времени слышался перестук топоров.
«Ширр!» — раздалось вдруг со стороны реки. Я вздрогнул, обернулся и — колени у меня подкосились: я увидел русалку. Она сидела посреди речки и чесала золотым гребешком пышные пряди волос. Что было дальше, я уже не помню. Как я повернулся, как добежал до арбы и крикнул: «Помогите, русалка!» — ничего этого я уже не помню. В сознании запечатлелись лишь слова отца:
— Симон, сынок! — окликнул он меня, когда я немного пришел в себя. — Скажи, родимый, где русалка?
— В маленьком ручейке, вон там! — пролепетал я.
— А ну-ка, ребята, — закричал отец, — забирайте топоры и бегом к речке! Авось настигнем ее, анафему, и зарубим в воде!
Тут все вскочили и бросились в ту сторону, откуда я прибежал. Отец держал меня на руках.
Вот дяди с шумом и гиком добежали до берега. Вот и мы с отцом подошли к тому месту, откуда я увидел русалку.
— Ну-ка, скажи, родимый, где была русалка?
Я посмотрел в сторону, где сидела русалка, но ее уже и след простыл: вместо нее среди ручья торчал из воды поросший желтым мхом большой дубовый пень.
— Вон на том пне сидела, кажется!
— Э-э! Да ведь мы не то делаем! Надо было подкрасться к ней да отрезать ей косы, — тогда уж она была бы в нашей власти!.. А этот пень и впрямь что-то несуразно торчит из воды. Вот на такой пень и садятся русалки, чтобы расчесывать себе волосы. Ну-ка, топором его!
Тут отец спустил меня наземь, схватил в руки топор и бросился к обомшелому пню. Дяди — за ним. Окружив пень, они стали рубить его изо всех сил.
— Да этот пень отлично и на дрова пригодится! — весело воскликнул один из моих дядей.
Вдруг мой отец упал. Смотрит старший мой дядя и видит: топор соскочил у него с рукояти и угодил прямо отцу в лоб.
— Помогите! — закричал отец.
Дяди мои бросились к нему и вытащили его на берег. Из разбитой головы ручьем текла кровь. Дяди старались остановить ее, но тщетно. Наконец с трудом удалось полой архалука приостановить кровь.
— Горе мое! Семья, дети! — простонал отец. — Везите меня скорей домой!
С плачем впрягли мои дяди волов в арбы, уложили на одну из них раненого. Вечером мы привезли домой мертвого отца: по дороге он испустил дух.
Легко себе представить, какой переполох поднялся у нас в доме. Событие это взбудоражило всю деревню, а и не удивительно. Всех поразила неожиданная смерть отца. Человек он был такой добрый и отзывчивый, что все в деревне относились к нему с величайшим уважением. Меня только удивляло, почему люди говорили, будто отца моего убила русалка, запустив в него камнем.
Нашей семье пришлось пережить много неприятного из-за этих разговоров. Священник отказался хоронить отца по христианскому обряду под тем предлогом, что его, дескать, убила русалка. И он упирался до тех пор, пока не содрал с нас красненькую. После похорон слух о том, что отца убила русалка, дошел до благочинного. Он нагрянул в наш дом, начал угрожать, что расправится с нами и отправит всех нас в Сибирь. И так он грозил до тех пор, пока мы и ему не сунули десятку. Я в ту пору мало что смыслил в разговорах почтенных духовных отцов и потому очень удивлялся всему, что говорили о смерти моего отца священник и окружающие нас сельчане. «Как же так? Разве моего отца убила русалка?» — спрашивал я сам себя и отвечал: «Нет, не русалка, его убил нечаянно мой дядя».
III
Мы похоронили отца. Но русалка продолжала преследовать нас. Сначала ее видели в лесу какие-то путники. Потом прошел слух, будто она вытащила труп отца из могилы и уволокла в лес: об этом сообщил нам дьякон Захарий и тут же посоветовал отслужить молебен за спасение души покойного и освятить его могилу. Совет дьякона мы в точности выполнили, но какою тяжелой ценой! Наша семья, никогда раньше не знавшая тягот денежного долга, после совершения всех этих треб задолжала ростовщику более ста рублей. Долг наш постепенно рос, дошел до четырехсот, пятисот и шестисот рублей. Так, исподволь, стал прибирать нашу семью к рукам этот ростовщик. Но все это произошло позднее. Другая беда нависла над нами в то время. Хотя мы и потратились, чтобы выполнить все предписания духовных отцов, но от русалки все же избавиться не могли. Вскоре она повадилась ходить к нам в дом.
Однажды ночью все в доме мирно спали. Удрученные всем пережитым, мы понемногу начали оправляться и бодрее смотреть на будущее. Но в эту ночь нас подстерегало новое несчастье. Уже порядком рассвело, когда вдруг громадный камень с грохотом упал прямо к нам в очаг. Мы все вскочили.
— Кто ты, разрази тебя господняя немилость?! — закричал мой старший дядя.
— Это я, русалка, посланная святым Георгием! Уходите с этого места, не то истреблю вас всех! — послышался сверху тонкий голос.
Нас обуял смертный страх, и все мы в один голос закричали, что непременно-де, непременно уйдем отсюда!
Наутро еще никто из нас не успел переступить порог дома, а уже вся деревня знала о случившемся. И пошли, покатились по деревне всякие сплетни-пересуды.
— Слыхала, милая, — говорила одна кумушка другой, — русалка забралась нынче прямо в хату к этим Арешендашвили, да как ухнет им в очаг бо-ольшущую глыбу, да как закричит: «Передушу вас всех, огнем спалю, если не уйдете с этого места!»
— Да это, матушка, что! — отзывалась та. — Иные просто брешут! А я вот знаю, и это верно, как бог свят, что русалка пришла к нехристи этой, к бабке ихней, к Майе-карге, и говорит: «Сестрица моя Майя, пособи мне, как раньше пособляла, детей твоих со свету сжить».
— А она, что же, старуха-то? Что она ей ответила?
— Да ничего не ответила. Сидела, говорят, как воды в рот набравши да крестилась не по-людски, а навыворот — слева направо.
— У-у-у, нехристь она! Не зря наш батюшка говорит, что Майя знается с нечистой силой.
— Видать, что нечисть, коли ее в Иванову ночь дома не застать никогда.
И много такого и худшего еще говорилось в тот день о нашей семье. А больше всего доставалось нашей бедной бабушке Майе. Люди избегали заговаривать с ней и, завидя ее издали, бежали от нее прочь. Слухи эти дошли до нас к вечеру. Бабушка моя плакала и причитала. В тот день словно покойник был в нашем доме. На другое утро бабушка встала, по обыкновению, чуть свет, но вскоре опять легла: у бедняжки поднялся такой жар, что она впала в беспамятство. Так провела она целый день; но к вечеру, слава богу, ей немного полегчало, и она уснула.
Мы поужинали и легли. Вдруг в самую полночь раздался душераздирающий вопль. Мы вскочили и кинулись к больной. Она лежала с остекленевшими глазами, вся желтая, как мертвец. Мы стали обливать ее холодной водой, растирать ей нос и уши; она пришла в себя.
— Что такое, что с тобой было? — наперебой спрашивали мы.
— Русалка! Русалка! Задушила было, проклятая! — ответила бабушка.
— Да где же она? И что ей надо от нас, разрази ее святой Георгий всемилостивец?! — воскликнул мой младший дядя.
После этого зажгли лучины и стали искать русалку по всему дому: заглянули на полку, в кадку, в круглую корзину, в печь — словом, перевернули вверх дном весь дом, но русалки и след простыл. И хотя в доме не удалось обнаружить ее следов, все же наши приняли решение: «Завтра же выселимся отсюда, завтра!», не подозревая, что завтра у них появится такая забота, которая волей-неволей заставит отложить задуманное. В полдень другого дня не стало нашей бабушки Майи. После ее смерти пришла в смятение вся деревня; когда мы хоронили бабушку, за ее гробом шло не более трех человек.
— Выселяйтесь, люди! Выселяйтесь отсюда! — твердили нам со всех сторон.
Мы и сами желали того же, но останавливало то, что у нас не было бревен для постройки дома. Туго пришлось бы нам, если б не наши родичи, дай бог им здоровья! Как прослышали о нашей беде, тут же сообща на своих волах привезли нам из лесу столбы и бревна, помогли распилить и острогать их, после чего мы, выбрав место рядом с нашим бывшим подворьем, неподалеку от кладбища, принялись рыть землю. Врыли в ямы столбы, скрепили их балками и покрыли сверху крышей. Перекрытую землянку мы разделили на две части — одну под наше жилье, другую под хлев — и, перетащив туда все наше имущество, обосновались на новом месте.
IV
Пословица говорит: «Если колесо твоей судьбы хоть раз повернулось вспять, то потом уже нет тебе удачи в жизни». Так случилось и с нами. Мы переселились на новое место, но не смогли избавиться от бед. Переселение наше совершилось осенью, день ото дня становилось все холоднее; зима, по всем приметам, предстояла ранняя, с морозами, а наша новая землянка совсем не была приспособлена к холоду. У нас не было досок и песку, не говоря уже об извести, чтобы закрыть голые земляные стены и тем оградить себя от пагубного холода. В доме у нас все время стоял запах промозглой сырости и было очень холодно. В первое время мы не придавали этому значения; две-три недели мы провели даже весело. Но в конце четвертой недели моего младшего дядюшку стало лихорадить; ночью он жаловался на сильный жар и головную боль. На другой день уже не мог встать. Прошел еще день — и у больного открылись все признаки болотной лихорадки. Понятно, что эта болезнь опечалила нас, но мы все же не отчаивались. «Конечно, лихорадка все равно что холера для сельчан, но как бы то ни было, она все же привычна человеку. Лишь бы нам уберечься от всякой нечисти, а уж с лихорадкой… мы как-нибудь да справимся». Так думали мы, стараясь в душе утешиться. А больному становилось все хуже и хуже…
Раз как-то мы сидели у очага и мирно беседовали в ожидании ужина.
— Спасите! — завопил диким голосом больной, вскакивая с постели.
Мы бросились к нему, но не успели подбежать, как он уже перепрыгнул через очаг и залез под лавку.
— Алекси, милый, что с тобой! — крикнул ему старший дядя.
Эти слова, казалось, отрезвили больного; он вылез из-под лавки и уже спокойно и внятно произнес:
— Помогите, родные, русалка меня душит!
Трудно описать наше изумление, у всех разом точно язык отнялся… В землянке слышался лишь тихий, жалобный стон, на всех лицах читалось: «И сюда забралась, окаянная, — нет, значит, нам спасения». Долго стояли мы так, не в силах прийти в себя, как вдруг снова раздался отчаянный вопль больного: «Русалка, русалка!» — и дядя, размахивая руками, снова перескочил через очаг и бросился к своей постели.
— Не бойтесь, родимые, это он в жару бредит, — сказала нам матушка.
— Что же это он все русалкой бредит? — о тяжким вздохом вырвалось у моего среднего дяди.
Вопрос этот остался без ответа. В землянке царило тягостное молчание. Каждый думал о постигшей нас новой беде. «И впрямь, — думал я, — чего же он все о русалке твердит? Да и не похожи на бред его слова, он так спокойно и разумно говорил. Нет, нет, это не так! Видно, и впрямь она переселилась сюда и не будет нам от нее теперь житья, от проклятой!» И тут я вспомнил лес и русалку. Вспомнил своего отца и те слухи, которые ходили в деревне о русалке и нашей семье. Потом ясно представилось мне и нынешнее наше положение… И от этих мыслей меня вдруг начало трясти, да так, что зуб на зуб не попадал.
— Помогите! Русалка идет! Вот она открыла двери! — закричал опять больной, привскочив с постели.
Я оглянулся на дверь. В ушах у меня зазвенело, колени подкосились: в дверях я и впрямь увидел русалку!
— Русалка, русалка! — закричал и я, бросаясь к матери.
Что произошло потом — отчетливо вспомнить не могу. В ту же ночь у меня поднялся сильный жар, я потерял сознание, начал бредить и в бреду все поминал русалку. Целых двадцать два дня я находился в таком состоянии, на двадцать третий у меня появилась испарина — и к вечеру я немного пришел в себя. На другой день ко мне вернулось сознание; я открыл глаза и оглянул нашу землянку. Я не сразу сообразил, где я и что со мной происходит. Потом всплыло в памяти наше переселение, я вспомнил, что к нам в новую землянку забралась хворь, что всех раньше одолела она младшего дядю Алекси. Я медленно перевел взгляд в ту сторону, где стояла его постель, — вижу, она пуста, но немного дальше кто-то лежит. Матушка моя сидела у очага и приглядывала за пищей, варившейся в котле. По временам до меня доносилось ее тихое заунывное пение, по щекам ее текли слезы.
— Мама! — позвал я слабым голосом.
— Что, сынок? Что, родной? — радостно вскрикнула мать и бросилась ко мне.
— Где Алекси, мама? — спросил я.
— Алекси поправился, сынок, и сейчас только вышел из дому, — ответила мать.
— А это кто там лежит? — указал я взглядом на лежавшего.
— Это, сынок, твой дядя Ниника. Сегодня его немного знобило, и он лег.
Когда дня через четыре мне стало лучше, я узнал от матушки, что все это она говорила для моего успокоения. А на самом деле произошло вот что: Алекси, пролежав в постели с неделю, отдал богу душу; в день его похорон заболел средний брат, Ниника. К вечеру Ниника несколько раз выкрикнул: «Русалка, русалка!» — и уже после ничего нельзя было от него добиться. Только днем по временам он садился на постели и смеялся чему-то, по ночам же бормотал не переставая, а то вдруг ни с того ни с сего начинал брыкаться в постели.
— Ну, как ты себя чувствуешь, Ниника? — спросил я дядю.
Больной словно и не слышал моего вопроса, потом стал медленно приподниматься с постели и, как бы сейчас только узнав меня, тихо рассмеялся.
— Ниника, ты рад, что наш Симон поправился? — спросила его матушка.
— Ха-ха-ха! Рад! Ха-ха-ха! — залился вдруг громким смехом Ниника, потом снова лег — и уже больше не отзывался, как мы ни старались вызвать его на разговор.
— Что это с Ниникой, мама? Отчего он такой? — спросил я тихо маму.
— Не разделаться нам с бедой нашей, вот и приключилась с ним эта напасть, дитятко, — горестно ответила матушка. — Нечистый дух овладел им однажды ночью, и с той поры повредился умом, бедняга. Ничего у него не болит, и жар его не томит, а все лежит так; если скажешь ему: «Вставай», — встанет; а нет, лежит молча. Я уж думала, что у бедняги язык отнялся.
— А где Датуа? — спросил я матушку.
— Он, сынок, переселился, чтобы за виноградником лучше присмотреть, — ответила мама.
Такая беда стряслась с нами четырьмя. Алекси отдал богу душу, Ниника стал полоумным, я переболел лихорадкой, и только одна матушка убереглась от напасти.
Прошло два месяца. А как минул этот срок и никто из нас больше не заболел, то и соседи стали к нам исподволь наведываться. Вернулся на старое насиженное место и дядя Датуа. И стали мы по-прежнему тянуть лямку нашей трудовой жизни.
V
Прошло несколько лет. Много воды утекло с той поры в нашей речушке, многое изменилось и в жизни нашей семьи.
Дядя мой Ниника так и остался дурачком. Он жил в своем, одному ему понятном и ведомом мире. Если к нему обращались с вопросом, он не отзывался, но сам с собой беседовал постоянно; на лице его — и то в редкие минуты — мелькала едва приметная улыбка; смеха и шуток он не терпел вовсе, — но оставаясь один, начинал размахивать руками и то и дело посмеивался. На людях он мог стерпеть любую обиду, даже пальцем не шевельнет, чтобы наказать обидчика, — но упаси боже потом встретиться с ним один на один: Ниника тут же сгребал обидчика своими огромными ручищами и, бросив наземь, не выпускал свою жертву до тех пор, пока, бывало, не подомнет ее, как медведь. Мужчина ли, женщина ли, стар или млад — ему было все равно. Но работник Ниника был хоть куда, прилежный и упорный; зимой и летом работа спорилась в его руках. Особенно любил он виноградник и с наступлением весны проводил в нем целые дни, заботливо ухаживая за лозой. Наша семья теперь почти целиком держалась его трудами. Старший мой дядя, Датуа, женился, в семье пошли дети, мал-мала меньше; под конец и он занедужил. Что же до моей матери, то она поистине была удивительным существом. Происходя из зажиточной семьи, она, выйдя замуж, попала в не менее состоятельную крестьянскую семью и потому не знала, что такое нищета, голод и холод, тяжелый, беспросветный труд. Когда же на нее обрушились все эти беды, она приняла их так, словно всю жизнь была привычна к ним. Невзгоды и тяжелые обстоятельства, постигшие нашу семью, не смогли сломить ее. Не покладая рук изо дня в день работала она, терпеливо и стойко боролась с нуждой, проникнутая какой-то смутной надеждой на лучшее будущее.
Таково было в настоящее время положение каждого из нас. Что же касается общего положения семьи, то оно было более чем прискорбно. Как я уже сказал выше, наша семья билась в тисках нужды и все возраставшего неоплатного долга. У нас в округе хорошо было известно имя ростовщика Хахама Габриела. Своими векселями, словно железными клещами, держал он в руках судьбу неимущих сельчан. Подкупая чиновников и выжимая последние соки из крестьян, этот прожженный плут и выжига за несколько лет стал одним из видных богачей округи. Крестьяне хорошо знали безбожный нрав кровопийцы Габриела: у всей деревни на глазах долг одного бедняка — стоимость трех фунтов соли — превратился у него в течение нескольких лет в триста рублей. Не получив с должника денег, Хахам подал жалобу в суд, отнял у крестьянина дом и виноградник и пустил его по миру. Эта и многие другие проделки Габриела были хорошо известны нам, сельчанам.
Но что мы могли поделать! В минуту нужды мы все же вынуждены были обращаться к нему, ибо иного выхода у крестьян не было.
Так случилось и с нашей семьей. Сто рублей, взятые в долг, превратились в течение пяти лет в шестьсот. Габриел заставил нас переписать вексель, и вскоре житья нам от него не стало: «Как хотите, а выкладывайте мне мои шестьсот рублей». Откуда нам было взять эти деньги? Как могла наша разоренная вконец семья уплатить не то что шестьсот, даже сто рублей? Хахам приходил к нам, грозил, ругался и, накричавшись до хрипоты, убирался восвояси. Однако он недолго так ходил… Почему-то вскоре Габриел перестал к нам наведываться. Это обстоятельство очень радовало нас всех, кроме матушки. Ее лицо чем дальше, тем становилось все мрачнее и озабоченнее.
— Этот нехристь не иначе как в суд собирается подать на нас, хочет отнять у нас дом и виноградник, — говорила мама с горестным вздохом.
VI
Наступила чудесная прохладная весна. Зазеленевшие поля зыбились и сверкали под лучами весеннего солнца, деревья одевались в свежую, нарядную листву. Чистая, словно умытая лазурь неба глядела на землю, будя в сердце человека какие-то светлые, неясные надежды. Прохладный влажный воздух вливал в грудь силы, радость, желание трудиться. И крестьяне наши взялись за лопаты, топоры, садовые ножницы. В виноградниках неумолчно стучали топорики, которыми строгали подпорки для лоз, звучали веселые песни. Началась весенняя страда. Мои дяди, разумеется, не отставали от других. Они вспахали землю, подрезали лозы, укрепили их на подпорках, вырыли по обочинам виноградника каналы для стока воды, подправили местами покосившийся плетень, обвив его, где нужно было, колючим кустарником, — словом, выходили виноградник, как невесту. Прошла неделя, другая, прошел месяц. Лозы оделись листвою. Кисти винограда стали расти, наливаться соком. Виды на урожай были самые лучшие.
Раз в воскресный день, в час обедни, сельский старшина скрипнул дверьми нашего дома и крикнул в сени:
— Датуа, выйди-ка к церкви, дело есть к тебе небольшое!
Датуа тотчас же встал и вышел. Вслед за ним и Ниника взял в руки топор и отправился в виноградник. Было уже за полдень, а дяди все не возвращались. Мама заправила фасоль, достала из рундука куски черствого чурека и уже поставила было миски на стол, как вдруг послышались шаги и голоса. Спустя немного в комнату вошел дядя Датуа, вслед за ним — старшина с двумя помощниками и Хахам Габриел. Проживи я тысячу лет, и тогда не забуду выражения лица дяди Датуа. Этот молодой тридцатипятилетний мужчина превратился за несколько часов в шестидесятипятилетнего старика. Жалкий, согбенный, пожелтевший, с застывшими от ужаса глазами, он шатался, как подгнившее дерево, и, споткнувшись, чуть было не упал на очаг. У матушки при виде непрошеных гостей вырвался из груди горестный стон.
— Что это с тобой, разрази тебя господня немилость? — сказала дяде его жена. — Того и гляди разобьешься об очаг.
Голос тетушки, казалось, вывел Датуа из глубокого сна. Он остановился у очага, оглянул всех нас и закричал истошным голосом:
— Невестка моя, Кетеван! Погибла семья! Погубил, этот нехристь, и впрямь погубил нашу семью! В суд пожаловался! Жена моя, детки — пропали мы!
Мать вскочила и, шатаясь, подошла к очагу.
— И что же? И что же? — спросила она.
— Виноградник продали… Погибли мы. Жена, дети!..
— Чуяло мое сердце! Нехристь он! — простонала мать со слезами на глазах. При виде ее слез мы все, дети и взрослые, начали плакать и кричать. Можно было подумать, что у нас в доме покойник. Плакали все, а Датуа — Датуа метался по комнате и ревел, как раненый медведь.
— Это что такое? Клянусь моей верой, мне здесь больше нельзя оставаться, — воскликнул Хахам Габриел и направился к двери, а его товарищи принялись увещевать дядю Датуа.
— Эх, брат, вместо того чтобы плакать, ты бы лучше накормил нас, мы проголодались, — заметил старшина.
— Ишь чего захотели! Чтоб вам подавиться, света невзвидеть божьего, изверги проклятые!
— Мне за труды выкладывай — живо! — приказал судебный пристав. — Я же не к вам одним пришел, у меня и другие дела есть!
— Сколько им предписано, уважаемый Соломон? — спросил, хитро сощурившись, старшина.
— Двенадцать рублей пятьдесят пять копеек! — отчеканил пристав.
— У нас и двенадцати копеек нет! Что я могу вам дать? Вы забрали у нас виноградник, отняли последнее, и мы должны еще платить? Погибели нет на вас, ироды проклятые! — воскликнула матушка.
— Я с бабами не разговариваю! — заорал на маму пристав.
— А поднеси я тебе турашаульских яблок, как Саломэ Хепериани, посмотрела бы тогда, как ты не стал бы разговаривать со мной! Или же, как лавочник Михаил, рыбкой бы попотчевала свежей! Сразу же сменил бы гнев на милость! — бросила с горячностью матушка прямо в лицо приставу.
— Бабьему слову грош цена. Мир-то видит, слава богу, что я взяток не беру, простой народ жалею, — гордо ответил пристав.
— Да, на словах оно так, на словах ты жалеешь бедняков, а вот на деле — скажи нам по чести, с какого это ты бедняка не содрал три шкуры? — спросила пристава мать.
— Знай, глупая баба, не спущу я тебе этого навета! — рявкнул пристав и, подойдя к старшине, шепнул ему что-то на ухо. Тот напружинил шею, приосанился и грозно приказал:
— Какое вы имеете право не давать? Выходит, пристав, уважаемое должностное лицо, — слуга вам, что ли? Эй, судьи! Пошли выводить буйволицу из хлева!
— Буйволицу не отдам никому, пока я жива! — завопила мама, бросаясь к дверям.
В это время со двора донесся какой-то вопль и потом прерывистый крик:
— Караул! Убивают! Помогите!
— На помощь! — закричал старшина. — Это, верно, Ниника полоумный заграбастал Хахама Габриела! На помощь! Я же говорил ему, не связывайся с этим сумасшедшим!
Все бросились к хлеву. В дверях стойла навзничь лежал на земле Габриел, Ниника сидел на нем верхом. Одной рукой Ниника вцепился Габриелу в горло, другой в бороду и с такою силой колотил его головой о землю, что из нее лилась кровь.
Старшина со своими приспешниками бросились к Нинике, оттащили его от Габриела и начали дубасить. Тот стоял молча, лишь жалко поеживаясь. Три человека колотили Нинику до тех пор, пока моя мать не стала между палачами и жертвой. Старшина тотчас же оставил Нинику и, оглянувшись по сторонам, закричал:
— Выводите, ребята, буйволицу! Выводите скорее! — и сам направился к стойлу; помощники за ним.
Матушка, схватив в руки рукоять лопаты, бросилась к дверям стойла.
— Умру, а буйволицу не отдам! — крикнула она, становясь в дверях стойла.
— Прочь, баба! — закричал старшина, стараясь отбросить матушку от дверей, но она твердо стояла на месте.
— Что же вы смотрите? — набросился на улыбавшихся помощников старшина. — Отбросьте прочь эту осатаневшую бабу!
Все трое бросились к матушке, завязалась потасовка, раздались крики, проклятия. Вдруг высоко в воздухе взметнулась рукоять лопаты и с размаху тяжело опустилась на голову старшины. Тот, схватившись за голову, попятился. Рукоять продолжала вращаться в воздухе с необычайной быстротой. Помощники отступили к дверям. Матушка, с сумасшедшим лицом, преследовала их шаг за шагом, по-мужски ловко и сильно вращая рукоять лопаты над головами своих мучителей.
— Кетеван, на помощь! Помоги мне, ради бога! — раздался вдруг отчаянный вопль Хахама.
Мама кинулась к нему. В тот момент, когда все побежали к стойлу вслед за матушкой, Ниника снова набросился на Габриела и подмял его под себя. Он сел на него верхом и стал душить его.
— Брось, Ниника, этого басурмана! Отпусти, не бери греха на душу, — закричала ему мама.
Дядя с возгласом «эх-хе-хе!» отошел от Габриела, а тот, вскочив на ноги, торопливо бросился к дверям хлева, но матушка крепко заперла его на засов. Избитый Габриел присоединился к своей свите, стоявшей поодаль от хлева. Члены почтенной компании оглядели друг друга: лица у Хахама и у старшины были залиты кровью.
— Ах боже ты мой! — восклицал старшина. — Вы только поглядите, что с нами сделала взбесившаяся баба! Истинный бог, нам нельзя будет теперь показаться на селе!
— А будь она трижды проклята святым Георгием! — вторил старшине один из его помощников. — Что же она с нами сделала, люди милые? И чего это мы побежали от нее? Надо было тут же в дверях сшибить ее с ног и вывалять ее косынку в грязи.
— Недаром сказано, братец: разойдется баба, так ее уж на привязи и девять пар буйволов не удержат. А эта баба, клянусь святым Георгием, водится с нечистью. Расшибла мне голову, будь она трижды проклята!
— Иди-ка завяжи мне лоб, — позвал одного из помощников Габриел. — Я непременно подам на нее в суд.
— Надо подать… а то как же. Это ей так не пройдет, — подтвердил старшина.
— Я же сказал вам, — заявил судебный пристав, — что деньги должен уплатить Габриел, а не они! А вы заладили: надо, мол, с них взыскать! Вот и взыскали! Ради бога, никаких жалоб! А то потом придется мне же самому расхлебывать кашу. Все же лучше по-семейному, тишком да ладком обделать это дело.
Пришедшие погалдели еще немного, и потом вся свита обступила Хахама Габриела и стала требовать вознаграждения за свои услуги. Габриел долго отнекивался, но под конец ему все же пришлось раскошелиться и выложить старшине пять рублей, а его помощникам по трешке, — пятнадцать рублей положил в карман судебный пристав! После этого они покинули наш дом.
VII
Вскоре после ухода Габриела и его свиты у Датуа начался приступ лихорадки. Целую неделю его трясло; через неделю он хотя и встал с постели, но был худой и желтый — ни дать ни взять покойник.
Однажды вечером Датуа сидел у дверей нашего дома и печально глядел в сторону кладбища; страдальческое выражение его лица говорило о душевной подавленности. Глаза больного, глубоко запавшие в орбиты, глядели в сторону кладбища и словно завидовали тем, кто уже лежал в могиле.
Долго сидел так Датуа, потом поднял голову, осмотрелся и, вздохнув глубоко-глубоко, произнес громко (словно он мог быть услышан теми, к кому были обращены его слова):
— Счастливые! Счастливые! — потом снова поник головой и отдался своим безысходным думам.
Солнце давно уже метнуло стрелы своих лучей на запад, за кряжи гор; их красновато-желтый отблеск лишь кое-где лежал на пестревших цветами полях и лугах, уже покрытых тенью от высоких отрогов.
Вечерние сумерки медленно опускались на долину, между тем как увенчанные снегами высокие вершины еще горели и переливались вдали в лучах заходящего солнца. Ветерок, напоенный ароматами полей, чуть приметно колыхал стволы молодой кукурузы и вздымал на нивах изумрудную зыбь, наподобие морской волны. Веселый щебет птиц, мычание скотины, шум человеческих голосов еще более оживляли эту полную движения и жизни картину. Однако… к черту все это! Что значит красота природы, когда сердце человеческое кипит возмущением, когда истинный труженик из-за невыносимых условий жизни исстрадался до такой степени, что завидует мертвецам. Наш Датуа словно и не замечал всех этих красот природы. Он все сидел, тоскливо понурясь, и, вероятно, просидел бы так еще долго, если бы его не вывел из задумчивости шум возвращавшегося домой стада. Датуа поднял голову и глянул в сторону проселочной дороги. Он увидел, что по ней шел человек — это был Захарий, наш деревенский дьякон. Еще несколько минут — и Захарий, с притворно-скорбным видом, плутовски скосив глаза и пофыркивая носом, подошел к Датуа.
— Добро пожаловать, Захарий, — произнес с глубоким вздохом Датуа.
— Какая еще напасть на вашу голову, скажи мне, братец? — заговорил с напускным сочувствием Захарий, присаживаясь рядом с Датуа. — Бог свидетель, ваше такое положение удручает всех нас. Все же мы христиане, одним миром мазаны. Думаю, дорогой мой, думаю — и в толк не возьму, в чем у вас дело?
— В чем дело, говоришь? — уныло переспросил Датуа. — Одним словом, погибаем. Виноградник отняли у нас. После этого, сам понимаешь, семья — уже не семья. Бог лишил нас своей милости. Все наши беды начались с того дня, как у нас в доме появилась русалка. Она, окаянная, теперь преследует нас незримо. О господи, боже мой, да славится имя твое! Смилуйся над нами и прости нам прегрешения наши! Положи конец нашим мукам!
Датуа устремил к небу затуманенный слезами взор, но выражение его лица говорило, что в душе его утрачена всякая надежда на то, что спасение может прийти оттуда, с неба.
Как ищейка навостряет уши, учуяв нюхом зверя, так и Захарий весь обратился в слух, услышав из уст Датуа слово «русалка». В его узких, как семечки, глазах вдруг вспыхнуло выражение тайной радости и удовлетворения; но Захарий не дал проявиться этому чувству и снова придал лицу удрученное выражение.
Печально вздохнув, он начал снова:
— Датуа, ты человек толковый, умудренный жизненным опытом, и не мне давать тебе советы. Но вот ты сам сказал, что все ваши несчастия начались с того дня, как у вас в доме появилась русалка. Я тоже так думаю, но ведь русалка уже не появляется, а ваша семья все на убыль идет. Русалка, милостью святого Георгия, уже отстала от вас, но вы все никак не можете оправиться. С чего бы это, хотелось бы мне знать, а? — Тут дьякон выпучил глаза и, поджав губы, испытующе посмотрел на своего собеседника.
— Я же сказал тебе, что эта окаянная, быть может, незримо преследует нас.
— Правильно говоришь, Датуа! Так оно и есть! Я еще от блаженной памяти покойного дяди моего Иорама слыхал, что ежели она, окаянная, привяжется к кому-нибудь, то сначала делает это явно, а уж потом доймет тайно, незримо. Это ты правильное слово сказал, Датуа.
Больной тяжко вздохнул. Дьякон многозначительно помолчал, потом вдруг вскочил с места и, став прямо напротив Датуа, заговорил восторженно:
— Знаешь, что я тебе скажу, Датуа? Сходи-ка ты к гадалке! Ты, наверно, слыхал, как гадает ворожея из Эшмакеули? Диву дается народ!..
— Я тоже думал об этом, признаться. Так и сделаю. Завтра же пошлю невестку к гадалке.
— А знаешь что, Датуа? Пусть это останется между нами, но только советую тебе — пошли лучше жену! Как бы там ни было, а невестка никогда не будет так болеть за тебя душою, как жена. Сам понимаешь…
— Правильно, родной, правильно говоришь! Невестка моя женщина хорошая, такую еще поискать другую, — но лучше, конечно, послать мою жену.
Датуа помолчал, потом, обернувшись снова к дьякону, спросил:
— А что, братец, слышно о Караязах об этих… Одно время народ наш туда валом валил, а нынче что-то не слыхать стало об этой местности.
— Ну, как не слыхать! — с живостью отозвался дьякон. — Дай бог долгой жизни нашему императору! Большую милость явил он нашему неимущему народу. Ты, верно, слышал, что царь издал приказ, чтобы всю Караязскую степь возделать как нельзя лучше, провести туда воду, выстроить каменные дома, привезти туда земледельческие орудия, скотину самую отборную, а потом оповестить грузинских неимущих крестьян и сказать им: государь-де приготовил все это вам на свой счет, и у кого из вас есть желание — отправляйтесь и поселяйтесь там. Будете освобождены от всяких расходов и хлопот. Ты только подумай, что это за местность, Датуа! Степь такая, что на коне ее не объедешь, — не видать ей ни конца ни краю. Посеешь, скажем, три меры пшеницы, а снимешь урожай сам-десять. И лес тут же рядом, рукой подать. В одном только нехватка: нет рабочих рук. Будь уверен, что случись там ваш Ниника, он каждый год по двести-триста мер пшеницы ссыплет в закрома. — Тут дьякон, прервав поток своего красноречия, так и впился взглядом в лицо своего собеседника.
— Что и говорить, это истинное благодеяние для народа! Одно уж, что люди освобождаются от налогов, — одно это чего стоит! Если так, братец, то туда, наверное, народ повалит теперь.
— Все это сообщил мне мой брат Андукапар. Ты ведь знаешь, что он получает вести прямо от царя? Оно правда — туда, в эти степи, собирается ехать тьма народа, но большинство поедет будущей весной. А кто поедет нынче, скажем этой же осенью, тому будет полное раздолье — получит и дом, и виноградник, и поле, и орудия, и скотину, — словом, сумеет выбрать все, что понравится. А когда придут другие, он будет уже устроен на новом месте.
Помолчали.
Видно было, что больной весь ушел в какие-то приятные для него мысли. Дьякон кашлянул и, усмехнувшись себе в ус, встал с камня.
— Ну, прощай, Датуа! Молю господа бога и святого Георгия, чтобы ты поправился и стал опять таким же молодцом, каким был прежде. Унывать не надо, дорогой! Господь бог милостив! Он пошлет долгую жизнь нашему доброму царю, — а нам больше не о чем и тужить. Всего у нас будет вдоволь! — И Захарий, распростившись с Датуа, поплелся своей дорогой.
— Дай тебе бог долгих, долгих лет жизни! А уж я не забуду твоего благодеяния, дорогой Захарий! — крикнул ему вслед растроганный Датуа.
— Ты про знахарку не забудь! — отозвался ему с дороги дьякон.
Вернувшись домой, дьякон торопливо оседлал лошадь, дождался полных сумерек и, вскочив в седло, поехал по направлению к деревне Эшмакеули.
А Датуа все продолжал сидеть на месте и раздумывать. Он думал о том, что сообщил ему нынче дьякон Захарий. Печаль и радость боролись в его сердце и отражались попеременно на его исхудавшем лице. Перед его мысленным взором встала его юность, дорогие сердцу места и те люди, среди которых протекала его юность. Он вспомнил мать, отца, братьев, родственников, их могилы — и тяжкий стон вырвался из его груди. «Нет, нет, братец, где ты родился — там пусть и упокоятся твои кости», — сказал сам себе Датуа, вставая с камня. Оглянулся кругом и снова сел. С новою силой обступили больного думы все о той же русалке; ему опять представлялось ее появление в родном доме и постепенное обнищание зажиточной некогда семьи. Он вспомнил смерть матери и братьев, болезнь других своих братьев, вспомнил виноградник, отнятый властями за долги, падеж скота, свою болезнь и тысячи других, менее значительных бед, постигших нашу семью. Все эти воспоминания отчетливо и неторопливо прошли перед мысленным взором Датуа и пролили не одну каплю яда в его и без того истерзанное сердце… Потом в его воображении встали картины жизни в Караязах, нарисованные ему красноречивым собеседником.
— А ей-богу, это же сущее благо божие для таких бедняков, как мы, — пробормотал про себя Датуа. — Но вот беда, что я болен, — добавил он тут же со вздохом. — Боже, смилуйся надо мной! Боже великий и святой Георгий, помогите мне стать на этот новый путь жизни! «Не позабудь, говорит, про знахарку». Да-да, никак нельзя забыть! — сказал сам себе Датуа, вставая с камня, и, нащупав свою палку, медленно заковылял домой.
— Жена, а жена! — закричал Датуа, придя домой. — Пойди-ка ты в Эшмакеули к знахарке. Пусть погадает тебе. Говорят, она очень хорошо предсказывает будущее. Авось нагадает и нам?
— Я пойду, дорогой деверь! — вызвалась моя матушка. — Саломэ недосуг, у нее грудной младенец на руках и девчонка нездорова.
— Да нет же, нет! — закричал Датуа. — Пусть идет моя жена.
Матушка умолкла, а жена Датуа, Саломэ, вызвалась пойти к ворожее в Эшмакеули:
— Завтра же с восходом солнца пойду и поведу Нинику.
Потолковали о том, что хотели бы они узнать от знахарки и как должна была вести себя с ней Саломэ, поужинали и улеглись спать.
VIII
На другой день мы тщетно прождали Саломэ до сумерек. Вечером, сидя у очага, мы ломали голову над тем, почему запаздывает Саломэ. Уже пригнали домой стадо, на дворе совсем стемнело — вдруг раздались чьи-то шаги. Все прислушались. «Кажется, идут», — сказал кто-то. Скрипнула дверь, и вошли Саломэ и Ниника. Сначала мы обрадовались, но при виде мрачного лица Саломэ радость наша мигом рассеялась.
— Где вы были до сих пор? — раздался в тишине голос Датуа.
— У черта на рогах! Где я могла быть? — холодно отрезала Саломэ, словно вылила нам на голову ушат воды. Несколько минут царило тягостное молчание.
— Народу к этой ворожее привалило видимо-невидимо! — продолжала тетушка уже более спокойно. — Кто только там не был! Осетин, еврей, армянин, грузин — и не знаю кто еще! Когда мы пришли, дом уже был битком набит. Уж мы проталкивались, проталкивались вперед, да зря все… не пропустили нас… Сели и стали ждать своей очереди; к вечеру с трудом дождались. Вошли. Сидит на тахте молодая женщина, держит в руках зажженные свечи, перед ней лежит бычья лопатка. Люди подходят к женщине, кланяются ей, кладут перед ней свечи и деньги, а потом спрашивают о том, что хотят у нее узнать. Я тоже так поступила. Но, родные мои, что она мне сказала!.. Что она мне сказала, бог ты мой!
— Что же она сказала, говори скорей? — кинулась к Саломэ моя мать.
— Все наши беды и несчастья выложила мне. И так подробно все описала, что я диву далась, право! «Вы, говорит, лет десять назад были состоятельной семьей, но потом привязалась, говорит, к вам окаянная русалка, убила у вас старшего в семье, потом старуху, потом парня молодого, а у другого разум отняла. Но и на этом, говорит, не успокоилась, окаянная. Стала донимать одного человека, которому вы должны были какие-то деньги, заставила его увеличить долг со ста рублей до шестисот и так его доняла, что он подал в суд и у вас отобрали виноградник».
— Боже милостивый, святой Георгий-победоносец! — прервал рассказ Саломэ Датуа, возведя глаза к потолку и осенив себя крестным знамением.
— «Но вы, говорит, не очень-то унывали… думали, раз она не подает больше голоса, стало быть, и отстала от вас. Да нет, куда там отстала; она поселилась у вас в доме. И ваш старший в семье занемог после этого».
— Да она ясновидящая, эта женщина! — воскликнул взволнованный Датуа.
— «А теперь, — продолжала Саломэ, — подбирается она, говорит, к женщинам и детям. И спасение ваше только в том, чтобы сойти с этого места и переселиться куда-нибудь подальше. А то сживет она, анафема, со свету всю вашу семью».
Саломэ умолкла. Матушка сидела бледная как мертвец, но лицо Датуа не выражало ни страха, ни смятения.
— Не хочет отстать от нас, окаянная! — тихо произнес Датуа, — придется нам переселиться отсюда.
— Что ты, Датуа! Куда же мы можем переселиться? — воскликнула с ужасом мама. — Какая-то негодная баба, обманщица, сбрехнула что-то с чужих слов, а мы из-за этого должны сниматься с места и переселяться куда-то за тридевять земель?
— Ой, что ты! Не гневи бога! Как можно называть божьего человека негодным? Ты что же, не слыхала, как она подробно пересказала судьбу нашей семьи? — укоризненно заметила моей матери Саломэ.
— Нашу судьбу, милая, не то что эшмакеульская ворожея, а и вся округа знает. К нам даже с окраин города приходили узнавать о русалке. Ворожея тоже, верно, знает о нас понаслышке — вот и пересказала тебе.
— Послушай меня, невестушка, — начал снова Датуа, — в словах знахарки много правды. Ежели, скажем, нас не донимает русалка, так почему же наша семья так захирела? Виноградник у нас отняли, скотина почти вся пала, я болен, дети все время хворают… С чего же тогда все это? Еще и то скажи, что мы лишились земли. Семья наша держалась, потому что нас было четверо братьев, — мы обрабатывали с исполу чужие участки, тем и кормились. А было-то у нас всего — выгон, два бывших подворья да вот этот приусадебный клочок… Виноградник и другой участок получше у нас отняли. Что же у нас осталось? Если бы не Ниника, погибли бы мы от голода. Соберем пожитки и выселимся отсюда. Сойдем с этого заклятого места — даст бог, найдем где-нибудь на стороне новое подворье.
— Надо переселиться! Надо! А то, клянусь именем святого Георгия, дети перемрут у нас от голода и хвори, — добавила Саломэ.
— Куда же, куда мы, голубушка, можем переселиться? И где, какой полоумный подарит нам землю? — упорствовала матушка.
— Куда переселимся? Да в Караязскую степь! — заявил Датуа.
— Ой, родимые! Сегодня только и было разговору у гадалки, что о Караязах. Хвалили это место, так хвалили, что и сказать нельзя! Жарко там, говорят, малость, да это ничего. Урожай, говорят, там не успевают убирать! Гадалке самой довелось побывать там. И не так, говорят, это далеко — за два дня можно обернуться, — сыпала без передышки Саломэ.
— Места, говорят, урожайные на диво, — подтвердил Датуа, — хотя не два, а целых четыре дня езды. Царь наш, говорят, заставил выстроить там дома — приходи и селись! Тут же тебе и землю отмерят и дадут. Но самое лучшее то, что освобождаешься от всех расходов и налогов. И сказывают, что там ни судей, ни приставов не будет.
— Кто это тебе сказал? Кто присоветовал? Бог еще ведает, правда ли все это, — недовольно произнесла мама.
— Ведь вот не втолкуешь ей ничего, этой упрямой бабе, бог ты мой! — рассердился Датуа. — Да зачем мне, матушка, чужие советы слушать? У меня своих ушей нету, что ли? Вот уже год, как только и разговору у нас в округе, что о Караязах. Из Хепрети уже переселились туда несколько семей.
— И мы переселимся, родимые! — весело воскликнула Саломэ.
— Я отсюда никуда ногой не ступлю! Вот и весь мой сказ! — решительно заявила мама.
Разговор на этом прекратился. Датуа хотел, чтобы мы с мамой тоже поехали в Караязы, но мама отказалась наотрез. Наконец, решили, что Датуа с женой, детьми и Ниникой, с запасом провизии на зиму отправятся в Караязы. Деньги на дорогу и на покупку двух буйволов они выручат, продав участок земли. Мы с мамой останемся в деревне, а в пользовании у нас будут приусадебная земля и выгон.
IX
Осенью наша и без того обнищавшая семья привела в исполнение свое решение. Дьякон Захарий за полцены купил у Датуа приусадебный участок. На вырученные деньги дядя приобрел двух буйволов и, присоединив к ним двух домашних волов, впряг их в арбу, посадил на арбу жену и детей, нагрузил ее снедью — и пустился в путь.
Мы с матерью остались одни. Дьякон Захарий очень старался выпроводить и нас вслед за семьей Датуа в Караязы. Он то действовал ласковым уговором, то неприкрытой угрозой, подсылал к нам людей. Но моя мать твердо стояла на своем: «Покуда я жива, с этого места никуда не двинусь!»
Мама хорошо знала грамоту и славилась также как искусная швея на всю округу. Она собрала деревенских девочек и мальчиков и стала обучать их тому малому, что сама знала. Я собирался стать пастухом. Так жили мы тихо, мирно, покойно. Однако нашему спокойствию скоро пришел конец.
Однажды на рассвете раздался отчаянный стук в дверь. Мы вскочили.
— Кто там? — закричала мама.
Стук прекратился, но ответа не последовало.
Мы снова легли и только погрузились в дремоту, как снова раздался стук. Мы снова вскочили, подали голос. Никто не откликнулся.
— Давай откроем дверь и выйдем наружу, — сказал я матери. Она согласилась.
Я схватил топор, матушка — палку, и мы направились к двери. Стали открывать ее; слышим чьи-то торопливые шаги. Открыли дверь и увидели, что какой-то рослый человек перескочил через забор и пустился по проселку.
— Кто бы это мог быть? — спросил я маму, когда мы снова легли в постель.
— Не иначе, сынок, этот супостат — дьякон Захарий!
На другой день вся деревня знала о случившемся. Пустили слух, будто русалка снова повадилась ходить к нам в дом. Пошли по соседям сплетни и пересуды. Беда вся была в том, что сплетни эти имели под собой некоторую почву. Каждую полночь, в течение целой недели, раздавался стук в двери. Но это было еще не все! Дьякон Захарий стал поносить нас на все село… Дошло до того, что он вслух заявил при людях, что подошлет двух-трех осетин к этой очумелой бабе (моей матери), чтобы убить ее сына. Об этом тайно сообщили нам соседи и посоветовали быть настороже. И многое другое передавали нам люди. Но что мы могли поделать? Этот пройдоха дьякон явно прибрал к рукам деревню, стал ее господином. Никто из сельчан не осмеливался перечить ему, все лебезили перед ним. Ну что могла поделать бедная вдова с распоясавшимся пройдохой?
— Надо что-то придумать, сынок, а то этот злодей учинит над нами расправу.
— А что же придумать, матушка? — спросил я. — К Датуа поехать, что ли?
— Нет, родной! Мы просто-напросто оставим этот дом. Тебя я пошлю к дяде, а сама перейду к куму своему Тэдорэ. Мне нельзя уходить отсюда, а то этот негодяй приберет к рукам и остатки нашего добра. Будь они прокляты, нынешние законы! Если он в течение трех месяцев будет пользоваться нашим участком, то потом уже вовсе присвоит его и оставит нас ни с чем.
Я очень любил дядюшек своей матери, радовался, что мне вскоре предстоит отправиться к ним, и не удержался — поделился с соседскими ребятишками своей радостью. Вскоре вся деревня узнала о намерении моей матери. Однако этому намерению не суждено было сбыться. К нашей радости, стук по ночам в доме прекратился. Дьякон тоже как будто утихомирился. Матушка поначалу удивилась этому обстоятельству, подозревая, что за этим затишьем последует новая гроза. Но прошли месяцы, а нашего покоя никто больше не нарушал. Мама тоже успокоилась. Наша жизнь вошла опять в мирную колею.
В ту пору к нам в деревню приехал на богомолье из города один плотник со своей семьей. Увидя меня однажды вечером у дверей церкви, плотник воскликнул:
— Какая жалость, что такой паренек сидит зря в деревне. А ведь он бы мог учиться какому-нибудь ремеслу.
Я передал эти слова матери. Мама очень обрадовалась.
— А может, он, сынок, возьмет тебя в ученики?
— Подойдем попросим! — ответил я.
Мы так и сделали. Поднесли плотнику молодой фасоли, свежих огурцов и еще кое-чего и попросили его взять меня в обучение. Тот обрадовался, взял меня. После этого я оставался в деревне еще два дня. За это время мама собирала меня в дорогу, и когда плотник, сев на арбу, тронулся в путь, я попрощался с матушкой и побежал за арбой; но невольно я все оборачивался и смотрел назад, в сторону нашего двора, у калитки которого стояла мама. Сердце мое словно предчувствовало, что я в последний раз вижу свою дорогую, бедную, многострадальную матушку.
X
Прошло два года с той поры, как я поступил к плотнику. Я часто получал письма от матери. Она писала о себе все одно и то же: «Нет мне покоя от Захария, он всюду ругает и поносит меня; соседи, боясь его гнева, не решаются даже зайти ко мне занять хлебца», и так далее. В последнем письме матушка повторяла свои жалобы. Потом письма перестали приходить. Вскоре после этого я распрощался с плотником и отправился домой.
На землю уже спускались сумерки, когда я вышел на проселочную дорогу и перед моим взором открылись поля и прибрежные заросли — те места, где я, деревенский парень, преследуемый невзгодами крестьянской жизни, провел свое детство и юность. Сердце мое забилось. Одна за другой, с лихорадочной быстротой, проносились в моем сознании горькие и радостные мысли. В памяти моей промелькнуло все мое детство. Вот наша всегда непролазная грязная и все же любимая мною проселочная дорога. Мир вам, незабвенные изгороди, сливовые деревья и птичьи гнезда! Мир вам! Так приветствовал я родную деревню, медленно шагая по дороге, уже, утопавшей в вечерних тенях. Я свернул с проселка и увидел наше старое подворье. Никаких следов, что здесь когда-либо стояло жилье человека! Участок этот дьякон Захарий присоединил к своему наделу. Я обогнул это место и потом пошел напрямик к своему дому. Я шел и представлял себе маму, сидящую с носком и спицами в руках у очага: она вяжет и бормочет что-то себе под нос. Вот я открыл дверь. Матушка услышала скрип двери.
— Кто там? — спрашивает она. — Это ты, Кадуа? — окликает она нашу соседскую девочку.
Я молчу и тихонько подхожу к моей дорогой, ласковой матушке.
— Родной мой! Сыночек ненаглядный! — восклицает она, бросаясь ко мне.
Так шел я, представляя себе эту картину. Вот и наш дом. Вот входные двери. Но какое кругом запустение! Мама ведь так любила чистоту и порядок! Двери? Двери крепко-накрепко заперты. Тут смутное подозрение закралось в мою душу. Сердце тоскливо заныло, внезапные слезы навернулись на глаза.
— Чего я плачу? — спросил я насмешливо самого себя. — Наверное, мама отлучилась к соседям.
И я направился к дому нашего соседа, вошел в сени. Предо мной стояла, опершись на палку, старая Талиа. Она не узнала меня.
— Кто ты, сынок? — прошамкала она.
— Не узнала меня, бабушка? — ответил я. — Я Симон Арешендашвили.
— Ах ты родной мой! — заголосила печально старуха. — Ослепни глаза мои! Ничего я не вижу, стара я стала! Ковыляю еще по земле, а твоя бедняжка мать лежит в земле! Где же, смерть, твоя справедливость? — и старая Талиа принялась голосить и плакать. На ее плач из дому выбежали дети и невестки и ввели нас обоих в комнату. Я окаменел, чувствуя, что на меня обрушилось огромное несчастье. Ни слез, ни стона. Не в силах вымолвить ни слова, я озирался по сторонам, как сумасшедший. Миновала ночь. На другой день я немного пришел в себя и стал осмысливать свое положение. Я стал спрашивать соседей и близких о причине смерти моей матери. Большинство утверждало, что виновницей ее смерти была русалка. Иные же говорили, что это дьякон Захарий отравил матушку.
— А что о Датуа слыхать, не знаешь? — спросил я одного из наших родственников.
— Как не знать! — ответил он. — Приехал он в эти степи Караязские и ровнехонько ничего там не нашел, да падут его беды на дьякона, только пустошь одну. Приютился с семьей на зиму в какой-то хижине. Весной Датуа захворал и через две недели отдал богу душу. Двое малых ребят умерли еще раньше отца: местность там нездоровая. Остальных подобрал и взял к себе какой-то кахетинский князь. Ниника в батраках теперь служит у этого князя, а Саломэ — пекаркой. Двое старших сыновей убежали от отца и поселились в Тифлисе. Наш Гигола видел их там: разбойничают, говорят, тем и живут.
Назад: Аветик Исаакян{245}
Дальше: Нико Лордкипанидзе{252}

