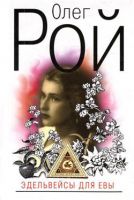II
Утром Марьяна забежала послушать «самое интересное».
— Он ЭТО делает, как бог на Олимпе, — таинственно сообщила Тамара.
— А у богов по-другому, чем у людей?
— У них божественно.
— А это как?
— Не объяснить. Это надо чувствовать.
— А что ты чувствуешь?
— Прежде всего — не стыдно. Для меня главный показатель — стыдно или нет. Если стыдно, значит, надо завязывать: Бог не хочет. А если не стыдно — значит, Богу угодно. Надо себя слушать. Иногда бывает так пакостно. А тут — душа расцветает… такой волшебный куст любви.
— А когда вы успели? Где? — поразилась Марьяна.
— В машине. Музыка из приемника лилась. Вальс Штрауса…
— Значит, в ритме вальса?
— Выхожу — асфальт блестит. Просто сверкает.
— Дождь прошел, — подсказала Марьяна.
— Да? — Тамара поразмыслила: — Может быть. И знаешь, что я поняла?
— Что ты поняла?
— Любовь — это и есть смысл жизни. Люди все ищут, ищут, а вот он… и другого смысла нет.
Тамара помолчала, потом призналась просто, без патетики:
— Я не могу жить без любви. Я не представляю себе, что я буду делать в старости.
«Привыкнешь», — подумала Марьяна, но вслух ничего не сказала.
— Ну, я пойду. — Марьяна поднялась.
— У тебя вечно одно и то же, — обиделась Тамара.
— А у тебя?
— А у меня всегда разное.
Любовь — как свет. И количество света каждой женщине выделено одинаковое. Но Марьяна живет при постоянном ровном освещении. А Тамара — яркими вспышками. Вспышка — темнота. Опять вспышка — опять темнота.
Днем было то же, что и всегда, но с оттенками. У Кольки в школе украли пуховую куртку. Пошли к учительнице, у нее были испуганные глаза.
— А вы не одевайте его в хорошие вещи, — посоветовала учительница. — Купите просто ватничек.
— А где я его куплю? — спросила Марьяна.
Вопрос повис в воздухе. Ничего купить было нельзя, и учительница это знала.
Вышли на улицу. Кольку сопровождал его лучший друг Гоша.
Марьяна сняла с себя куртку и надела на сына.
— А ты? — спросил Колька.
— А я так… Здесь близко.
— Моя мама тоже отдала мне свою шапку, когда у меня украли, — сказал Гоша.
Дома Марьяна полезла на антресоли и достала старое Колькино пальтецо. Он был в нем такой зашарпанный и жалкий, такой совок, что Марьяна зарыдала.
Куртки не очень жалко, это восстановимая утрата. А жалко Кольку, который ходит в ТАКУЮ школу, в ТАКОЙ стране.
Другой страны Марьяна не хотела. Но она хотела, чтобы в ее большом доме был порядок. А когда он еще будет, порядок?
Аркадий делал все, чтобы оградить семью от смутного времени, но время все равно заглядывало в их дом и кривило рожи. И никуда не денешься. Хоть и в красивой квартире, как в шкатулке, — ты погружен в толщу времени. Дышишь им. Хорошо еще, что не стреляют и пули не прошивают стены.
И температура опять ползет к нулю. И сквозь эту слякоть и неразбериху — длинные междугородные звонки. Школьная подруга Нинка Полосина приглашает на свадьбу дочери.
Как бежит время: давно ли сами были девочками, вместе возвращались из школы. Теперь Нина — мама. Дочку замуж выдает.
— А сколько ей лет? — не понимает Марьяна.
— Восемнадцать. Учится на первом курсе.
А ее Колька учится в первом классе. Нина родила в двадцать. Марьяна в тридцать.
— Я постараюсь! — кричит Марьяна. Но она точно знает, что никуда не поедет.
— Поезжай! — неожиданно предлагает Аркадий. — Все-таки новые впечатления.
— Какие впечатления! — удивляется Марьяна. — Чего я там не видела?
— Ну нельзя же все время сидеть на одном месте. Нельзя быть такой нелюбопытной, — с неожиданным раздражением замечает Аркадий.
— Ты хочешь, чтобы я уехала? — удивляется Марьяна.
— Надо отдавать долги. Долги юности, дружбы… Нельзя замыкаться только на себе.
Аркадий переключается с телевизора на газету. Он красиво сидит, нога на ногу. Красиво курит, щурясь одним глазом. А тут куда-то ехать. И преступность выросла. Войдет в вагон какой-нибудь прыщавый шестнадцатилетний и убьет с особой жестокостью.
Однажды, в отрочестве, Марьяна убивала гусеницу. Гусеница была сильная, с рогами, толстая, как сосиска. А Марьяна — еще сильнее и больше. Она придавливала ее к земле палкой. Гусеница выгибалась. Из нее летели сильные чувства: ненависть, боль, страх — и все это излучалось, шло волнами и доставало Марьяну, возбуждая не познанное ранее состояние. Наверное, оно называется — садизм. Садистам нужен чей-то страх, взамен нежности.
— Свадьбу устраивать в такое время… — бурчит Марьяна.
— Время не выбирают. Какое достанется, в таком и живут. И женятся, и умирают.
Это так. Время не выбирают.
Поезд тронулся, и одновременно с толчком в купе вошел второй пассажир. Марьяна сразу его узнала: известный артист, засмотренный мужик. Он был не молод и не стар. От него пахло третьим днем запоя.
Марьяна разбиралась в запоях. Ее мать пила, и Марьяна все детство слонялась по подругам и родственникам, привыкла ночевать где ни попадя. У нее была хрустальная мечта: иметь свой дом. Может быть, именно поэтому она так любила и берегла дом.
Артист тяжело осел на полку, возвышался как стог сена. Внизу — широко, к голове сходит на конус. Он тут же завозился, стал раздеваться. Марьяна вышла в коридор, чтобы не мешать человеку. А когда вернулась, он уже лежал, как стог, если его повалить.
— Вы извините, пожалуйста, — повинился артист.
— За что? — не поняла Марьяна.
— За то, что я вас не развлекаю. Не оказываю внимания.
Он извинялся за то, что не пристает к ней, не использует таких исключительных условий: двое в купе, в ночи.
Марьяне захотелось спросить: «А порядочные женщины у вас были?»
Но не спросила. Это не ее дело.
Артист тем временем захрапел. Купе наполнилось алкогольными парами.
Марьяна тоже легла и стала смотреть над собой. Она плохо спала в поезде. Она могла спать только у себя дома, только рядом с Аркадием. Первые десять лет у них были две кровати, стоящие рядом, но как ни сдвигали матрасы — все равно между кроватями расщелина с жесткими деревянными краями. Аркадий удобно возлежал на матрасе, а Марьяна льнула к нему и оказывалась в расщелине. Марьяна заменила две кровати на одну. Арабскую. Аркадий называл ее облпублдом (областной публичный дом). Кровать широкая, как стадион. Удобный матрас — ни жестче, ни мягче, чем надо. Постель — поэма. Одеяло из чистого пуха. Лежишь, как под теплым облаком. А за окном дождевые капли стучат в жестяной подоконник. За окном дождь и холодно, и волки плачут возле бывшей сталинской дачи. А мой дом — моя крепость.
Марьяна — домашний человек. У нее нет другой специальности.
В ранней молодости мучили молодые амбиции, мечтала сняться в кино, чтобы все увидели, какая она красивая. Пыталась поступить в театральное училище, но ее не взяли. Не нашли таланта. Марьяна тогда расстроилась. Аркадий утешал. У них тогда любовь горела ярким факелом. Аркадию надо было идти в армию, он не представлял себе разлуки. Притворился сумасшедшим и лег в диспансер. Его комиссовали. То ли удачно симулировал, то ли в самом деле оказался слегка шизоидным. Кто может провести грань между нормой и НЕ нормой. Где она, эта нижняя грань?
Аркадий сэкономил два года, поступил в институт и стал врачом.
Да не каким-нибудь, а уникальным специалистом. У него была обостренная интуиция, и он по внешнему виду мог определить состояние человека. Даже по тому, как он здоровается. Нездоровый человек невольно экономит энергию и здоровается безо всякого интереса. По необходимости. А здоровый человек исполнен любопытства и жаждет взаимодействия.
Аркадия постоянно посылали в командировки по углам страны: в Заполярье, на Дальний Восток. Забрасывали бригаду врачей, как десант, для проверки населения. Для выявления онкологических больных.
Аркадий звонил из любой точки земного шара, ему было необходимо прикоснуться словом. Марьяна стояла с трубкой, спрашивала:
— Когда приедешь?
И если не скоро, через неделю, например, Марьяна принималась плакать. А он слушал, как она плачет, и искренне страдал.
Возвращался серый. Уставал душой и телом. Жалел людей. Страдал от собственной беспомощности. Ненавидел нищее здравоохранение и преступно равнодушное общество.
Они подолгу разговаривали. Потом ложились на арабскую кровать под пуховое одеяло, и постепенно чужое несчастье и равнодушное общество отделялись и становились чем-то отдельным, как пейзаж за окном.
Бесчестному житию застоя они могли противопоставить только свой дом — свою крепость. Потом застой рухнул, пришла долгожданная демократия, и еще страшнее стало выходить из дома. Пришлось заказывать железную дверь. И как изменилась жизнь… Как будто среди лета выпал снег. Только что зеленела трава, и вдруг все стало белым.
На кого рассчитывать? Только на Бога. На Иисуса Христа. Аркадий реставрировал иконы. Марьяна смотрела на лики святых, как на фотографии родственников. Христос на руках Марии — ребенок, но иногда вдруг изображался со взрослым, зрелым лицом. Ему как бы отказывали в детстве. Он как бы сразу — Бог.
— Мы сами во всем виноваты, — неожиданно ясно сказал артист. — Семьдесят лет поддерживали эту власть и работали на нее, как рабы.
Для бреда эта фраза была слишком длинна и осмысленна.
— Я не поддерживала, — сказала Марьяна. — Я просто жила.
— Вы молчали. А значит, поддерживали. И значит, должны искупить.
— Каким образом? — не поняла Марьяна.
— Поваляемся в дерьме. Может, умоемся кровью. А уж потом заживем по-человечески.
— А это обязательно — поваляться в дерьме?
— Обязательно, — убежденно сказал артист.
Он сел и стал открывать бутылку с минеральной водой. Прислонил пробку к краешку стола и стал стучать кулаком сверху. Проще было взять открывалку. Но это была ЕГО дорога к утолению жажды.
Нина Полосина стояла на перроне и ждала. Настроение было подавленное. Как там у Пушкина в «Мазепе»: «Три клада всей жизни были мне отрада…»
У Нины Полосиной тоже было три клада. Дочь Катя. Красивая, способная девочка. Еще в школе учительница говорила: «Мне даже плакать хочется, какая хорошая девочка».
Второй клад — здоровье. Каждый раз после диспансеризации врач говорил: «Вы, Нина Петровна, практически здоровая женщина».
— А теоретически? — спрашивала Нина.
— Теоретически мы все больны. Экология.
Третий клад — профессия, марксистско-ленинская философия. До тех пор, пока социализм на дворе, кусок хлеба обеспечен.
И вот все разом рухнуло. Как будто лавина сошла с горы с тихим зловещим шорохом и все срезала на своем пути.
Катя выходит замуж за грузчика. Окончил ПТУ. Или даже не окончил. Мезальянс. Неравный брак. Это как раньше, во время революции, барышни-дворянки влюблялись в «братишек».
Катя влюбилась в грузчика. А почему? Потому что исполнилось восемнадцать, время любить, а общества нет. Институт девчачий, педагогический. Из института — домой. Из дома — в институт. Кто первый проявил инициативу — тот и случился.
Во времена Пушкина были балы, ярмарки невест. Собирались люди одного круга. Существовала такая профессия — сваха. Все было продумано. А сейчас? Где молодая девушка будет искать жениха? На юг поедет? В троллейбусе познакомится?… Скромная девушка с косой… Он носит ее на руках. Мышцы играют. Она хохочет, уцепившись за шею. Не хочет слушать никаких увещеваний. Рыдает. Пришлось уступить. Приходится ведь уступать наводнению. Или урагану. Налетит, сломает деревья, повалит столбы. И утихнет. Потом люди выходят, поднимают столбы, натягивают провода. Устраняют последствия.
Так будет и с Катей. Через год прозреет. Разведется. Хорошо, если не родит за это время. Ребенок — это такое последствие, которое не устранишь.
Третий клад оказался фальшивым — марксистско-ленинская философия. Все полетело в тартарары: и Маркс, и Ленин.
Нина и раньше недолюбливала Маркса за то, что он жил на содержании у Энгельса. Она скептически относилась к людям, которые живут за чужой счет. Ленин — другое дело. Ленин — идол. А русский человек не может без идола, это у него с языческих времен. Но Ленина хотят уволить из идолов, захоронить мумию в землю. Или продать Эмиратам за большие деньги. За валюту. А на валюту поддержать старичков-пенсионеров. И то польза. Муж Нины Михаил, полковник милиции, за голову хватается: продать Ленина. Какой цинизм…
Западные ученые возражают против захоронения: мумия имеет большую давность — 70 лет. Это научный эксперимент. Жалко зарывать эксперимент в землю…
Разве можно было еще пять лет назад представить себе такие слова вокруг Ленина: эксперимент, продать… Вот уж действительно стихийное бедствие, лавина в горах. А как остановить это бедствие? Никак. Многие торопливо упаковывают чемоданы, продают квартиры за валюту — и наутек. Кто быстрее — люди или лавина? Кто успеет… Добежали до Израиля, до Америки и дышат тяжело.
А Нина со своей марксистско-ленинской философией и мужем полковником милиции куда побежит? Что он умеет? Приказы отдавать?
Второй клад — здоровье — сказал печально: «До свидания, Нина. До лучших времен».
Давление образовалось от такой жизни. Печет в затылке. Того и гляди, лопнет сосуд и зальет мозги. Хорошо, если помрешь в одночасье, а то ляжешь в угол, как мешок. Вот когда грузчик понадобится: двигать туда-сюда мебель.
Ах, как тяжело, как безрадостно…
Поезд тем временем подошел и остановился, и от вагона отделилась Марьяна, подруга детства, и пошла навстречу. Красивая, дорогая, благополучная женщина. И не изменилась с тех пор: те же тихие глаза, то же выражение доверия на лице. Она шла из прошлого, из тех времен, когда были молодыми, и «чушь прекрасную несли», и надеялись…
Сейчас иногда кажется, что не было ни детства, ни молодости, как не было, например, Древнего Египта. Уже XXI век на носу, компьютеры, роботы работают за людей, и даже египтяне — не те, что были в древности. Антропологи утверждают, что у них другая форма черепа. А пирамиды стоят, и никуда не денешься. Значит, БЫЛО. Было.
И Марьяна идет. Значит, было детство и мама.
Нина заплакала. Марьяна обняла подругу, почувствовала волнение и в этот момент порадовалась, что не пожалела и привезла дорогой подарок: полный набор хрустальных фужеров. Память на всю жизнь. Если не перебьют, конечно.
Медленно пошли по перрону.
— Кто жених? — спросила Марьяна.
— Грузчик.
— В каком смысле? — уточнила Марьяна.
— В прямом. Отгружает холодильники.
— Диссидент?
В семидесятые годы был такой вид социального протеста, когда интеллектуалы шли в сторожа и в лифтеры.
— Какие сейчас диссиденты? — мрачно спросила Нина. — Говори что хочешь. Просто грузчик, и все.
— Ты серьезно? — не поверила Марьяна.
— Серьезно, конечно.
— А где Катя его взяла?
— Домой пришел. По адресу явился. Мы холодильник на дачу перевозили. Он пришел с напарником. Стащили холодильник с пятого этажа. А потом он на руках снес Катю. Было весело. На другой день он явился к нам с цветами. Снова было весело. Довеселились.
— А он ничего? — спросила Марьяна.
— Много ест. Суп с хлебом с маслом. Компот с хлебом с маслом. Я каждый раз боюсь, что он все съест и примется за меня.
— А Катя его любит?
— Как можно любить человека, который не читает книг? И не пьет ни грамма. Все пьют, а он нет.
— Так хорошо.
— Подозрительно. Боится развязать. По-моему, он завязавший алкоголик.
— Но ведь это надо выяснить, — встревожилась Марьяна. — Иначе как от него детей рожать?
— Вот именно…
Под угрозой была не только дочь, но и внуки, и правнуки.
— Будь он проклят, этот холодильник, — сказала Нина.
— А как Миша?
— В милиции. Сталинист и антисемит. Но сейчас он считает: лучше бы Катя вышла за еврея.
— А евреи грузчиками бывают? — удивилась Марьяна.
— Нет. Они сейчас на бирже. Но уж лучше на бирже.
— Да… — задумчиво сказала Марьяна.
Шли какое-то время молча. Жизнь складывалась не так, как хочешь. Хочешь одно, а получаешь другое. Вот Колька вырастет, тоже женится на Тамариной дочке. Они уже сейчас каждый вечер мультики вместе смотрят. Тамарина дочка вся в маму. Обожает, когда про любовь. А Колька смущается, отворачивается. Дурак еще. Но она научит.
— А тебя носил кто-нибудь на руках? — спросила Марьяна.
— Нет, — растерялась Нина.
— И меня нет.
Вышли к стоянке такси. Цены подскочили в десять раз, поэтому машины стояли свободно.
Марьяна подумала вдруг, что двадцать пять лет проработала рабой и Аркадий воспринимал сие как должное. Не дарил цветов, не носил на руках. Зато он не был сталинист, грузчик и алкаш. Он принадлежал к тонкой благородной прослойке, именуемой «интеллигенция». При этом — к лучшей ее части. К подвижникам. Земским врачам, которые шли в народ и трудились в поте лица.
За это можно носить на руках.
— А ты как? — спохватилась Нина.
— Так собой… У нас есть знакомый грузин, который вместо «так себе» говорит «так собой», — пояснила Марьяна.
Марьяна не любила хвастаться своей жизнью, предпочитала прибедняться. Боялась спугнуть, сглазить.
У детей есть дразнилка: «Я на эроплане, ты в помойной яме».
Так и Марьяна. Она на «эроплане», при любви, при деньгах, при смысле жизни. А почти все вокруг в яме проблем. Хорошие люди, а в яме. Марьяне просто повезло. С высоты аэроплана она видела кое-где редкие семьи на такой же высоте. Но это так редко, как гениальность.
Катя стояла посреди комнаты в свадебном платье, сшитом из тюлевой занавески. Соседка-портниха укрепляла ветку искусственных ландышей на плече. Ландыши — не Париж, да и платье из занавески, но все вместе: молодость, цветение человека, ожидание счастья, высокая шея, тонкая талия… — все это было так прекрасно, что Марьяна обомлела.
Обомлел и Костик, первый гость, Катин школьный товарищ. Он пришел с самого утра и ошивался без дела. Путался под ногами.
Костик смотрел с ошарашенным видом. Для него Катя была соседка по парте, каждодневная девочка, пальцы в заусеницах. И вдруг он увидел белую мечту.
— Какой же я был дурак, — сказал себе Костик.
Он был приглашен на свадьбу свидетелем, а мог и женихом. Это открытие ударило его, как дверью по лицу. Было больно и неожиданно.
Нина и Марьяна, едва раздевшись, отправились на кухню и стали украшать тарелки с салатом и холодцом. Из зеленого лука, моркови, крутых яиц и маринованных помидоров Марьяна выстраивала на тарелках целые сюжеты с зелеными лужайками, зайчиками и мухоморами.
— Да бросьте, тетя Маша, сейчас придут и все порушат. Все равно в желудке все перемешается, — говорила Катя.
— Прежде чем порушат, будет красиво, — возражала Марьяна.
— Это позиция! — Катя цапнула с торта орешек.
— Не хватай! — одернула Нина. — Терпеть не могу, когда хватают. И учти, я в загс не пойду. Много чести!
— Не ходи, — легко согласилась Катя. — Мы быстренько: туда-сюда.
— Видала? — Нина обернулась к Марьяне. — Туда и сюда… Как тебе нравится?
— А что ты хочешь? — беззлобно удивилась Катя. — Тебе так не нравится и так не нравится…
Она цапнула еще один орешек и удалилась, облизывая палец.
Нина без сил опустилась на табуретку.
— Разве я о такой мечтала свадьбе? — грустно сказала она.
— А знаешь, этот Костик… Он посожалел.
— И что с того? — удивилась Нина.
— Ничего. Так.
Распахнулась дверь, вбежал жених в куртке. Он был усатый и волосатый, как певец из вокального ансамбля.
— Машина пришла! — запыхавшись, объявил жених. Он подхватил Катю на руки и помчался с ней к дверям.
— Пальто! — душераздирающе крикнула Нина.
— А, да… — спохватился жених.
Костик накинул на Катю пальто, как плед. Она сидела на руках, как в кресле-качалке, закинув нога на ногу.
Они скрылись в дверях. По лестнице вместе с белым шлейфом летела их молодость и молодая страсть.
Костик засуетился, втиснулся в свой плащ и тоже поспешил следом.
— Как он тебе? — спросила Нина.
Марьяна молчала.
Она испытывала что-то похожее на светлую зависть. Дело не в том, кто грузчик, кто врач. Жизнь прошла. Не вся, конечно, но вот этот кусок оголтелой беспечности, когда все смешно. Палец покажешь — и смешно. А сейчас — палец покажешь и смотришь. Ну да. Палец. И что? Ничего.
Катя вернулась пешком и одна. Она шла на высоких каблуках, как на ходулях.
— Машина ушла. Не дождалась, — объяснила Катя.
— А этот где?
— Новую ловит.
— А почему ушла машина? — возмутилась Марьяна.
— Плохо договорился, значит, — объяснила Нина. — Мало денег дал.
— Знаешь, сколько они запрашивают? — заступилась Катя.
— Он к тому же еще и жадный.
Нина вдруг села и зарыдала.
Катя приблизилась к матери, стала гладить ее по волосам, изредка повторяя: «Мама, ну мама…» Произносила с теми же интонациями, что и Нина в детстве.
— Перестаньте! — попросила Марьяна. — Нашли время.
В кухне снова появился жених, радостно возбужденный удачей.
— Нормалек! — объявил он.
Подхватил Катю и исчез, не заметив трагедии, разыгравшейся вокруг его персоны.
— Мне начинает казаться, что Катька того… с прибабахом, — поделилась Нина.
— А что это значит?
— Ну… дура. Неполноценная.
— А ты — нет?
— Это почему?
— Надо уважать в молодом человеке его будущее. Понимаешь? Нельзя унижать недоверием.
— Какое будущее у грузчика? — удивилась Нина.
— А откуда ты знаешь? Ты же ничего не знаешь. Ломоносов тоже мог прийти в Москву и какое-то время работать грузчиком.
На кухне появился муж Нины. Он был в сатиновых трусах и в майке. Стал шумно пить воду, после чего скрылся.
— Все время лежит и смотрит в стену, — сказала Нина. — Переживает.
Жизнь на сорок пятом году показала полковнику большую фигу. Видимо, он целыми днями лежал и рассматривал свою жизнь с фигой на конце.
* * *
Гости съезжались к восьми часам. В основном — молодежь, племя младое, незнакомое. Преимущественно — девушки. Катины подруги. Грузчик своих друзей пригласить не решился, а может, у него их и не было. Родителей тоже не было. Отца — никогда (кроме момента зачатия). А мать жила в деревне и не смогла выбраться.
Марьяна весь день простояла на ногах и так устала, что хотелось одного: уйти и лечь на Мишино место. Миша к восьми часам воспрял, надел штатский костюм — синий в полоску — и выглядел хоть куда: «Джеймс Бонд по-советски». Он реагировал на молодых девушек, явно предпочитая блондинок. Нина стояла с приклеенной улыбкой.
Шумно уселись за стол.
Катя оказалась права: все в момент было сметено могучим ураганом молодых аппетитов. И никто не увидел красоты зеленых полянок с мухоморчиками. Жених ел, не переставая, будто включили в розетку. Его отвлекали только крики «горько». Тогда он поднимался и майонезными губами впивался в Катю. И было видно, что парень он бывалый и целуются они не в первый раз.
Миша в эти минуты каменел лицом и старался не смотреть, как мызгают его дочь, чистую голубку.
В какой-то момент всех накрыло теплом и счастьем застолья. Нина как бы смирилась с происходящим и даже хватила водки. Но вдруг горько разрыдалась. Все решили — от счастья. И только Марьяна видела, как безутешно и тяжело она плачет. Будто у гроба.
Марьяна тихо выбралась из-за стола. Накинула пальто. Вышла на улицу.
Неподалеку за углом светился окнами телеграф. Он работал круглосуточно. Марьяна вдруг поняла, зачем она вышла. Позвонить домой. Прикоснуться голосом к своей жизни. Что они сейчас делают? Колька, наверное, уже спит. У него манера сбивать простыню и одеяло в общий ком, и он валялся, как подкидыш в тряпках. Бог его подкинул Марьяне. Как будто зажег свечку. И все осветилось в ее жизни до последнего уголочка. Все стало ясно: зачем так долго любила Аркадия? Чтобы завязался плод любви. Зачем они оба работают, каждый на своей ниве? Чтобы взрастить свой сад.
Улица, по которой шла Марьяна, — из тех давних санкт-петербургских времен. Все дома разные. Стиль — артнуво или постмодерн.
Марьяна не очень в этом понимает. Аркадий — понимает.
Марьяна вошла в помещение телеграфа. Женщина за окошечком штамповала конверты. Марьяне почему-то вспомнились письма из-за границы в нарядных конвертах. Сверху пишется имя адресата: кому письмо. Потом улица. Дом. Город. В конце страна. Страна — в самом конце. Главное — человек. А на наших конвертах все наоборот. Страна — в начале, человек — в конце. Людей много, а страна одна.
Марьяна вошла в автомат. Набрала номер. Ожидала услышать междугородные шумы, но голос возник сразу. Как из космоса.
— Ну что ты сравниваешь? — спросил мужчина.
Марьяна поняла, что случайно подключилась к чужому разговору. Хотела положить трубку, но помедлила. Голос был знаком.
— Что ты срав-ни-ва-ешь? — повторил мужчина.
Эта манера говорить по слогам принадлежала Аркадию. Когда он что-то хотел доказать, то выделял каждый слог. И голос был его — низкий, глубокий. Аркадий — меланхолик, говорит, как правило, лениво, но сейчас в его голосе прорывалась сдержанная страсть.
— У тебя дело, люди, путешествия. У тебя есть ты. А у нее что? Сварить, подать, убрать, помыть. Она живет, как простейший организм. В сравнении с тобой она — инфузория-туфелька.
— Но живешь ты с ней, а не со мной, — ответил женский голос.
— Мне ее жаль. А тебя я люблю.
— Любовь — это не количество совокуплений. А количество ответственности. Я тоже хочу, чтобы меня жалели и за меня отвечали. И хватит. Давай закончим этот разговор.
— Подожди! — вскричал Аркадий.
— Когда началась война в Афганистане? — вдруг спросила женщина.
— Не помню. А что?
— У нас с тобой все началось в тот год, когда наши ввели войска в Афганистан. А сейчас война уже кончилась. А мы с тобой все ходим кругами. Вернее, ты ходишь кругами. Мне надоели самоцельные совокупления, за которыми ничего не стоит. Я сворачиваю свои знамена и отзываю войска.
— Подожди! — крикнул Аркадий.
— Опять подожди…
— Не лови меня на слове. Я сейчас приеду, и мы поговорим.
— Если ты будешь говорить, что твоя жена инфузория-туфелька, а у сына трудный возраст, — оставайся дома.
— Я сейчас приеду…
Раздались короткие гудки.
Марьяна посмотрела на трубку и опустила ее на рычаг.
Постояла.
Снова набрала. Шипение, соединение, длинные гудки. Уехал. А Колька? Куда он его дел? Взял с собой? Бросил одного? А если он проснется?
Марьяна вышла из будки. Женщина за окошечком продолжала штамповать конверты. Всего три минуты прошло. Ничего не изменилось за три минуты: улицы привычно скрещивались возле телеграфа. Одна прямо, другая под углом. Ходят люди. Стоят дома. У Нины — свадьба.
Марьяне казалось, что она в аквариуме, как рыба. Между ней и окружающей средой — стена воды, потом толща стекла. За стеклом люди, а она — рыба.
Марьяна сделала шаг. Еще один. Надо было идти. И она пошла. И добралась до нужного места. Свадьба. Едят и пьют. А некоторые танцуют в другой комнате. Топчутся как-то.
Никто не заметил отсутствия Марьяны. Она прошла на кухню и начала мыть тарелки. Тарелки были свалены как попало, надо было освободить от объедков и рассортировать: большие к большим, средние к средним.
В кухню вошла Нина и сказала:
— Да брось ты, завтра все вымоем. — Она села на стул. — Ты заметила, ни грамма не выпил… На собственной свадьбе… Даже рюмки не поднял.
Нина ждала реакции. Марьяна молчала. Потом подняла голову и спросила:
— Когда началась война в Афганистане?
— В семьдесят шестом, кажется… Надо у Миши спросить. Он знает. А что?
Лицо Марьяны было напряженным, как у глухонемой.
В семьдесят шестом году. Сейчас девяносто второй… Шестнадцать лет у него другая. Шестнадцать лет — целая жизнь. Совершеннолетие. А она ничего не заметила. Они вместе спали. Зачинали Кольку. Значит, он спал с двумя. Там были самоцельные и качественные совокупления. Там он любил. А ее — жалел.
Аэроплан рухнул в помойную яму. С большой высоты. Отбило все внутренности. Очень больно. Хорошо бы кто-нибудь пристрелил. У Миши наверняка есть пистолет. Но зачем привлекать других людей? Можно все сделать самой. Выбежать на улицу и броситься под машину. Все. Несчастный случай. Никаких разбирательств. Никто не виноват. Правда, у Нины прибавится хлопот. Заказывать гроб. Грузить. Но грузчик уже есть.
На тарелке кусок ветчины. Нетронутый. Выбрасывать? Или завтра доедят. Грузчик доест.
Колька спит в тряпках, как сирота. Кому он нужен? Кто будет завязывать ему тесемки, проверять железки? Кольке — восемь лет. Значит, он родился в середине той любви. Значит, Аркадий предал Афганку, когда зачал и родил Кольку. Она не захочет терпеть Кольку в своем доме. Сдадут в интернат. Там его будут бить и отнимать еду. Он научится воровать и втягивать голову в плечи, ожидая удара. Нет! Она никогда не подставит своего сына. Но и в дерьме жить не желает. Она выгонит Аркадия, как собаку. Пусть идет вон из ее чистого дома, блудит по подъездам. А впрочем, эта Афганка где-то живет… У нее есть помещение. Вот пусть и забирает к себе и качественно совокупляется: утром, днем, вечером и ночью. Беспрепятственно.
Большие тарелки окончились. Начались средние. Сервиз красивый — белый с синим. Похож на английский. Но чешский.
Аркадий соберет свой чемодан и уйдет. Чемодан и иконы. Больше она ему ничего не отдаст. Да он и сам не возьмет. А на что жить? Профессии — никакой. Можно сунуться в малое предприятие, секретаршей. Кольку на продленку. Целый день без присмотра. Он превратится в дитя улицы. Научится матерным словам.
Аркадий, конечно, будет подкидывать денег. Не даст пропасть. Но это зависит от того, как они расстанутся. С каким текстом она его выгонит. Значит, надо выбирать слова.
А вдруг не придется выбирать. Ведь неизвестно, о чем они сегодня договорятся с Афганкой. Может быть, Аркадий захочет прожить еще одну новую жизнь, с новыми детьми.
Он встретит ее утром на вокзале и все скажет. Произнесет. Она отреагирует:
— А я знаю.
— Откуда? — удивится он.
— Я слышала по телефону.
Он подумает и скажет:
— Тем лучше.
Потом соберется и уйдет. Из дома уйдет Аркадий и вынесет тепло. Зачем тогда этот дом? Просто жить и терпеть каждый день?
Тарелка упала и разбилась. Черт! Сервизная тарелка. Марьяна стала собирать осколки и опускать их в ведро.
— Эксплуатация человека человеком отменена в семнадцатом году. Прошу все бросить и сесть за стол.
Марьяна вернулась в комнату. Был накрыт чай.
О! Какие убогие советские торты с тяжелым жирным кремом. Как можно это есть? А ничего. Едят и здоровы. И счастливы. Муж Нины без особых талантов. Незатейливый человек. Зато СВОЙ. И грузчик будет такой же. Без фантазий. Фантазии распространяются в оба конца — на добро и на зло. На творчество и предательство.
Марьяна стала есть торт. Как все. Она думала, что существует на другом, более высоком уровне. А вот поди ж ты: в уровне оказалась большая дыра, и сейчас она загремела в эту дыру вместе с мебелью, японским холодильником с красивыми продуктами внутри. Так, наверное, бывает во время землетрясения, в те несколько секунд, когда все вздрагивает, наклоняется и осыпается в преисподнюю. И Колька скользит ногами, и за что-то держится, и верещит своим пронзительным голосом.
«Ко мне, ко мне, сюда!» — взывает Марьяна, ловит его, и прижимает, и закрывает всем телом.
Марьяна ела торт. Торт на ночь. Килограмм плюс. Какая разница? Кому нужна ее стройная фигура? Аркадию все равно. И ей самой тоже все равно. Жизнь кончилась.
Стреляться она не будет. И под машину бросаться не побежит. Что за безвкусица? Она будет жить день за днем. И пройдет всю дорогу. Говорят, Бог не любит самоубийц. И если к нему попадешь раньше намеченного срока — он не принимает. Как начальник. И ты маешься в приемной до своего часа. Какая разница: где ждать этот ЧАС. Там или тут?
Аркадий стоял на перроне — такой же, как всегда. Он обнял Марьяну, поцеловал. Губы были крупные и теплые, как у коня.
«Сейчас скажет», — подумала Марьяна. Но Аркадий молчал. Остановил носильщика. Поставил чемодан. Он не любил поднимать тяжести, даже незначительные.
— Ну как? — спросил Аркадий.
Захотелось крикнуть: «Я все знаю!» Но она спросила:
— А у тебя как?
— Как обычно, — сказал Аркадий.
Вот это правда. Как обычно — работа, мастерская, Афганка. Или другой порядок — работа, Афганка, мастерская. А может, они встречаются в мастерской, среди ликов святых. О! Как они были счастливы и несчастны.
— Ты чего? — спросил Аркадий. — Устала?
Марьяна не ответила. Что отвечать? Устала ли она? Она умерла. Покончила с собой. С прежней. И теперь ждет своего ЧАСА.
Носильщик проворно катил тележку. Приходилось торопиться.
Аркадий загрузил чемодан в машину. Удобно. Кто-то берет твой чемодан и загружает.
Машина тронулась. За окном грязная Москва. Чего же она такая грязная? Не убирают?
Аркадий сидел непроницаемый, как сфинкс. Хотелось спросить: «Что ты решил?»
Но спрашивать — очень страшно. Спрашивать — значит знать. А знать — значит взрезать ситуацию скальпелем, как живого человека. Тогда надо что-то срочно делать: или зашивать, или хоронить.
Лучше ни о чем не спрашивать. Сидеть в машине и смотреть на Москву.
— Батрачила? — догадался Аркадий. — Тарелки мыла?
Пожалел. Он ее жалел. Значит, сегодня не уйдет.
Марьяна не стала разбирать чемодан. Сразу легла. Ей снился падающий самолет. Он устремился к земле, но удара не было. За секунду до удара Марьяна вскидывалась, садилась на кровать и обалдело смотрела по сторонам. Ей казалось, что она сошла с ума. А может, и сошла.
Поднялась через два часа и задвигалась по дому. Надо было приготовить еду. У нее было несколько привычных скорых рецептов, когда можно было накормить быстро и без проблем.
В прихожей стояло старинное зеркало, стиль «псишо» или «псише». Марьяна увидела свое лицо — тусклое, белесое, овальное.
«Инфузория, — подумала Марьяна. — Даже без туфельки. Простейший организм. Что он может дать своему мужу, кроме обеда и преданности?»
Та, другая, питает его воображение, наполняет жизнь праздником. Их души, как двое детей на пасхальной открытке, берутся за руки, и взлетают на облако, и сидят там, болтая ногами. А она что? Гири на ногах. Попробуй взлети.
В замке повернулся ключ. И Марьяне показалось — он повернулся в ее сердце, так оно радостно вздрогнуло.
Все что угодно. Пусть ходит к ТОЙ. Только бы возвращался. Только бы возвращался и жил здесь. Она ничего ему не скажет. НИЧЕГО. Она сделает вид, что не знает. Инфузория-туфелька вступит в смертельную схватку с той, многоумной и многознающей. И ее оружие будет ДОМ. Все как раньше. Только еще вкуснее готовить, еще тщательнее убирать. Быть еще беспомощнее, еще зависимее и инфузористее.
Марьяна спокойно поставила перед мужем тарелку, а сама села напротив и смотрела, как он ест. Ест и читает газету. Плохая привычка. Переваривает сразу две пищи — плотскую и интеллектуальную.
— Ты чего? — спросил Аркадий.
— Ничего. Скоро зима.
Скоро зима. Потом весна. Время работает на Марьяну.
Аркадий будет приходить к Афганке и как в кипяток опускаться в упреки, скандалы, в самоцельные совокупления. А потом возвращаться домой и сразу отдыхать. Дома покой, сын, преданность, вкусная еда. И Аркадию после тяжелого рабочего дня захочется в покой, а не в упреки. Отношения завязнут, как грузовик в тяжелой грязи, начнут буксовать. Афганка захочет подтолкнуть ревностью, заведет себе другого Афганца. А вот этого Аркадий не потерпит. Марьяна приучила его к чистоте и преданности. Он захочет то, к чему привык. И в один прекрасный день все разлезется и рассеется, как облако в небе. То ли было, то ли не было… Афганка свернет свои знамена. Аркадий отдаст честь.
Афганка наведет румянец, отточит интеллект — и в новый бой, ошеломлять своими талантами. А время упущено. А детей нет. И значит, уже не будет. И впереди одна погоня за призраками, через морщины, через усталость. Погоня — усталость — пустота. И в конце концов — одинокая больная старость. А за что? За то, что верила и любила. За то, что замахнулась на чужое. Вот за что. Хотела горя другому. Но ты это горе положила в свой карман. А она, Марьяна, — она ни при чем. Она даже ничего не знает.
— Ты что такая? — снова спросил Аркадий.
— Какая?
— На винте.
Заметил. Замечает.
Говорят, что жертва испытывает подобие любви к своему палачу. И, чувствуя нож в своем теле, смотрит ему в глаза и произносит: пожалуйста…
Что пожалуйста? А все. ВСЕ. ЖИЗНЬ.
А потом была кровать-поэма. И ночь, как война, в которой Марьяна дралась за свой дом, как солдат в захватнической войне.
И даже во сне, уйдя от мужа в свой сон, она продолжала держать его за выступ, который считала СВОИМ. И Аркадий не отклонялся. Видимо, хотел, чтобы его держали.
Утром Марьяна провожала Кольку в школу. Он шел рядом, тяжело шаркая. У него были сапоги на вырост. Марьяна посматривала на сына сбоку: как будто сам Господь Бог взял кисточку и нарисовал в воздухе этот профиль. Одно движение — и все получилось. Без поправок. Природа не зря медлила с ребенком для Марьяны. Поджидала и готовила именно этого.
На обратной дороге забежала к Тамаре. Пили кофе. Тамара по-прежнему была похожа на двойной радиатор, но с выключенным отоплением. Широкая, прохладная. Ее что-то мучило.
Тамара курила, глубоко затягиваясь, соря пеплом.
— У него четверо детей, представляешь? — сообщила она. — Мусульмане не делают аборты. Им Аллах не разрешает.
— Я бы тоже четырех родила, — задумчиво сказала Марьяна. — Хорошо, когда в доме маленький.
— Его жена с утра до вечера детям зады подтирает. И так двадцать лет: рожает, кормит, подтирает зады. Потом внуки. Опять все сначала. О чем с ней говорить?
— Вот об этом, — сказала Марьяна.
— Живет, как… — Тамара подыскивала слово.
— Инфузория-туфелька, — подсказала Марьяна.
— Вот именно! — Тамара с ненавистью раздавила сигарету в блюдце. — Это мы, факелы, горим дотла. А они, инфузории, — вечны. Земля еще только зародилась, плескалась океаном, а инфузория уже качалась в волнах. И до сих пор в том же виде. Ничто ее не берет — ни потоп, ни радиация.
— Молодец, — похвалила Марьяна.
— Кто? — не поняла Тамара.
— Инфузория, кто же еще… Ну, я пойду…
— Подожди! — взмолилась Тамара. — Я расскажу тебе самое интересное.
— Ты уже рассказывала. — Марьяна поднялась.
— Нет, не это… Мы вышли вчера из машины. Луна плывет высоко… и снег светится от собственной белизны. Представляешь?
Лицо Тамары стало мечтательным. Она хорошела на глазах и из радиатора парового отопления превращалась в музыкальный инструмент, растянутый аккордеон, из которого плескалась вечная музыка души.
— Снег светится от луны, — исправила Марьяна.
— Нет. Собственным свечением. Снег тоже счастлив…

Назад: I
На главную: Предисловие