Книга: Женщины Вены в европейской культуре
Назад: Альма Малер-Верфель (1879–1964)
Дальше: Берта Цукеркандль (1864–1945)
Доктор Евгения Шварцвальд
(1872–1940)
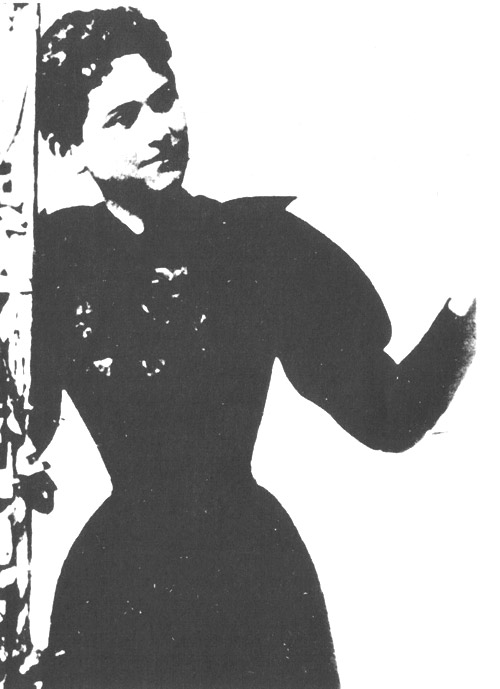
Евгения Шварцвальд.
Евгения Шварцвальд принадлежит к числу первопроходцев, сыгравших выдающуюся роль в истории австрийской педагогики. Наибольших высот она достигла в воспитании девочек, а решительная, но легкая и ироничная манера, с какой она умела пробивать бюрократическую твердолобость, может быть взята на вооружение и сегодня. При этом доктор Евгения Шварцвальд, Гения или Фраудоктор, как ее повсюду называли, воплощала умеренный, отнюдь не воинствующий тип эмансипированной дамы, которая проводила свои реформы под прикрытием традиционного представления о женском облике.
Евгения Шварцвальд, в девичестве Евгения Нусбаум, родилась 4 июля 1872 года в галицийском местечке Полупановка на тогдашней австро-венгро-русской границе, к северу от легендарных Черновиц. Школьные годы она провела на родине и в Вене, потом были лицей и учительский семинар в Черновицах. Поскольку родители не имели никакого состояния, возникла необходимость в финансовой поддержке со стороны, отчасти Евгении помогал венский кузен Виктор Нусбаум, отчасти — будущий муж, доктор Герман Шварцвальд.
Самой Евгении в школе приходилось очень худо, это обстоятельство пошло на пользу многим поколениям ее учеников и учениц.
«…Мое детство было омрачено тупой, холодной и ненавистной учебой в одной из школ, какие в конце восьмидесятых и начале девяностых годов стали обычным явлением во всех странах. Так как по натуре я очень общительна, то, переступив порог школы, твердо решила всем сердцем полюбить и семь десятков будущих подруг, и восьмерых учителей. Но это оказалось делом несбыточным. Они не позволяли себя любить. Атмосфера была очень тяжелая… Кроме того, меня одолевала неимоверная скука… Чем старше я становилась, тем труднее было заставлять себя ходить в школу… Духовное отчуждение усиливалось с каждым часом. Приходилось тайком читать хорошие книги вместо плохих, рекомендованных в школе… Постоянно вошло в привычку искать духовную пищу под партой… И по сей день нет для меня красок милее и ближе, чем розовато-коричневые тона рекламных книжек. Но „подпартное“ образование перестало радовать. Благовоспитанному ребенку не подобало иметь тайн. Было не понять, что можно, а чего нельзя, и все тонуло в молчании. Это угнетало душу и лишало покоя и самоуважения. Школа самым наглядным образом подтверждала мысль о том, что юность есть не что иное, как состояние мучительного перехода…»
После окончания учебы для жаждущей знаний девочки оказался закрытым доступ во все университеты монархии. В Швейцарии же, в которой, как известно, очень поздно добились для женщин равного с мужчинами избирательного права, как это ни парадоксально, путь к женскому образованию был открыт гораздо раньше. С 1840 года гражданки Швейцарии, а с 1865 и иностранки получили возможность учиться на философских факультетах, в Австро-Венгрии же этого академического новшества удалось добиться только в начале нашего столетия.
Послушаем, что говорит об атмосфере, царившей на философском факультете в Цюрихе, сама Евгения Нусбаум:
«…Но тот, кому привелось быть студентом в Цюрихе на рубеже веков, пережил нечто совсем иное: студенческих волнений тогда не было, волновало, может быть, лишь одно: удастся ли мне продвинуть себя и все человечество по пути прогресса? Все существующее вызывало недовольство, как это всегда свойственно молодежи. Мечталось о революции… Идея переворота витала в то время в воздухе. С таким запалом я и появилась в Цюрихе. И тут меня сразу окутала беспечальная, приятно оживленная атмосфера, которая навевала спокойствие и безнадежность. Как же так? Выходит, в революции не было необходимости? Здесь все совершалось эволюционным путем…»
Глядя на своих соучениц в Цюрихе, юная Гения выражает скептическое отношение к крайнему феминизму и к тому, что ей таковым представлялось:
«Здесь… не встретила я ни одной по-настоящему молодой девицы. Чтобы здесь учиться, требовался какой-то надлом. А иначе и нечего было браться. Сюда шли из-за несчастной любви, мировой скорби или, что хуже всего, из принципа. Каждая девица, кое-как выдержавшая экзамен на аттестат зрелости, чувствовала себя пролагательницей путей. Сплошь одни только Брунгильды. Всякое суждение словно заковано в латы. И все хотели доказать, наконец, свою твердость мужчинам. Занимались ли они анатомированием трупа или фонетикой, возились ли с колбами и пробирками — в любом случае это было священнодействием и миссией. Вечно озабочены тем, чтобы нечто изобразить, кого-то убедить, кого-то обставить. Та из них, которая лучше всех умела выказать презрение к мужчинам своей одеждой и манерами, становилась президентшей союза студенток. И все же они с великой охотой стали бы мужчинами, только не позволяли себе и заикнуться об этом. Это было настоящим несчастьем. А для такового я не имела соответствующего органа. В известной мере меня донимали сомнения в важности подобных вещей, за что я выслушивала упреки своих соучениц».
Те, что первыми получили женское образование, невольно впадали в крайности, чтобы добиться осуществления своих замыслов, которые Евгения тогда еще не могла реализовать.
Ученую степень Евгения Нусбаум получила 30 июля 1900 года, через восемь дней она покинула Цюрих и 16 декабря в Вене вышла замуж за доктора Германа Шварцвальда. Шварцвальд (1871–1939) был родом из Черновиц и вскоре после окончания юридического факультета поступил на государственную службу, где ему открывалась блестящая карьера. Он был шефом отдела в министерстве финансов, стал гофратом, затем — оберфинанцратом, министериальратом и позднее принимал участие в мирных переговорах в Бухаресте и Сен-Жермене. Он был удостоен всяческих наград, в том числе по высочайшему повелению пожалован рыцарским крестом Франца Йозефа. Сразу же по приезде в Вену Гения развила бурную деятельность, а поскольку ее мечта о собственной школе казалась поначалу недостижимой, она вступила в венское общество «Народный дом».
«…Однажды утром в газете опять появилось нечто обнадеживающее: на Урбан-Лорицплатц должна была открыться народная школа. Рабочие выразили желание употребить немногие часы своего свободного времени на получение знаний, доступа к которым их лишала несправедливая судьба… Но для этого вовсе не требовалось быть профессором. К работе привлекли и других людей, которые чему-либо обучились… Через час я стояла перед Людо Гартманом. Он вперил в меня изучающий взгляд. У меня упало сердце. Вся умудренность историка, привыкшего иметь дело с римскими владыками средневековья, отразилась на лице этого почтенного человека. Наконец (что-то во мне его, видимо, тронуло) он сказал: „Ну что ж, попытайтесь. Но будьте готовым тому, что придут к вам немногие“… С замиранием сердца переступила я порог отведенной мне классной каморки. Там сидели восемь немолодых мужчин… Восхитительная серьезность и дружелюбие моих слушателей успокоили не на шутку расходившееся сердце… На следующем занятии у меня было уже шестьдесят учеников…»
Осенью 1901 года Евгения Шварцвальд возглавила женский лицей на Францисканерплатц, которым до этого заправляла фройляйн Элеонора Яйтелес: предложение Евгении о передаче ей школы было удовлетворено. Однако радости от исполнения руководящей роли мешала одна формальная закавыка, которую в глазах начальства не могли преодолеть и десятилетия успешной деятельности:
«…Для руководства учреждением просительнице недостает одного пункта, который требуется согласно вышеприведенному Имп. Распоряжению, а именно: она не прошла испытания на преподавание в системе средней школы. И хотя в течение десяти семестров она исправно посещала лекции, особенно по германистике, истории и педагогике, а также родственным дисциплинами получила степень доктора философии, экзамен на собственно учительское дело она не держала ни в Цюрихе, ни в Австрии. Однако, учитывая то обстоятельство, что как в учебном процессе, так и в личном общении просительница производит впечатление одаренной, образованной и увлеченной делом обучения и воспитанием девиц дамы, королевско-императорский Совет по школьному образованию без колебаний принимает решение временно доверить ей руководство учреждением хотя бы на годичный срок…»
С этого временного, на один год и по взаимному доверию выданного разрешения и началась длившаяся десятилетия борьба «фраудоктор» с властями. Если первые три года «фраудоктор» пользовалась милостивым разрешением оставаться в прежней должности, то потом она была вынуждена выдвигать на пост директора своих сотрудников и сотрудниц: в течение всех последующих тридцати четырех лет ей так и не позволили сдать соответствующий экзамен. Чтобы довести до совершенства бюрократический заслон, ей, кроме всего прочего, запретили упоминание ученой степени в официальной переписке, поскольку в Австрии эта степень якобы не имеет силы. При этом даже высочайшей инстанции было известно, что речь идет о работе исключительной личности:
«Так как, помимо женского лицея, фрау Шварцвальд обязаны своим появлением созданная на публично-правовой основе народная школа, гимназические курсы и всеобщие курсы усовершенствования знаний, а научно-педагогическое руководство всего этого большого комплекса фактически исходит от нее, то при подобных обстоятельствах возможность экзамена как такового следует для нее исключить. С другой же стороны, она очень хорошо проявила себя как преподавательница немецкого языка, что подтверждено данными всех инспекторских проверок, поскольку обладает основательными знаниями и отменно начитанна, а также весьма подготовлена в методическом отношении…»
В 1905 году, когда «фраудоктор» сменил на посту директора школы доктор Дёрфлер, Совет по школьному образованию уведомляет министерство:
«…Королевско-императорский Совет по школьному образованию не скрывает, что в том случае, если место фрау Шварцвальд займет профессор Людвиг Дёрфлер, то он будет не более чем формальной фигурой, которая возьмет на себя представительство перед властями со всей полнотой ответственности, но бразды правления останутся при этом у фрау Шварцвальд. С другой стороны, К. Имп. Совет по школьному образованию, несмотря на признание одаренности этой дамы, ее живого интереса к вопросам женского просвещения и большой работоспособности, не может не обратить внимания на ее склонность самым навязчивым образом радеть о материальном положении школы и выражает серьезное сомнение в целесообразности ходатайства об учительском экзамене, который мог бы стать в будущем полезным для нее, но в целом нежелательным прецедентом…»
Лицей-шестилетка для девочек (на сегодняшнем языке — неполная средняя школа) был расширен за счет всевозможных курсов — гимназических и усовершенствования — и переселился затем в великолепные помещения на Валльнерштрассе, 2, пока не обрел своего постоянного местонахождения на Валльнерштрассе, 9 в 1913–1914 годах. Этот адрес вошел в историю педагогики. Классные комнаты и залы были спланированы и оформлены Адольфом Лозом.
Алиса Хердан-Цукмайер, актриса, писательница, жена Карла Цукмайера и любимая ученица Евгении, пишет в своей книге не только о любимой наставнице, но и о школьной жизни:
«…Актовый зал тоже был детищем Адольфа Лоза… Иные родители брюзжали по поводу оголенности этого помещения и недостатка штукатурки. Но мы, дети, и большинство посетителей любили этот зал с его четкой планировкой. Помимо зала, нам очень нравился сад на крыше, он был усыпан гравием и служил не только для занятий гимнастикой, там проходили также уроки географии и рисования. С начала весны и до первых морозов, если позволяла погода, мы убегали туда на каждой перемене. Он парил над самым центром города, но вид открывался необычный: горы и леса вокруг Вены, Дунай, шпили церквей… „Фраудоктор“ уже привыкла к противодействию… и лишь 24 октября 1905 года она получила право на организацию совместного обучения мальчиков и девочек. Публично-правовой статус лицей приобрел в 1905 году, а право экзаменовать на аттестат зрелости — лишь в 1907 году. Официальное открытие реального училища состоялось в 1909 году, поначалу было четыре класса. В 1911/12 учебном году открыли восьмиклассную женскую гимназию. Непрерывная борьба не изнурила фрау Шварцвальд, у меня даже создалось впечатление, что ей доставляло удовольствие изматывать и побеждать начальство…»
Тут же мы находим в книге свидетельство самой Евгении о бессилии начальственной глупости испортить настроение гениальному педагогу и организатору:
«…Когда я попросила разрешения ввести в моей средней школе совместное обучение, мне это разрешили с обязательным соблюдением пропорции: в классе из 25 девочек должен быть 1 % мальчиков. Поскольку я не решалась делить кого-нибудь на части, введение совместного обучения было отложено до республиканских времен…»
Алиса Хердан-Цукмайер подводит итог воспоминаниям о школьных годах:
«Курсы усовершенствования, на которые я поступила после лицея, подарили мне самый интересный учебный год в жизни, так как среди приглашенных лекторов были весьма авторитетные люди: Адольф Лоз читал нам введение в современную архитектуру, д-р Герман Шварцвальд и Ганс Кельзен — лекции по социологии и экономике, ученик и друг Арнольда Шёнберга Эгон Веллес учил нас музыке, профессор Отто Роммель преподавал литературу. Когда же за пределами школы узнали, что мы, семнадцатилетние, читали „Пляску смерти“ Стриндберга, „Ткачей“ Гауптмана, „Гедду Габлер“ Ибсена, что Адольф Лоз говорит нам ужасные вещи о существующей архитектуре и об уродливых формах жизни, а Эгон Веллес исполняет и интерпретирует современную музыку, некоторые из родителей всерьез забеспокоились. Послышались гневные жалобы и требования дознания: не собираются ли вырастить из нас учениц дьявола…»
«…В этот мой первый учебный год мне явилось чудо в образе учителя рисования (Оскара Кокошки). Он был молод, двадцати шести лет… Его рассказы, его фантазии, сам стиль их изложения были нам абсолютно понятны и находили отражение в наших живописных и графических работах. Полгода он прожил с нами, а потом этой радости пришел конец. Ведь его устроила к нам „фраудоктор“, так как ему пришлось очень кстати место учителя: то были его голодные годы. Но министерство образования указало ему на отсутствие свидетельства о сдаче все того же экзамена.„Фраудоктор“ неустанно боролась за него, и ей удалось пробиться к самому министру. Она встала перед ним и воскликнула: „Ваше превосходительство! Оскар Кокошка — гений, только этого еще не знают“. Тот ответил: „Гении учебной программой не предусмотрены…“»
Дабы преодолеть экономические трудности после первой мировой войны, доктор Шварцвальд основала в 1922 году объединение шварцвальдовских учебных заведений. В ее частном владении остались лишь детский сад и народная школа. Однако даже при изменившихся условиях был открыт бесплатный доступ для особо одаренных детей — более 10 % от общего числа учащихся.
Фрау Шварцвальд пользовалась успехом не только как педагог, она имела удивительное чутье — и это было одной из предпосылок процветания ее школ, — позволявшее ей безошибочно подбирать талантливых педагогов, как доказывает случай с Кокошкой. Многих из них она просто переманила. Великий реформатор педагогических учреждений Вены Отто Глёкель, который возглавлял тогда Совет по школьному образованию, очень ценил Евгению Шварцвальд и с интересом следил за ее деятельностью.
Столь отзывчивая, чуткая к чужой беде и почти маниакально активная натура, какой была Евгения Шварцвальд, не могла бездействовать в трудные военные и послевоенные годы. Показателем ее неисчерпаемой творческой энергии может служить та уйма дел, которыми она откликалась на многообразные беды, не имевшие ничего общего с вопросами воспитания в пору открытой борьбы за выживание. Она была инициатором создания шефских организаций для пострадавших от войны и акции под девизом «Детям Вены — отдых в деревне», она хлопотала об открытии летних приютов и загородных пансионатов различных типов, она учредила особый приют для девочек, куда не доносилось эхо войны, провела кампанию «Юность помогает старости», организовывала общественные столовые, под ее руководством осуществлялась «Австрийская помощь Берлину» и многие другие дела.
С 1909 года Шварцвальды живут по адресу: Йозефштэдтерштрассе, 68, в доме, обустроенном для них, по крайней мере отчасти, Адольфом Лозом, где Гения завела что-то вроде салона. Это было поистине средоточие общественной и культурной жизни. Многие молодые художники, литераторы, музыканты, число которых раз от разу росло, имели здесь возможность впервые предстать перед заинтересованной публикой, здесь же выкристаллизовывались новые замыслы неутомимой хозяйки. Одним из гостей был Элиас Канетти, проницательный, холодный портретист:
«…Не очень большая комната, где принимали гостей, стала еще более легендарной, чем фрау д-р Шварцвальд, ведь кто только здесь не сиживал! Сюда приходили венские корифеи, причем задолго до того, как обрели всеобщую известность и признание. Здесь бывали Адольф Лоз, затащивший с собой и Кокошку, Шёнберг, Карл Краус, Музиль, можно называть много имен, но самое интересное состоит в том, что произведения всех тех, кои были сюда вхожи, выдержали проверку временем. Но о том, что хоть один из гостей находил беседу с хозяйкой особенно интересной, говорить не приходится. Ее ценили как энтузиастку педагогического дела с современными недогматическими тенденциями. Она была обожаема ученицами, по-настоящему помогала и многое позволяла некоторым из них. Но поскольку все в ней было как-то скомкано и перемешано, интеллектуалам того особого склада она казалась не только неинтересной, но и, пожалуй, докучливой. Ее воспринимали как болтунью с самыми наилучшими намерениями, но те, что приходили туда и кого там встречали, были людьми иного рода, хотя не так уж много их сходилось там на одном приеме. Их внимательно слушали и рассматривали. Создавалось впечатление, что они пришли сюда позировать художнику, и, может быть, при этом немного узурпировалась роль великого портретиста, который здесь знакомился с ними, а потом уж действительно писал…»
Ее катализирующую способность и невероятное чутье на таланты не мог отрицать даже Канетти. Деятельная доброта, которая в конечном счете стала предпосылкой ее почти прометеевских усилий облегчить участь ближних и сделала ее самым «энергичным человеком эпохи», по выражению Хильды Шпиль, позволяет понять, почему она послужила одним из прототипов для образов надворной советницы Шварц-Гельбер в «Последних днях человечества» Карла Крауса и Диотимы в «Человеке без свойств» Музиля.
Когда в Германии к власти пришли нацисты, Евгения Шварцвальд пыталась помочь кому могла и чем могла.
«…В те дни я ищу жилье, еду, одежду, деньги для тех, кто бежал из Германии. Это не только евреи и марксисты, но в первую очередь — противники войны… И чувствуешь себя так, будто живешь на вулкане… К тому же всегда перед глазами горе других, окружавших меня, как в старые времена, людей, и с каждым днем у меня все меньше возможностей помочь им…»

Д-р Евгения Шварцвальд.
Однако вскоре потребовалась помощь и самой «фраудоктор». Во время поездки с лекциями по городам Дании ее настигла весть о вступлении Гитлера в Австрию. С недвусмысленным предупреждением ей было отказано в возвращении в Вену, где остался муж и ее давняя подруга и помощник Мария Щасны. С установлением в Австрии нацистского режима над ней, как и над многими другими, нависла угроза уничтожения. То, что казалось слепым и безжалостным роком, было, вероятно, крушением всех попыток бесстрашной женщины жить вопреки законам эпохи, преодолевать бесчеловечные, деструктивные силы своего времени добротой и деятельным сочувствием к людям. Когда на нее обрушился коричневый поток, она уже не могла принять жизнь в этом мире. Во всяком случае, одна из ее учениц, Хильда Шпиль, рассказывает о ее смерти так:
«…мне кажется, она не вполне понимала враждебные приметы эпохи, иначе она смогла бы заниматься своей филантропической и педагогической деятельностью. И лишь после аншлюса ей пришлось сорвать с глаз повязку».
Вся ее собственность была экспроприирована, хотя немецкий комиссар советовал ей продолжать руководство институтом. У Евгении обнаружился рак груди, и в сентябре 1938 года, когда муж и подруга добрались до Швейцарии, они нашли Евгению безнадежно больной. Герман Шварцвальд умер в августе 1939 года. Мария Щасны посвятила себя уходу за больной, уже не желавшей бороться за жизнь, и находилась у постели «фраудоктор» до тех пор, пока в окружении друзей со всего света она не встретила свой смертный час. Это было 7 августа 1940 года.
Доктор Евгения Шварцвальд являла собой такую личность, такую, по словам Хильды Шпиль, «ведущую фигуру», которая наполняла живым содержанием представления о правде, красоте и добре, признаваемые, по крайней мере на бумаге, и нашим законом о школьном образовании.
«…Все, что она вызывала к жизни, получало яркое воплощение и влекло людей, жаждавших с энтузиазмом участвовать в ее начинаниях…»
Назад: Альма Малер-Верфель (1879–1964)
Дальше: Берта Цукеркандль (1864–1945)

