Глава 40
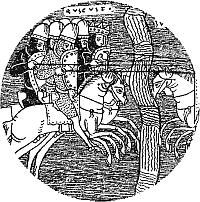
Минуло много дней, прежде чем Томас начал более-менее внятно сознавать окружающее. Сквозь смеженные веки он чувствовал оранжеватое тепло солнечного света, слышал неровный гул артиллерии и то, как скрежещут при попадании о камень ядра и картечь. В теле была такая слабость, что едва шевелились даже пальцы, а любая попытка пошевелить головой вызывала мгновенный прострел по части лица и шее. И он лежал в безмолвной неподвижности, глубоким и ритмичным дыханием способствуя уму восстановить весь ход событий. О своем местонахождении Томас в целом знал, но последнее, что припоминал отчетливо, это бой за Сент-Эльмо. Бросок врага на осыпь, гибель Маса и Миранды, всплеск огня, когда его самого воспламенила зажигательная смесь. После этого всякое ощущение времени терялось.
Вспоминалось адское жжение, снедающее, кажется, каждую частицу его существа; мимолетный, а потому поверхностный образ раненых на полу в часовне. Стокли с восковым лицом, задыхающийся, опирающийся на меч — кажется, у дренажной решетки. Да, именно. Затем спертая вонь и темень замкнутого пространства; кроткая синь моря, благостно остужающего жжение; недолгие, казалось, минуты неясной безмятежности, когда он плыл лицом вверх, уставясь в мирную небесную лазурь и блаженно смирившись с тем, что он умирает. А затем снова мука, когда его бесцеремонно вытаскивали из воды.
После этого сознание ушло, будто расплавилось, и был лишь долгий горячечный кошмар боли и тяжелого жара. Голову, как тюрбаном, обмотали повязками, и потянулись нескончаемые в своей безликости дни, когда он валялся, разметавшись в липком поту от изнурительного, изнутри исходящего зноя, а сверху кривился беленый потолок и синеватой, наклонно бьющей струйкой сеялся солнечный луч из оконца за спиной. Помнились голоса: один ровный, глуховато-степенный (что-то насчет лечения), затем — взволнованный — Ричарда, и еще женский, безошибочно Марии. Слова мешались, сливаясь каким-то сумбурным бессвязным потоком. А в часы одиночества ум тревожным сонмом заполняли образы огня, крови, стали и дыма, жутких ранений и увечий. Голова разбухала от умозрительной какофонии шумов: треск и грохот, рокот барабанов, выкрики сцепившихся в смертельной схватке людей, вопли и стоны гибнущих…
Теперь все это постепенно шло на убыль, и сам собой сложился вывод, что ум наконец вышел из темного обиталища хаоса. С протяжным, глубоким вздохом Томас открыл глаза. Поначалу зрение туманилось, а струящийся из окна свет был чрезмерно, до болезненности ярок, так что пришлось зажмуриться. Спустя секунду он снова разлепил веки, на этот раз осторожнее. Медленно, словно нехотя, прояснилось в левом глазу, и он разглядел несвежую, в пятнах, штукатурку на стене. Правый глаз едва сопрягал пятна света и тени — расплывчатые, без всякой формы. Медленно, с опаской, Томас пошевелил конечностями. Осторожность оправдалась: по левой руке и боку пронеслась тугая, как скрип, вяжущая боль.
Вокруг себя Томас не видел, а скорее, чувствовал присутствие других лежачих — кто-то пребывал в молчании, другие стонали или бормотали невнятицу. Мимо время от времени проплывали фигуры в одеяниях монахов и сутанах церковнослужителей. Один из них в конце концов заметил открытые глаза Томаса и, подойдя, склонился приглядеться.
— Ну вот вы и пришли в себя, — улыбчиво произнес он на французском, утирая страдальцу тряпицей пот со лба. — И жар наконец-то унялся вроде как.
— Наконец-то? — хмуро переспросил Томас и хотел было что-то сказать, но в горле стояла такая сушь, что слова застряли. — Где?.. — проскрипел он.
— Вы в лазарете Сент-Анджело. В полной безопасности. Ну-ка, дайте я вам помогу.
Тихо булькнула жидкость, и монах, аккуратным движением приподняв Томасу голову, одной рукой слегка ее наклонил. Другой он поднес к губам раненого медную кружку, чтобы тот отпил. Томас благодарно припал к воде, первым глотком ополоснув пересохший рот, а несколько других неторопливо проглотив. После этого он кивнул: дескать, хватит. Монах опустил ему голову на валик и, убрав руку, переместил ее Томасу на лоб.
— Да, в самом деле, жара не чувствуется. Это хорошо. — Он снова улыбнулся. — Когда вас сюда только принесли, я, грешным делом, подумал, что вы не протянете. Такие ожоги, да еще и пуля застряла в ноге… Судя по всему, она попала, когда вас вытаскивали из воды. Ожоги, да еще потеря крови — кто бы мог подумать, что вы вообще одолеете ту первую ночь. Крепкое же у вас сложение, сэр Томас… Но и при этом смерть над вами буквально витала. У вас начался жар, и я многие дни боялся, что мы вас потеряем. Выжили вы прежде всего благодаря неустанным усилиям женщины, которая вас выхаживала.
— Женщины?
— Да. Вдовы, насколько я понимаю, покойного сэра Оливера Стокли. Она также утверждает, что вы с ней в дружеских отношениях. — Монах попытался изобразить знающую улыбку, чем вызвал у Томаса глухое раздражение.
— Как тебя звать, брат? — просипел он.
— Христофор.
— Так вот, Христофор: леди Мария действительно мой друг и женщина безукоризненной репутации.
— Кто бы сомневался. Я ни в коем случае не хотел вас задеть.
— Где она?
— Отдыхает. Те прошлые недели она от вас, можно сказать, не отходила. Присматривала за каждым вашим движением. Временами ей помогал ваш оруженосец, когда мог себе позволить отлучиться с дежурства. Она кормила вас, омывала, меняла повязки. Бедняжка совсем выбилась из сил. Как только я заметил, что жар у вас спадает, я чуть ли не силком отправил ее домой отдохнуть. Это было нынче утром. И то она сказала, что к вечеру непременно вернется.
Томас кивнул, а сам глаз не спускал с монаха.
— Ты говоришь, недели… Так сколько я здесь уже лежу? Какой нынче день, месяц?
— Да уж август месяц, сэр. Двадцать второе число.
— Август? — Томас уставился в тревожном изумлении. — Значит… я тут уже считай что два месяца?
Монах кивнул.
— И первые четыре недели я сомневался, останетесь ли вы в живых, несмотря на ваше прочное английское телосложение. Считайте, что полмесяца мы сбивали ваш жар. И лишь несколько дней назад я понял, что вы идете на поправку. Хотя и после нее вам предстоит жить с последствиями ваших ранений.
— Ты мне скажи, что там с осадой? — нетерпеливо перебил Томас.
Монах поджал губы.
— Турки обложили нас со всех сторон. Ночами палят в самое сердце Биргу, женщин и детей поубивали сотни. Мы по-прежнему удерживаем все бастионы и стену, хотя уже с трудом. У Великого магистра осталось меньше трети людей, с которыми он начинал. Все меньше еды и воды, неважно и с настроением. Был слух, что в конце июля здесь высадится дон Гарсия со своей армией, но, видать, ничего из этого не вышло. И что ни день, то вражеские пушки продолжают ровнять наши стены. Каждый раз, когда образуется новая брешь, турки бросаются на приступ, а мы их отбрасываем. — Монах, помолчав, с недоумением покачал головой. — И откуда в них столько злости, чтоб из раза в раз вот так на нас бросаться? Чего только они не перепробовали! Перетащили даже галеры, что поменьше, через вершину Шиберраса и попытались высадиться на Сенглеа. Правда, на берегу их всех порубили в куски, а суда им поразбивали наши пушки. Остальные, кого не изрубили и не постреляли, все как есть пошли ко дну. Тонули сотнями… Справедливости ради надо сказать, что боевой дух у них тоже подвыдохся. Пленные говорят, Мустафа-паше все труднее поднимать своих людей в атаку. В лагере у них хворь и голод. Скоро, боюсь, мертвые на этом Богом забытом камне превысят число живых. — Монах, прикрыв глаза, с усталым вздохом потер себе подбородок, а затем выдавил улыбку. — Ну да ладно, Бог с ней, с осадой. Вам отдыхать надо.
— Да какой тут отдых… И кстати, что там насчет моих ран? Когда я снова смогу сражаться?
— Сражаться? — Монах будто бы опешил.
По спине пробежал холодок. Томас рискнул попробовать сесть — чуть-чуть, лишь бы оглядеть себя, — но от слабости и боли повалился обратно, зашипев от досады.
— Скажи мне, — ухватил он нетвердой рукой руку монаха.
Монах с печальным вздохом принялся излагать:
— У вас обширные ожоги по левой ноге и бедру, а также на левой руке, правой части шеи и лица. Плюс ранение в ногу. Правый глаз у вас опален и, судя по всему, видит не ахти. Я прав?
— Так, пятнами, — досадливо ответил Томас.
— Чего я и боялся. — Монах указал Томасу на левый бок. — Кожа и мышечная ткань у вас сильно повреждены, и их выздоровление займет много месяцев. Руку и ногу вам будет постоянно поджимать, и сгибаться они будут уже не с такой легкостью, как прежде, — может статься, и не до конца. И будут побаливать. Сказать по правде, сэр Томас, вы свое отвоевали. И хотя Великий магистр испытывает нехватку в людях и пополняет свои ряды мальчишками, стариками и всеми, кто вообще способен держать оружие, хочу вам сказать, что эта осада в любом случае закончится прежде, чем вы в ней сможете как-нибудь пригодиться.
— Принеси мне зеркало, — потребовал Томас негромко.
— Не сейчас. Вам нужен отдых. А потом я принесу вам похлебки с хлебом.
— К черту похлебку. Зеркало мне. Сейчас же.
Монах помолчал-помолчал, а затем со вздохом кивнул:
— Как пожелаете, сэр Томас. В таком случае минуту…
Он встал и направился на выход. Пока его не было, Томас с зубовным скрежетом подался на койке так, что плечи оказались на валике, а голова прилегала к стене за кроватью. Секунду он превозмогал боль в боку. Монах возвратился с небольшим квадратным зеркалом из полированной стали и подал его Томасу.
— Ну вот. Хотя то, что вы увидите, может вам не понравиться.
Томас не без труда поднял зеркало перед лицом и вперился в свое отражение. Начиная от середины лица кожа глянцевито набрякла, все равно что мрамор с красно-лиловыми прожилками. Вокруг правого глаза она отекла и побагровела, зрачок был залит кровью, а хрусталик сделался странно белесым. Зеркало Томас слегка повернул, и взгляду предстали реденькие пучки волос и сморщенное, пожухшее ухо. Такова была его голова сбоку. Еще раз повернув зеркало, рыцарь откинул простыню и осмотрел левую часть туловища и ногу, потрясенно видя, насколько там изуродована плоть. Сглотнув, Томас вернул зеркало и снова прикрылся.
— Она видела меня таким? — произнес он тихо.
— Первые две недели вы выглядели гораздо хуже. — Монах жестом указал ему на голову. — Шрамы останутся, но краснота пройдет. Волосы тоже в основном отрастут, хотя кое-где останутся проплешины. Так что отныне обет беспорочности чресл вам будет соблюдать в каком-то смысле проще. — Он улыбнулся, всем своим видом давая понять, что шутит, хотя шутка вышла довольно резкая.
Томас отвернулся к боковой стене.
— Устал я. В самом деле, надо вздремнуть.
— Да, разумеется, сэр Томас. Мне послать уведомление леди Марии, что вы очнулись?
— Не надо, — поспешно ответил тот. — Пускай тоже отдохнет.
— Хорошо. Тогда еду я принесу позднее, когда вы выспитесь.
Слышно было, как монах, шаркая сандалиями, удаляется. Черт бы тебя побрал, доброхот в рясе… Сквозь плотно зажмуренные веки сочились слезы отчаяния. Всё, прощай, мужская жизнь. Увиденное в зеркале вызывало неприятие, отвращение. Как так — больше не держать в руке меча, не выезжать на охоту, распрощаться со многими вещами, составляющими саму суть мужского времяпрепровождения? Хуже того, если османы все же поднатужатся и возьмут Биргу, то его и других беспомощных, неспособных постоять за себя просто засекут на месте, забьют как свиней.
Наконец, Томас впал в тревожную дремоту и проснулся затем около полудня, судя по углу струящегося в окно света. Пошевелившись и открыв глаза, он увидел, что у койки на табурете сидит Ричард. Сидит, уронив голову на грудь; подбородок зарос густой щетиной, волосы заскорузли от пыли и пота, вокруг глаз темные круги усталости. Дублет грязный, порванный в нескольких местах, а руки и лицо в царапинах от порезов и ссадин.
Томас протянул левую руку, которую при этом опять неприятно зажгло, и нежно коснулся щеки сына. Ричард сердито встрепенулся, словно отгоняя какое-нибудь назойливое насекомое; Томас невольно улыбнулся этому мимическому жесту и опустил руку.
— Ричард…
При упоминании его имени глаза юноши, все еще сонные, машинально раскрылись; он зашевелился, а его губы приоткрылись в приветливой улыбке.
— Наконец-то вы опять с нами.
— Ты в этом сомневался?
— Я — нет, — со смешком сказал Ричард. — Не то что тот монах. Он был уверен, что мы расходуем силы понапрасну, а вас надо всего лишь соборовать. Я ему сказал, что прослужил под вашим началом достаточно долго и знаю: вы так просто не сдаетесь.
Томас оглядел комнату: не подслушивает ли кто. Вроде нет.
— Он не знает, что я твой отец?
— Нет. Как и того, что вы человек без веры.
Томас с облегчением вздохнул. Любая из этих истин могла быть небезопасна; не хотелось и думать о том, чтоон мог выдать в своем горячечном состоянии. Томас указал на стол возле Ричарда.
— Дай, пожалуйста, воды.
На этот раз отпить получилось без посторонней помощи, и когда горло и губы оказались смочены, появилась возможность продолжать разговор.
— Служитель божий в общих чертах рассказал, как здесь все складывалось, пока я валялся в беспамятстве. Но скажи мне ты: как справляется со всем Великий магистр?
— Он-то? — Ричард, подбоченясь, хмыкнул. — Ла Валетт весь состоит из кремня и стали. Он всюду и везде, подбадривает и внушает мысль, что испытание будет успешно пройдено. Говорю тебе, он человек, одержимый идеей противостояния султану Сулейману. Он исключил из умов защитников саму мысль о возможности сдачи.
— Каким же это образом?
— Произошло это вскоре после того, как был взят Сент-Эльмо. Наутро с первым светом дозор Сент-Анджело обнаружил, что по воде у стены плавают какие-то предметы. Оказалось, что это тела четырех рыцарей и Роберта Эболийского, все как один обезглавленные и пригвожденные к крестам. Когда их выудили из моря, стали видны прибитые к крестам таблички с именами: Мас, Миранда, Стокли и Монсеррат, а также Роберт из Эболи. Враг, кроме того что отсек головы, еще и повырывал им сердца.
— Боже правый, — выдохнул Томас. — И что случилось потом?
— А потом ла Валетт воздал сарацинам сторицей, — ответил, пожевав губу, Ричард. — Всех пленных турок он приказал вывести из темниц и поднять на стены Сент-Анджело, где их мог видеть враг. Там им всем, одному за одним, перерезали глотки, а головы забили в пушки и выстрелили через бухту в сторону вражеских позиций… Через день Мустафа-паша прислал гонца объявить, что, дескать, отныне пощады не будет никому. Если Биргу и Сенглеа падут, он-де истребит все живое, что только встретится на пути его янычаров. — Ричард помолчал. — Так что нам теперь остается одно: победа или смерть.
— Так было испокон веков. Ла Валетт находился на Родосе, когда тот покорился Сулейману. Думаю, тогда он и утвердился в решимости никогда больше не допускать подобного поражения. — Томас с минуту помолчал, после чего потянулся и взял сына за руку. — Ты спас мне жизнь. Я в долгу перед тобой. Который, боюсь, не смогу теперь оплатить в таком вот телесном состоянии.
— Отец, вы дали мне жизнь. Кто вообще может когда-либо оплатить такое? И никогда об этом больше не думайте. То был мой долг, как вашего эсквайра и вашего сына.
Томас легонько сжал Ричарду руку.
— Если б я только заслуживал зваться твоим отцом…
Ричард, глядя в сторону, осторожно вынул руку из нетвердой ладони Томаса.
— Такой гордости я и не достоин. Ведь в жизни своей я вершил сомнительные дела. Не забывайте, что я человек Уолсингема. Я явился сюда за завещанием короля Генриха, и теперь оно у меня. Где его искать, мне сказал Стокли. Если я выживу во всем этом аду, то Уолсингем будет ждать, что я ему его доставлю.
Томас призадумался. Да, это завещание всегда будет мощным оружием в руках тех, кто им обладает. Католики, попади оно к ним в руки, непременно используют его для расшатывания трона Елизаветы, попирающего, по их мнению, многих видных людей в королевстве. Уолсингем, который католиков терпеть не может, только и ждет, чтобы начать через него шантажировать королеву на предмет расправы над этими самыми католиками.
Томас взыскательно поглядел на сына.
— Ты можешь доставить его по назначению. А можешь уничтожить. Ты прекрасно понимаешь, чем оно может обернуться. Выбор за тобой. Верю, что твое решение будет правильным. — Томас умолк, а затем продолжил: — Нет человека, которому путь к искуплению был бы заказан. Точно так же, как никто не застрахован от неправедных деяний. Сын, мне это известно, как никому другому. Задумайся об этом. Я не хочу, чтобы ты влачил по жизни бремя, какое вынужден нести я. Учись, но только на моих ошибках.
Ричард пристально на него посмотрел, а затем обернулся на дверь.
— Я, пожалуй, пойду. Пора готовить людей к ночному патрулю. Приду опять, как только смогу. До свидания, отец.
Он встал и тронулся к выходу, но в дверях приостановился: там показалась Мария, которая взяла его за руки и поцеловала в щеку. Ричард принял поцелуй, сам при этом нежно коснувшись рукой ее плеча. Затем он склонил голову и, неловко увернувшись от объятия, вышел в коридор и заспешил наружу. Мария проводила его задумчивым любящим взглядом, после чего повернула обратно в палату, где лежал Томас. При виде него, очнувшегося, лицо ее посветлело от радости. Памятуя о своем отражении в зеркале, Томас, пока Мария приближалась и усаживалась, отодвинулся к стенке, чтобы хоть как-то скрыть свои шрамы.
Оба какое-то время молчали. Затем Томас, нервно сглотнув, прочистил горло:
— С сожалением узнал о твоей потере. Оливер был хорошим человеком.
— Да… Да, был. — Печаль в ее голосе звучала вполне искренне. — Он был ко мне добр до последнего дня. Изменило его только твое присутствие. С этим ничего нельзя было поделать. Я так и не сумела дать ему того, чего он во мне искал. Того, чем всегда располагал ты. — Она склонилась и осторожно приложила руку к его щеке. Рука гладкая, прохладная; Томас прикрыл глаза, вдыхая исходящее от нее легкое благоухание.
— Я была ему не лучшей женой. — Мария посмотрела в направлении, куда ушел Ричард. — А Оливер мог бы позволять мне быть лучшей матерью моему… нашему сыну. Он знает правду, но не может простить мне мои прошлые неблаговидные поступки.
Томас сухо рассмеялся, и Мария повернулась с озабоченной нахмуренностью:
— Что?
— Каких же дров мы все-таки наломали. Каких завалов понаделали. Ты, я, Оливер, Ричард… Прошлого не избежать. Во всяком случае, нам. И ла Валетту с Сулейманом. Мы все узники своей истории, Мария.
— Только если сами решили ими быть. — Она подалась ближе и приникла губами к его лбу. — Есть время, чтобы все изменить.
По форту грянул пушечный выстрел, да так, что в некоторых местах треснула и отслоилась штукатурка.
— Только не тем, кто увяз в этой буче.
— Им, может, и нет. А нам — да. У нас и у Ричарда по-прежнему есть шанс все возобновить; восстановить то, что было прервано, сломано. Я бы поступила именно так. И вновь заключила тебя в свои объятия, любимый мой.
— Заключила? Даже таким? — с горькой усмешкой спросил Томас, поворачивая к ней сине-багровые шрамы на лице и плешивой голове. А еще откинул простыню, чтобы показать свой левый бок.
Спокойствие Марии не поколебалось ни на йоту.
— Думаешь, я этого не видела? Это ведь я меняла тебе повязки и промывала раны. Присматривала за твоими самыми простыми надобностями. Я знаю твое тело намного ближе и сокровеннее, чем когда-либо твоя мать. Я горевала по твоим страданиям еще тогда, когда ухаживала за тобой, и каждую ночь молилась, чтобы ты остался жив. И Бог, в бесконечной милости своей, внял моим молитвам.
Слова Марии вызвали в сердце холод.
— Если то, что нам довелось пережить, — это воля Божья, то что Бог вообще смыслит в милосердии? Нет уж, Мария, с ним я расстался. Единственно, кто для меня что-то значит, это ты, Ричард и люди, на чьей стороне я сражаюсь. Точнее сказать, сражался, — мрачно усмехнулся он. — Поскольку солдат из меня теперь, как видно, никакой.
— У тебя нет веры? — строго поглядела Мария.
— В Бога? Нет. А до недавних пор, по большому счету, и в людей. Тем не менее за последние месяцы я повидал в них много и высокого, и низменного. Жаль лишь, что для того, чтобы разглядеть всю доблесть и пакостность людскую, требуется жестокая бойня. И из-за чего? Из-за какой-то там веры…
— Тогда это бич Божий, — с жаром воскликнула Мария. — Испытание нашей прочности, решимости. Значит, Господь по-прежнему от тебя не отступается.
Томас взял ее за руку, заглянул в глаза.
— Мария… Я — это то, что ты видишь перед собою, не более. И я не хочу быть тебе обузой. Я люблю тебя и любил всегда. Но я теперь не тот молодой рыцарь, которого ты когда-то знала. Хотя ты в моих глазах все та же Мария, и нет для меня желания большего, чем быть подле тебя до конца моих дней. Но я не хотел бы пролезть в твою жизнь ценой какого-либо страдания с твоей стороны — из-за моего тела, характера или убеждений. Я хочу, чтобы ты об этом подумала, прежде чем все-таки решиться стать моей женой. Если это, разумеется, входит в твои намерения.
— Еще как входит, любовь моя.
Томас кончиками пальцев коснулся ее губ.
— Тихо, тихо. Не надо давать ответа раньше, чем ты как следует все взвесишь. И я устал, очень. Ты, пожалуй, иди. Поговорим снова, когда я отдохну, а ты поразмыслишь.
Мария хотела что-то сказать, но не стала. Кивнув, она бережно приложилась губами к язвинам его обожженной щеки и поднялась.
— До завтра.
— Ладно, — коротко ответил он.
Палату Мария покинула с кроткой улыбкой, задумчиво прижав к щеке два пальца. Вскоре истаял шорох ее сандалий, а Томас, откинувшись на валик, с тяжелым сердцем вперился в потолок. Пока Мария досконально не осознает того, что с ним стало, приступать к решающему разговору не стоит. Принимать ее как жену, в то время как сама она может втайне сожалеть о своем скоропалительном, основанном на великодушии или, хуже того, жалости поступке — нет участи печальнее.
— Я вижу, ваши визитеры отбыли.
Томас открыл глаза. Перед ним стоял Христофор, с улыбкой держа перед собой небольшой деревянный поднос с миской, кружкой, ложкой и черствым ломтем хлеба.
— Как я и обещал: трапеза. Вы можете сесть сами или вам помочь?
— Сам справлюсь. — Томас, щерясь от усилия, завозился на кровати, пока наконец не привалился спиной к стене. Поднос монах уместил рядом на табурете; аромат похлебки, надо сказать, возбуждал живейший аппетит. Пока Томас приноравливался к ложке, монах поглядывал в окно.
— А на севере, глядите-ка, тучи. К дождю, должно быть. А то и к грозе со штормом. Как-никак, конец сезона не за горами. Дай-то Бог продержаться до наступления осени.

