5
Мудрёны науки, да Кузьме они не в тягость. Другие ещё азбуку учат, а он уже читает и счёт в уме ведёт скоро. Ко всему соседу Прову помощь окажет. Тот хоть и переросток, а в книжной премудрости глуп.
Кузьма подхватился спозаранку. Феодосий, закутавшись шубой; ещё спал. В келье не топлено, вода в жбане подёрнулась ледяной коркой. Натянув порты и рубаху, Кузьма пробил ковшиком ледок, почерпнул воды, наскоро умылся и, сжевав чёрствую краюху хлеба с луковицей, налегке побежал тёмным переходом в класс.
В школе ни души. Смахнув мокрой тряпицей с длинного соснового стола пыль, Кузьма уселся на лавку, положил перед собой берестяную дощечку с палочкой, огляделся. На подвесной полке в кожаных переплётах Евангелие и «Изборник». Рукописные пергаментные страницы с рисованными вставками и картинками. Начальные, большие, буквицы выведены киноварью.
За учительской скамьёй подвешен на стене пучок молодых ивовых прутьев. То для нерадивых и непослушных. Когда Феодосий хлещет провинившегося школяра, другие кричат хором: «Розга - мать-кормилица, уму-разуму наставительница!»
Один за другим подходили школяры, умащивались на свои места. Позже всех ввалился Пров. Лицо заспанное, потянулся с хрустом:
- Теперь поесть бы!
И плюхнулся рядом с Кузьмой. Почесал затылок, продолжил:
- Утрами матушка из поварни ворох шанежек тащит: «Ешь, Провушка, набирайся сил», - Пров блаженно прикрывает глаза, от наслаждения цокает языком. - Теперь не поспевает.
Феодосий вошёл неслышно. Чёрная монашеская ряса, до самого пола, на лысой голове островерхий клобук. Кузьма толкнул Прова локтем, вскочил. Откашлявшись по-стариковски, монах подал знак, и школяры уселись.
- Гляди, Кузька, сейчас старый козел бородёнку задерёт и проповедь о книжной премудрости прочтёт, - зашептал Пров товарищу в ухо.
А Феодосий и вправду лик кверху поднял, заговорил дрожащим голосом:
- Велика бывает польза от ученья книжного, ибо сие есть река, напояша Вселенную. Ведомо ли вам, отроки, что земля наша части свои имеет? Земля есть неровная доска, а части же её: Асия, Иеропия и Ливия, а меж ними водные пучины. Над землёй же небо.
Монах прошёлся по классу, сухонькой ручкой ткнул Прова в спину:
- Вот скажи ты, добрый удалец, что есть лето?
Пров лениво встал, почесал пятерней затылок и, потоптавшись, пробасил:
- Не ведаю.
- Дубина ты еси, Пров, сын Гюряты. Вот послушай Козьмы ответ, - захихикал Феодосий. Кузьма подхватился, заспешил:
- Лето имять триста шестьдесят пять дний и четверть, сия же четверть на четвёртое лето день бывает приступ, сий же день приступает в феврале.
- Молодец, Козьма, сын Савватея.
И снова ткнул Прова кулачком:
- Дубина, дубина еси, Пров. И как я с тобой философией и риторикой займусь, коли ты грамматику не ос мыслишь.
К обеду Феодосий отпустил школяров. Пров предложил Кузьме:
- Айдате ко мне?
Жил Пров на Неревском конце. Высокий, о двух ярусах, дом обнесён крепким забором. В глубине двора клети, житница, конюшня. Отец Прова, тысяцкий Гюрята, ведал новгородской казной, а в дни, когда по нужде скликали городское ополчение, становился его предводителем.
Когда Кузьма с Провом приблизились к дому, Гюрята стоял на крыльце, заложив руки за спину. Был он, несмотря на мороз, в одной рубахе навыпуск, седой волос теребил ветер. Лицо на морозе раскраснелось. Увидев сына с товарищем, спросил весело:
- Ну-те, что нынче за науку преподнёс вам Феодосий? А не сёк ли он вас? Вижу, вижу по глазам, что у тя, Пров, в голове пусто, брюхо же урчит от голода. Ну-тка спешите в трапезную насыщаться.
Сменив во Вручеве подбившихся лошадей, гридни князя Владимира одвуконь скакал гонцом в Туров. У гридня шапка надвинута на самые брови, ноги в тёплых катанках, шуба на волчьем меху. Но холод всё равно лезет за воротник. Усы и борода у гонца заиндевели. Приподнимаясь в стременах в такт бегу коня, он смотрит по сторонам, нет ли поблизости жилья обогреться. Но кругом заснеженное поле и редкие раздетые леса.
Рука в рукавице придерживает на боку тяжёлый обоюдоострый меч, другая - повод. К седлу приторочены лук с колчаном и сума с провизией.
Везёт гонец запрятанное на груди письмо князя Владимира к Святополку. Пишет он, что болен тяжело и желает при последнем дыхании увидеть своего сына. Такова его княжья воля…
Скачет гридин и не знает, что другой, кружной дорогой, через Искоростень, выехала в Туров сотня дружинников киевского князя. Эти едут не торопясь, делая долгие привалы.
У сотника тайный наказ от Владимира. Дождаться, когда Святополк покинет Туров, забрать княгиню Марысю с её латинским духовником и доставить в Киев…
На третьи сутки за полночь гонец добрался до Турова. У закрытых ворот осадил коня, крикнул:
- Эгей, дозорные! - И застучал рукоятью меча по доске.
По ту сторону раздался скрип шагов на снегу, сердитый голос спросил:
- Кто будешь и зачем?
- Гонец князя Владимира к князю Святополку!
За воротами принялись совещаться. Гридин не выдержал:
- Что мешкаетесь, отворяйте!
Дозорные с шумом откинули засов, распахнули одну створку, впустили гридина. Старший дозора сказал:
- Поезжай за мной.
И, взяв за уздцы, повёл на княжеский двор. У людской остановились.
- Заходи, обогрейся, а я князю скажу…
Узнав о приезде гонца, Святополк накинул на исподние порты и рубаху шубу, прошёл в людскую. Гридин угрелся, задремал, сидя на лавке.
- Пробудись! - Святополк положил руку на плечо.
Тот подхватился, протёр глаза. Увидев князя, полез за письмом. Святополк отшатнулся, настороженно следил за гриднем. Наконец тот протянул свёрнутый в трубку лист пергамента.
Святополк поднёс к лучине, прочитал бегло, задумался. Гонец не сводил с него глаз. Вот Святополк свернул пергамент, спросил, уставившись на язычок пламени:
- Послал ли князь Владимир гонцов в Тмутаракань и Новгород?
- Того не ведаю, - ответил гонец.
- А князя Владимира, ты, гридин, самолично видел?
- К хворому князю вхожи лишь лекари да воевода с архиереем, меня же князь призывал к ложу и передал сию грамоту. А воевода по выходе из опочивальни наказал сказать: «Великий князь к смерти изготовился, поспешай, князь Святополк».
- Хорошо, передохни, гридин, прежде чем в обратный путь тронешься. А у меня же сборы недолгие, и дня не займут.
Из людской Святополк направился в опочивальню жены.
Хоромы тёмные, через гридницу переходил, чуть не стукнулся лбом о притолоку. Путь оказался слишком длинным, не терпелось поделиться радостной вестью с Марысей. Одна мысль оттеснила все: «Поспеть бы, пока Борис либо другой из братьев не сел на великое княжение… Бояр одарить щедро… Особливо тех, кто Владимиром недоволен, они опорой мне будут…»
Марыся, заслышав его быстрые шаги, оторвала голову от подушки, спросила удивлённо:
- Чем ты встревожен, Святополк?
Он остановился у её постели, ответил, не скрывая удовлетворения:
- Князь Владимир умирает. Мне ехать в Киев надобно.
Марыся уселась, поджав под себя ноги:
- Ты едешь, чтоб стать великим князем над всей Русью?
- Моё право на то. Отец мой Ярополк сидел на этом; столе.
- Тогда отправляйся, не теряй времени, да возьми с собой попа Иллариона. Не люблю я его.
Покинул Святополк Туров и не мог знать, что приезжали в город дружинники князя Владимира и по его указу увезли в Киев Марысю с её духовником Рейнберном.
…К Путше в Вышгород нежданно нагрянул боярин Тальц с недоброй вестью: Святополка князь Владимир обманом в Киев зазвал и в темницу кинул.
Мечется Тальц по горнице, рассказывает:
- Поверил Святополк болезни володимирской, приехал. Ин нет! Владимир-то уже здоров, а туровского князя схватили… Ещё слух верный имею, - Тальц к Путше наклонился, зашептал: - Жену его с латинянином ждут.
Путша боярина не слушает, холодным потом обливается: ну как скажет Святополк, что Путша в соглядатаях ходит и обещал ему доносить всё о князе Владимире?
Ноги и руки у Путши одеревенели от страху, сидит недвижим, глаза таращит на Тальца. Тот же ведёт своё:
- Надумал бы ты, болярин, как князя Святополка из беды вызволить. Ума-то у тя палата!
А у Путши и язык не ворочается. Наконец опамятовался:
- Бежать надобно Святополку!
- И, плетёшь такое, - замахал на него Тальц. - Караул у него крепкий!
- В таком разе просить архиерея Анастаса, чтоб слово за князя Святополка замолвил перед Владимиром.
- Разумно мыслишь, болярин Путша, - согласился Тальц. - Мы с Еловитом сходим к архиерею.
Лебедем вплыла пышнотелая ключница:
- Велеть ли девкам повеселить боляр?
Голос у неё мягкий, не говорит, мурлычет кошкой.
- Не до них, - прогнал ключницу Путша и снова поворотился к Тальцу: - С Анастасом говорить надобно, чтоб о том Владимиру не стало вестимо.
- Да уж так.
- Коли же Владимир княгиню Марысю в клеть посадит, то уж тут ляшский король дочь свою в обиду не даст.
- Вестимо!
- Значит, ты, Тальц, с Еловитом архиерея Анастаса улещите да как-либо знак князю Святополку дайте, а я же в Туров отправлюсь и оттуда короля Болеслава оповещу. Не забудьте ещё к воеводе Блуду заглянуть да к боярину Горясеру. Доподлинно знаю, они на князя Владимира недовольство таят.
6
Между реками Вислой и Вартой - маленький городок Гнезно. С десяток узких, мощённых булыжником улиц, торговая площадь, костёл, рядом дворец архиепископа. Гнезно - столица польских королей. В городке мрачный, сложенный из камня замок. Его ворота, обитые толстым полосовым железом, всегда на запоре. Через наполненный водой широкий ров подъёмный мост на цепях. Городок и замок обнесены высокой стеной.
Польское королевство молодое. Двух королей знала Ляшская земля: покойного Мешко и сына его, нынешнего Болеслава.
Королю Болеславу лета за полвека перевалили, даже на коня с трудом взгромождается…
Запахнув тёплый суконный кунтуш, Болеслав, грузно ступая, поднялся по шаткой лестничке в угловую башню замка. Через окна-бойницы видны за крепостной стеной поле и хаты кметей. Снег уже сошёл и только кое-где лежал ещё грязными латками. Болеслав поймал себя на мысли, что и отец его Мешко часто искал здесь уединения.
Подумав об этом, он потёр ладонью голый подбородок, разгладил пышные, но уже поседевшие усы.
Отец! Не он ли был Болеславу примером? Отцу удалось объединить ляшские племена, сделать границами Польского королевства на юге Чехию, на востоке Русь, на севере пруссов и поморян, на западе по реке Одру - Германскую империю…
Не раз отец твердил Болеславу: «Нет опаснее для нас, ляхов, как германцы».
В поисках союзников отец женился на дочери чешского короля Дубравне. От неё и родился Болеслав, да ещё Владивой. С матерью пришло на Польскую землю христианство латинского обряда. Из Германской империи нахлынули монахи-католики, строятся монастыри, в церковных школах учат на латинском языке. Болеслав не противился этому. Разве монахи не молятся за него и не призывают к смирению?
От села к замку приближалась крытая рогожами гружёная телега. Рядом с лошадью шагал кметь. Королю видно, как его лапти по щиколотку тонут в грязи.
И снова мысли Болеслава обращаются в давнее…
После смерти Дубравны отец вывез из монастыря дочь маркграфа Оду. От неё родились ещё три сына. Когда же отец умер, Болеслав изгнал мачеху с её сыновьями из Польши и стал единым королём. Отец, наверное, одобрил бы его. К чему делить королевство на уделы…
Немало пришлось повоевать Болеславу с чехами. С Русью мир заключил в первый же год своего княжения. Да и как было не сделать этого, когда ещё отец, Мешко, был побит Владимиром?
Он, Болеслав, слово дал князю Владимиру, что не будет зариться на червенские города, но слово-то трудно держать. Слишком лакомый кусок. Теперь вся надежда на Святополка…
Болеслав мечтает о походе на восток, о расширении королевства от Буга за Червень и Перемышль, но ему мешают германцы. Их император Генрих уже ходил дважды на Польшу. О первой войне Болеславу не хочется и думать. Едва германцы перешли польскую границу, как восстали чехи. Чешский князь Ольджих принудил Болеслава отказаться от Чехии.
Но зато когда император Генрих начал вторую войну, польское войско разбило германцев и заняло земли лужичан и мильчан.
В городе Межиборе Генрих и Болеслав заключили перемирие.
Однако Болеслав чует, германский император готовится к новой войне…
Стемнело. Болеслав не спеша спустился вниз. Здесь его уже поджидал воевода Казимир, недавно назначенный каштеляном гнезнинского ополья. Сухопарый, с чёрной как смоль шевелюрой и длинными отвислыми усами, он сказал отрывисто, резко:
- Воротился жупан из ополья. Не собрал дани и половины. Кмети голодные, мор начался.
- Пся крев! - выругался король и недовольно оборвал каштеляна: - Излишняя жалость к кметям, и жупан тот негоден, кто не привозит дань сполна. Объяви ему об этом, Казимир.
И, не задерживаясь, прошёл в просторный зал, где жила королевская стража, верные рыцари-отроки, отцы которых жалованы им, Болеславом, шляхетством и холопами. Минует время, и эта молодшая дружина получит от него лены, построит замки, обзаведётся своей небольшой дружиной, кметями, конюхами, ловчими, скотниками. За всё это шляхтичи обязаны по зову короля являться к нему на помощь со своей дружиной.
У Болеслава много рыцарей, две на девять тысяч…
Рыцарский зал примыкает к королевским покоям. Болеслав обошёл разбросавшихся на соломе воинов. В углу, у жировой коптилки, несколько рыцарей переговариваются вполголоса. Здесь же навалом лежат броня, мечи.
Миновав бодрствующую у двери стражу, Болеслав вошёл в опочивальню, скинув кунтуш и шапку, повесил на вбитый к стене колышек. Усевшись на мягкое ложе, позвал:
- Эгей!
Вбежал стоявший на карауле рыцарь. Болеслав выставил ногу:
- Стащи!
Приставив к стене копье, рыцарь опустился на коле но, расшнуровал сапоги. Разув короля, он покинул покои. Оставшись босой, Болеслав долго ещё сидел задумчивый. Мысли перекочевали на иное… Нежданно скончалась жена. Оно и печали в том нет, стара и неласкова была. Но вот что Владимир ответит? Давно письмо ему послано… И Рейнберн что-то вестей не подаёт. А сказывают, Предслава молода да пригожа…
Ко всему отдал бы князь Владимир за дочерью червенские города, то-то ладно было бы! Ну да станет либо не станет Предслава его, Болеслава, Женой, а Перемышль да Червень всё едино он, король Польши, возьмёт на себя. Такая пора наступит, когда Святополк сядет вместо Владимира великим князем киевским…
Где день, где ночь, Святополк определяет по узкой щели меж брёвнами. В подполье темно и холодно. Сколько же времени прошло, как князь Владимир приказал бросить его в эту клеть? Уже немало. Давно потерял Святополк тому счёт.
Узкое и низкое подполье давит бревенчатым перекрытием. Прильнув к щели, Святополк силится разглядеть краешек неба. От напряжения глаза слезятся. Он опускается на сколоченное из досок грубое ложе, покрытое конской попоной, дерёт пятерней неухоженную бороду. Она отросла, взлохматилась. Длинные волосы, не перехваченные ремнём, рассыпались, а под измятой, грязной одеждой тело в баню просится, чешется.
Зачем он в Киев отправился, для чего поверил Владимирову письму? И что ждёт его теперь?
Но на этот вопрос Святополк не может ответить. Узнал он от стражи: из Турова княгиню Марысю с епископом привезли и тоже в клети содержат.
Приходил к нему архиерей Анастас, просил покаяться в грехах, открыться великому князю, какую измену на него таил и о чём с королём польским замышлял. А уходя, шепнул, что бояре с нём не забыли и на их помощь пусть князь Святополк надежду имеет.
Но чем могли помочь ему бояре? Разве король Болеслав за дочь свою в заступ пойдёт…
Со скрипом открылась тяжёлая дверь. Кто-то сказал:
- Вздуйте огня!
Святополк узнал голос Владимира. Он знал, рано или поздно не миновать этой встречи, и не хотел её. Когда ехал в Киев; надеялся застать князя мёртвым, но говорить с живым - о чём?
Ненависть затмила разум, тело бил мелкий озноб. Владимир остановился рядом, постоял, потом сказал отроку, державшему светильник:
- Оставь нас наедине.
Отрок опустил плошку и удалился, Владимир уселся рядом со Святополком, сморщился:
- Дух от тя зловонный… Молчишь или речь вести нам не о чем? Так поведай, как заодно с Болеславом смерти моей выжидал. Знаю, знаю, великого княжения алкал, к тому тебя и латиняне подбивали… Да ведомо ли те, - Владимир повернулся к Святополку, - что епископ Рейнберн, коий злобу на меня распалял в твоей душе, вчерашнего дня смерть принял?
Сказал и прищурился. Увидел, как Отшатнулся Святополк, глаза расширились.
- Либо жалко стало? А меня что ж не жалел, аль не родной я те? Не мыслил я, что сын мой на меня измену затаит!
- Не отец ты мне! - резко выкрикнул Святополк « вскочил. - Князь Ярополк отец мой!
- Вот оно о чём ты, - усмехнулся Владимир и тоже поднялся. - Твои уста изрыгают яд. Раньше гадал я, чей ты сын, мой ли, брата. Трудно мне было знать, однако ж столы я вам всем выделил равные, не чествуя одного выше другого. Но то было прежде, нынче же, вижу, злобы ты полон, Ярополкова кровь в тебе.
- Так и не чествуешь? - злобно выкрикнул Святополк. - А, небось, Ярославу вон какой богатый стол выделил, новгородский. Мстиславу - тмутараканский…
- Ярославом не попрекай, - оборвал Святополка Владимир. - Мстиславу же Тмутаракань отдал потому, что он храбр и на дальнем рубеже Руси крепко стоять будет.
- А Бориса к чему подле себя держишь? Видать, на стол киевский замыслил посадить его?
- Может, и так, - спокойно ответил Владимир. - Нрава Борис кроткого, да разумом не обижен. А ко всему кровь в нем византийских императоров. Ты же того не разумеешь, что Русь рядом с Византией соседствует.
Сказал и направился к выходу.
- Погоди, - остановил его Святополк. - Вели, чтоб баню мне истопили, срамно. Да вместе с княгиней пускай поселят меня.
- Ин быть по-твоему. Но стражу подле тебя оставлю, ибо не верю те…
Выбравшись из подполья, Владимир закрыл глаза от яркого солнечного света. Долго дышал всей грудью. Потом увидел шедшего через двор воеводу Александра Поповича, остановил, взял за локоть. Пока дошли до крыльца, сказал:
Надобно тебе, воевода, вести рать к червенским городам. Чую, поведёт Болеслав свои полки на Русь.
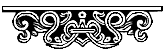
СКАЗАНИЕ ТРЕТЬЕ
Ещё жив великий князь Владимир, и на весёлом пиру славит его сладкозвучный Боян. Поёт песню речистый певец, рокочут звонкие струны…
1
 тстояв заутреню, тысяцкий Гюрята задержался на прицерковном дворике День по-весеннему тёплый, земля от мороза отошла, дышит паром. На могильных холмиках птичья стая щебечет. Деревья набрякли соком, вот-вот распустятся, в зелень оденутся. Хорошо жить на свете! Сбив соболью шапку на затылок и распахнув шубу, тысяцкий зашагал по мощёной улице. На плахах комья грязи, за ногами натащили, местами гниль брёвна подточила. «Менять надобно›, - подумал Гюрята, и в его голове это увязывалось с гривнами. Не шутки шутить казной новгородской распоряжаться. А он, тысяцкий, не первый год дело ведёт. Свернув к торжищу, лицом к лицу столкнулся с боярином Парамоном. Тот рад встрече. Гюрята хотел махнуть рукой, обойти болтливого боярина, да уловил в его речи интересное, насторожился. - На гостевом дворе киевские купцы драку учинили, - говорил Парамон, - вдвоём ша новгородца насели. Пристав драчунов рознял и тех киевских купцов на суд княжий увёл. А драка-то, драка из-за чего, слышь, Гюрята, новгородец попрекнул киевлян, что-де Киев у Новгорода в захребетниках ходит. - Как сказал, в захребетниках? Гм, - кашлянул тысяцкий, - Так-то! - и не стал дальше слушать Парамона. У кабака два мастеровых с Плотницкого конца о том же речь вели. До Гюрятиных ушей донеслось: - А сколько мы Киеву гривен выплатили? - Пора Киеву и честь знать. Много мнит о себе князь Владимир. Запамятовал, что мы его на великое княжение вместо Ярополка сажали. - Забыл, забыл, вестимо, что новгородцам в те лета челом, бил… На торгу суета, гомон, но тысяцкому не до того, мысль вокруг услышанного вертится: «Коли б не платить Киеву, и скотница не оскудеет, и спокойней будет. А то ведь как настанет пора, мудрствуй, Гюрята; бояре и купцы не щедры, люд же новгородский на гривны не богат…» Было отчего тысяцкому ломать голову. Не раз, когда дело доходило до того, сколько какому концу платить, спорили новгородцы до кулачного боя, гончары на плотников, бронники на кожевников… Задумался Гюрята и не заметил, как миновал шумное торжище, Ярославов двор и к своему двору подошёл. Толкнул калитку с твёрдой решимостью подбить князя Ярослава, чтоб отказал Киеву в дани. «Владимир, вестимо, озлится, на Новгород с дружиной пойдёт, да уж новгородцы постоят за себя».
тстояв заутреню, тысяцкий Гюрята задержался на прицерковном дворике День по-весеннему тёплый, земля от мороза отошла, дышит паром. На могильных холмиках птичья стая щебечет. Деревья набрякли соком, вот-вот распустятся, в зелень оденутся. Хорошо жить на свете! Сбив соболью шапку на затылок и распахнув шубу, тысяцкий зашагал по мощёной улице. На плахах комья грязи, за ногами натащили, местами гниль брёвна подточила. «Менять надобно›, - подумал Гюрята, и в его голове это увязывалось с гривнами. Не шутки шутить казной новгородской распоряжаться. А он, тысяцкий, не первый год дело ведёт. Свернув к торжищу, лицом к лицу столкнулся с боярином Парамоном. Тот рад встрече. Гюрята хотел махнуть рукой, обойти болтливого боярина, да уловил в его речи интересное, насторожился. - На гостевом дворе киевские купцы драку учинили, - говорил Парамон, - вдвоём ша новгородца насели. Пристав драчунов рознял и тех киевских купцов на суд княжий увёл. А драка-то, драка из-за чего, слышь, Гюрята, новгородец попрекнул киевлян, что-де Киев у Новгорода в захребетниках ходит. - Как сказал, в захребетниках? Гм, - кашлянул тысяцкий, - Так-то! - и не стал дальше слушать Парамона. У кабака два мастеровых с Плотницкого конца о том же речь вели. До Гюрятиных ушей донеслось: - А сколько мы Киеву гривен выплатили? - Пора Киеву и честь знать. Много мнит о себе князь Владимир. Запамятовал, что мы его на великое княжение вместо Ярополка сажали. - Забыл, забыл, вестимо, что новгородцам в те лета челом, бил… На торгу суета, гомон, но тысяцкому не до того, мысль вокруг услышанного вертится: «Коли б не платить Киеву, и скотница не оскудеет, и спокойней будет. А то ведь как настанет пора, мудрствуй, Гюрята; бояре и купцы не щедры, люд же новгородский на гривны не богат…» Было отчего тысяцкому ломать голову. Не раз, когда дело доходило до того, сколько какому концу платить, спорили новгородцы до кулачного боя, гончары на плотников, бронники на кожевников… Задумался Гюрята и не заметил, как миновал шумное торжище, Ярославов двор и к своему двору подошёл. Толкнул калитку с твёрдой решимостью подбить князя Ярослава, чтоб отказал Киеву в дани. «Владимир, вестимо, озлится, на Новгород с дружиной пойдёт, да уж новгородцы постоят за себя».По теплу очистился Волхов. Последние льдины, кружась, уплыли к морю. Законопатив и осмолив ладью, покинул Ладогу кормчий Ивашка с товарищами. Пережидая зиму, не сидели они без дела, промышляли зверя в лесу, строили избы, обновили городни, но время тянулось долго. Не выпуская руля из рук, кормчий Ивашка зорко глядит вперёд. Всяко бывает. Хоть и мели здесь не встретишь, и известно, что за каким поворотом, однако случается, то бревно вода погонит, то запоздалую льдину. Ночами ладья приставала к берегу, ладейщики жгли костры, и Ивашка, угревшись у огня, вспоминал отчий дом. Закроет глаза, и видятся ему отец и меньшой брат Кузька. Потрескивают крова в костре шумит над головой Ивашки голый лес, где-то в глубине плачет, жалуется ночная птица. - Отец с Кузьмой в такую пору на вырубке Лес пожгли, пахать начали, - тихо произнёс, ни к кому не обращаясь, Ивашка.
Сидевший поодаль ладейщик не расслышал, повернулся к кормчему:
- Ты о чём?
- Ожогу свою припомнил.
- Ну что это, год не побыл, - протянул ладейщик. - Мне вот довелось с ушкуйниками ходить, три лета не ворочались в Новгород…
Другой ладейщик, подбросив в костёр веток, прервал его:
- Не доброе дело ушкуйничать.
- Разбойное, - согласился Ивашка, - грабёж - дело немудрёное…
По утрам иней серебрил землю, а по оврагам, куда не Пробивалось солнце, запоздало лежал грязновато-рыжий снег. Но чем ближе ладьи приближались к Новгороду, тем сильнее весна давала себя знать. Дней Ивашка сбрасывал с себя латаный тулуп и оставался в одной рубахе. Свежий ветер бодрил, а солнце ласково пригревало.
Поваживая из стороны в сторону рулевым веслом, кормчий искоса посматривал на ладейщиков, усевшихся вокруг жаровни с углями, над которыми пеклись куски мяса. На последней стоянке подстрелили новгородцы лося. Зверь оказался молодой и, на удивление, не отощавший за зиму.
Ветер неожиданно стих, и парус обвис.
- Эгей, берись за весла! - окликнул Ивашка товарищей.
Ладейщики, опустив парус, налегли на весла. Только в слышно:
- И-эх! Да! И-эх!
Режет ладья носом чистые воды Волхова-реки, торопятся ладейщики. Нет ничего дороже человеку, чем родная сторона. Разве жизнь, да и она не мила без отчего крова. Не мало лет плавает Ивашка и давно познал это. Каждый раз, ворочаясь в Новгород, торопился он в свою ожогу, где до боли знакомо всё: изба и тёмные сени, двор, обнесённый высоким тыном, загон для скота, печь и полати, и даже зыбка, прикрученная к подволоку, зыбка, в которой качался отец, Савватей, баюкали его, Ивашку, и Кузьму.
Новгород открылся сразу куполами Софии, крепостными башнями и бревенчатой стеной, шатровой крышей княжьих хором, заиграл слюдяными оконцами теремов.
От неожиданности Ивашка забыл о руле, подхватился, Сколько раз видит он всё это, но всегда почему-то кажется, что впервые. И, словно разгадав его мысли, ладейщик, сидящий рядом, ахает:
- И что за чудо град Новгород? Ай да Великий!
Ладья, толкнувшись бортом о причал, вздрогнула и замерла. На сосновые столбы-сваи петлями полетели канаты, и Ивашка сошёл на пристань. По соседству с их ладьёй загружался мехами и кожей корабль из Ганзы. Немецкий гость, скрестив на груди руки, зорко следил за работным людом. Тут же, неподалёку, над ярким костром булькала в чане смола. Вытащив из воды дракар, варяги смолили днище. Новгородские мастеровые-плотники обшивали досками ладьи. На пристани раздавался стук топоров.
Миновав амбары и клети с товарами, кормчий направился к Ярославову двору. Время послеобеденное, и улицы малолюдны. Ивашка по сторонам поглядывает, примечает, где что за год изменилось. Вот у боярина Парамона постройки новые.
«Вишь ты, - крутит головой Ивашка, - едва успел из Ладоги перебраться, как уже хоромы обновил. Прыток боярин…»
Позади зацокали копыта. Оглянулся Ивашка, дружинники скачут. Посторонился. Воины в броне, шишаки с бармицами. Лошади под ними горячие, одна другую норовят обойти, вперёд вырваться.
Посмотрел кормчий дружинникам вслед, полюбовался и дальше своей дорогой зашагал.
А князь Ярослав в ту пору, отобедав, умостился в удобном кресле с книгой в руках. Но не читалось. Ярослав под впечатлением недавнего разговора с тысяцким. Посеял Гюрята в его душе сомнение. «Князь Владимир стар, - сказал он, - помрёт, сядет великим князем кто-либо из братьев твоих, и будем мы платить ему, как и ноне платим. А за что? Разве Новгород в долгу перед Киевом?»
Знает Ярослав: то, что сегодня сказано ему Гюрятой, завтра сообща подтвердят бояре. . Станет он противиться, скличут вече и на своём поставят.
Но разве Ярослав не согласен с тысяцким? Он давно уже об этом подумывал, только гнева отца остерегался. Нынче, когда и у Гюряты такие же мысли зародились, решился, ответил: «Ин быть по-вашему».
Теперь, прикрыв глаза, Ярослав терзался душой, так ли поступил, не так? Но каждый раз выходило, что по-иному и быть не могло. Князь Владимир далеко, а новгородцы рядом…
Размышления нарушил заглянувший отрок:
- Кормчий Ивашка заявился.
- Впусти, - коротко бросил Ярослав.
Приезд кормчего обрадовал князя. «Значит, и Ирина вскорости прибудет», - подумал он. Вошедшего Ивашку встретил с улыбкой:
- Как путь по Волхову, совсем ли открылся?
Кормчий поклонился князю:
- Очистилась река сполна.
- А не ведаешь, стоит ли ещё лёд на Нево?
- Когда мы из Ладоги отплывали, охотные люди с верховья воротились, сказывали, тронулся.
- Добро! - удовлетворённо проговорил Ярослав, - Ну а как новый ладожский воевода?
- Ярл Рангвальд к воинскому делу пристрастен, городни новые срубил, разве что… - и замялся, не решаясь, говорить или промолчать. Но Ярослав насторожился:
- О чём умалчиваешь?
- Да что уж тут. Ярл-то Рангвальд добр, но дружина его ладожан притесняет, нередко разбоем живёт…
Ярослав нахмурился, отвернулся к оконцу. Недовольно бросил:
- Разберусь ужо!
Наступила тишина. Ивашка потоптался на месте, не зная, оставаться ли, покинуть горницу. Но вот князь снова повернулся к нему, сказал как ни в чём не бывало:
- И ты, Ивашка, каким был, таким и остался, ровно и месяцы не пролетели.
Кормчий рад перемене разговора, сказал:
- Хочу просить тя, князь!
- Ну, сказывай, о чём?
- Давно я не был в своей ожоге. Отпусти, князь, лето пожить дома…
Ярослав посмотрел на него с усмешкой:
- Не по девке ли соскучился?
- И в том правда, князь, муж я, сам видишь, не дряхл телом, - ответил ему тем же Ивашка.
- Добро, добро, поди в таком разе сыщи дворского, скажи, что я велел выдать те три гривны серебра. Не с пустыми же руками являться в избу.
Ещё не рассвело, как Ивашка, упросив воротнюю стражу выпустить его из города, шагал знакомой дорогой. Путь до ожоги не ближний, через болота с весны хода нет. Идёт Ивашка, перекинув котомку через плечо, поглядывает по сторонам. Слева Волхов, справа узкой полосой тянется лес. За ним непролазная топь.
Небо засерело, зарделась на востоке утренняя заря. Лес пробуждался одиночными пересвистами птиц, потом враз ожил, наполнился трелями и переливами. Ивашка вдруг припомнил детство, надул щеки, засвистел иволгой. На душе радостно, ноги несут сами собой. Слева остался Юрьев монастырь. Мальчишкой был, когда рубились его кельи. Не раз потом привозили они с отцом в дар монахам то мясо-дичину, то мёд в кадках.
Не замечая устали, прошёл Ивашка без отдыха весь путь. К обеду издалека увидел ожогу. Из-за высокого тына выглядывала тесовая крыша избы, верхушка нераспустившейся берёзы. За жердевой изгородью, обочь тына, чернело нераспаханное поле.
При виде родного дома Ивашка почуял, как сильнее забилось сердце и к горлу подступил тёплый комок. И что за неведомая сила прячется в человеке, которая Жадно влечёт его в отроческие края? Стареет человек, но не убывает в нем той силы, наоборот изо дня в день она зовёт его всё настойчивей, властней. В ком нет любви к родине, не уподобается не только человеку, но и животному. Ибо зверь дикий, птица ли перелётная, - всяк тянется в те места, где впервые обогрело их материнское тепло.
Задержавшись у ворот, Ивашка бегло оглядел двор. Всё как и год назад: по двору бродят куры, хрюкает в закутке свинья; в копёнку сена уткнулся носом телок, ворошит. На конюшне, заслышав человека, заржала лошадь. Узнав своего, старая собака потёрлась об ногу, завиляла хвостом. Ивашка погладил её и, скинув котомку, переступил порог.
2
- Свевы явились! Свевы Волхов меряют! - облетела весть Новгород.
Со всех сторон города стекался К пристани люд поглазеть на княгиню.
- Слыхал ли, нашему князю свевскую королеву в жены привезли?
- Наслышан!
- Издалека! А по-русски разумеет ли?
- Наш князь Ярослав книжник, иноземным языкам обучен!
- Позрим ужо, что за птица у Олафа дочь, - насмешливо сказал боярин Парамон, семеня за боярыней.
- Уж не припадает ли на один бок, как наш сокол, - вторит боярыня и поджимает губы.
- Но, но, вы, грибы старые, червивые, - обгоняя Парамона; прикрикивает дружинник. - Почто хулу на князя кладёте!
- Не плети пустое, - ершится боярыня, и её морщинистое лицо багровеет от гнева.
Дружинника оттирает толпа. Она прихлынула к самому берегу. За спиной у боярина Парамона тысяцкий Гюрята. Ему хорошо, голова над толпой выделяется. Парамону же, кроме спин да затылков, ничего не видно. Досадно, не каждый день бывает такое, а тут ещё боярыня под бок толкает:
- Ну что там, какова, пригожа ль?
- Отстань, неуёмная, - злится Парамон. - Тебе-то на кой её пригожесть, в постель класть будешь, что ль?
Гюрята рассмеялся.
- Не бранись, боярин, чай, она любопытства ради спрашивает. А ты, боярыня, на Парамона не серчай, ростом он мал уродился. Я те лучше обсказывать буду. Дракары-то видны те, либо и их не разглядишь?
- Ладьи свевские мне видать, - охотно отвечает боярыня. - Сколь их, две?
- Две. Боле ничего нет.
- Может, то всё враки? - сомневается мастеровой, стоящий сбоку от Гюряты, - Может, всего-навсего торговые свевы приплыли и никакой княгини с ними нет?
- Дай час, увидим, - спокойно отвечает Гюрята и оглаживает бороду.
Его глаза устремлены на Волхов, где у самого причала покачиваются со спущенными парусами дракары свевов. Борта у них смоляные, высокие, с узкими весельными прорезями. Нос самого большого украшает позолоченная голова хищного грифа.
Издалека Гюряте видно, как свевы возятся со сходнями, крепят их.
Прибежали дружинники, оттеснили толпу от берега, стали тыном.
- Значит, жди, скоро князь пожалует, - заключил мастеровой.
Парамонова боярыня приподнялась на носки, вытянула по-гусиному шею. Недовольно промолвила:
- Ничего не вижу. Сказывала, пойдём раньше. Экой!
Боярин смолчал. Негоже пререкаться с бабой, пусть даже с боярыней, да ещё меж людей. На то хоромы есть. А тысяцкий рад, боярыню подзуживает:
- Вестимо дело, надо было загодя явиться. Ну да Парамон завсегда так, нет о жене подумать. Ты уж, боярыня, построже с ним, Парамон доброго слова не понимает, я уж его с мальства знаю.
- Эк, и не совестно те, Гюрята, иль боярыня молодка какая, - пристыдил тысяцкого Парамон и, обиженный, выбрался из толпы. Следом ушла и боярыня.
Тут народ зашумел:
- Князь Ярослав идёт!
- Где? Что-то не примечу!
- Да вона, с пригорка спускается!
- Ага, теперь разглядел.
- Разглядел, когда носом ткнули! подметил сосед Гюряты, и в ответ раздались редкие смешки.
Ярослав шёл в окружении рынд, по правую и левую руку воеводы Добрыня и Будый. Воеводы оба на подбор, высокие, плечистые, шагают грузно. Князь им чуть выше плеча, ко всему и худ. На Ярославе алый кафтан, шитый серебром, соболья шапка и сапоги зелёного сафьяна. У воевод шубы тонкого сукна, под ними кольчатая броня на всяк случай. Кто знает, с чем явились свевы. Сапоги, как и на князе, сафьяновые, а шапки из отборной куницы.
Шагов за десять до дракаров Добрыня и Будый отстали от Ярослава, а он приблизился к сходням. Навстречу шла Ирина в длинном до пят платье из чёрного бархата, на плечи накинут узорчатый плат, а непокрытую голову обвила золотистая коса.
Замер Ярослав. А в толпе бабий шум:
- Соромно, волосы-то напоказ выставила…
- Ха, в заморских-то странах, видать, и нагишом стыду нет.
Гюрята прицыкнул на баб:
- Не трещите, подобно сорокам, поживёт княгиня на Руси, обвыкнется.
Высоко несёт голову дочь свевского короля, гордо, на люд внимания не обращает, будто и нет никого на берегу. Со сходней на землю ступила твердо, князю поклон отвесила не поясной, по русским обычаям, а по-заморскому, чуть голову склонила.
«Властна, видать, будет княгиня», - подумал Гюрята, и, будто разгадав его мысли, мастеровой рядом проговорил:
- Идёт-то как, ты погляди, не иначе кремень-баба! А лик-то бел да пригож, ишь ты…
- Ай да Антип! - подметил другой мастеровой. - Княгине хвалу воздаёт, своей же жены не примечает.
- Своя-то она своя, - проговорил мастеровой Антип, - её Каждодневно зрить не возбраняется, а вот княгиню-то, да ещё заморскую, в кои лета поглядеть довелось.
- Коли так, разглядывай. Ай и в самом разе стойко ходит варяжская невеста.
Ярослав уже подал Ирине руку, повёл с пристани. Часть свевов осталась на дракарах, а десятка три, закованных в броню, с копьями и короткими мечами, стуча по бревенчатому настилу тяжёлыми сапогами, двинулись следом за Ириной. На викингах рогатые шлемы, поверх брони накинуты тёмные, подбитые мехом плащи. Свевы шли по два в ряд, все безбородые, с отвисшими усами. Лишь у одноглазого ярла, шагавшего впереди отряда, с чёрной повязкой на лице, седая борода и плащ не как у всех, златотканый. Гюрята знал этого ярла Якуна, старого варяжского воина, и не удивился, что король Олаф доверил ему охранять дочь. Верный языческой клятве на мече, он сражался под Антиохией с сарацинами, служил в гвардии базилевса, водил торговые караваны.
Якун тоже заметил тысяцкого, поднял руку в приветствии. Рядом С Якуном шёл ярл помоложе. Этого Гюрята тоже видел лета три назад. Его зовут Эдмунд. Он приходил в Новгород торговать, воротившись из удачного похода.
Эге, сколь варягов призвал Ярослав, - сказал кто-то в народе.
Ему ответили:
- Княжья забота - звать, а ноугородская - корми!
- Корми в одном разе! Тут ещё за службу платить будешь свевам. Будто своей дружины ему нет.
- Да, за гривнами к нам пойдут, что и говорить. Вона Гюрята, он казной ведает, ему лучше знать.
Тысяцкий, будто не расслышав, выбрался из толпы.
Отойдя от людей, Гюрята повернул на мост. Внизу, у свай, река грязная, водой прибило щепки, коряги. В отрочестве Гюрята любил нырять с моста. Но то было давно. Сейчас уже Пров в таких летах, как он тогда был. «Пров, Пров, не лезет тебе в голову ученье…» - подумал тысяцкий о сыне.
Перейдя Волхов, Гюрята направился на епископское подворье, где в стороне от других строений стояла скотница - каменное здание с маленькими, высоко поднятыми зарешеченными оконцами и с толстой, окованной листовым железом дверью.
Два ратника в доспехах бодрствовали на карауле. Тысяцкий отвязал от пояса связку ключей, отомкнул замок, переступил порог, постоял, пока свыкся с полумраком, потом пошёл не торопясь вдоль стен. На кольях висели связки шкурок. Гюрята пробовал рукой их нежный мех, убеждался, что время не подпортило их, переходил к другой связке. За мехами располагались коробья с золотыми и серебряными изделиями. Всё это от торговых людей Великому Новгороду. Дальше тесно жались один к одному кожаные корзины с русскими гривнами да иноземными золотыми монетами. И всему этому он, Гюрята, ведёт точный счёт. Его забота, чтобы богатство в скотнице не уменьшалось, а прибывало. Хоронится у тысяцкого тайная дума - услышать, как Новгород окажет Прову такую же честь, как оказал ему, Гюряте. Но, видно, тем мыслям не суждено сбыться, скудоумен Пров и бесхитростен.
Гюрята вздохнул, закрыл дверь скотницы, навесил замок…
Многолюдно и разноязыко новгородское торжище. Водным путём прибывают гости из варяжских земель: свевы и нурманы, даны из Роскильда, немцы из ганзейских городов По Днепру и Ловати, перетягивая ладьи волоком, приплывают купцы из Киева, знают Новгород гости из царственной Византии, а подчас на торгу слышится речь купца-мусульманина из далёкого Багдада или Хорезма. Через моря и многие реки пролегает путь этих гостей. И хотя есть у купеческих караванов стража, не одна опасность подстерегает их в дороге. Но таков удел купца. Нет торга без риска.
На новгородском торгу ряды крыты тёсом - задождится, купцу не боязно, и товар и сам в сухости. Гостевые лавки не пустуют, иноземные и русские торговые люди всяк своё выставили, кричат, зазывают покупателей. Варяги, те больше броней да оружием похваляются. Хорошо железо у свевов. Немцы и византийцы всякой всячиной обложатся, гости с Востока навезут пряностей, на весь торг запаху, а русские купцы пушнину выставят иноземцам на удивление.
Есть на торгу свои ряды и у новгородских мастеровых: кузнецы и гончары, плотники и кожевники умельцы хоть куда.
На потемневших от времени полках разная битая птица, тут же свисают на крючьях окровавленные говяжьи, свиные и бараньи туши, заветриваются. По теплу мухи сажают на мясе червя, и оно пахнет несвежо.
За жердевой оградой грязь по колено, здесь торгуют живым скотом.
Бойко, на всё торжище кричат сбитенщики, пирожочники, калачники.
День воскресный, и Кузьма с Провом прибежали на торг поглазеть, а коли удастся, так и послушать гусляров либо что купцы рассказывают. Тем есть о чём поведать; где правду глаголят, а где и приплетут, поди проверь их.
Здоровый, широкоплечий Пров грудью люд расталкивает. Тощий, длинновязый Кузьма за ним еле поспевает. Находились, проголодались. Пров предложил:
- Айдате, Кузьма, пирогов отведаем, я плачу.
Пироги у бабы в коробе румяные и тёплые. Откинула она тряпицу, а от них дух такой шибанул, что у Кузьмы в животе заурчало.
- С грибами али с капустой? - спросила баба.
- Грибных давай, - скомандовал Пров.
Они съели тут же, не отходя от короба. Баба хоть и толстая, а проворная подсунула по второму. Тут и сбитенщик вывернулся, старый дед, сам ростом мал, но кувшин таскает преогромный. Обжигаясь, выпили Кузьма с Провом по корчаге горячего медового сбитня. Во рту сладко, на душе весело. Кузьма увидел восточного гостя, толкнул Прова:
- Гляди, эко чудо!
Гость на загляденье: на голове платок диковинно накручен, поверх тонкой белой рубахи через плечо, переброшена зелёная шёлковая материя, на ногах не сапоги - кожаные сандалии привязаны тесёмками, а борода и брови у купца чёрные, смоляные. И сам восточный гость смуглый, вроде на жарком солнце днями валялся.
- Ух ты! - изумился Пров. - Вот так птица заморская, перья-то как разукрашены. А порты-то, никак, исподние!
Они поглазели на восточного гостя, отстали. Кузьма сказал:
- Поздно, Феодосий ругаться почнёт.
- Старый козел, верно, житие своё пишет, ему не до нас.
- Ты, Пров, учителя не обижай даже словом. Он нам добра желает, грамоте обучает, - озлился Кузьма.
- Так я же не в обиду, Кузька, а что до грамматики, так сам ведаешь, разве с моим разумом её осилить? - опечалился Пров, - Отец и тот скудоумием попрекает.
- А ты не горюй - хлопнул Кузьма его по плечу. - Дай срок, и ты все науки одолеешь.
- Нет уж, куда мне. Ты вон вполовину менее моего учишься, а уже всё превзошёл, а я только и того, что читать по складам осилил. Иль уйти с ушкуйниками?
- Гляди, Провушка, никак, отец твой! - перебил его Кузьма.
- Где? - всполошился тот.
- Да вона, вишь, спиной к нам стоит, - указал Кузьма на высокого, дородного боярина.
- И впрямь он! - ахнул Пров.
Обойдя стороной Гюряту, они покинули торжище. Чем дальше отдалялись от него, тем малолюдней улицы.
- Приметил бы отец, не токмо отругал, но и затрещиной оделил бы. Да ко всему непременно сказал бы: «Ротозейничаешь, Провка! До этого ты умелец, а вот к наукам не больно ретив…» Он такое мне уже не единожды говаривал, - почесал затылок Пров.
Кузьма рассмеялся:
- А может, отец твой и правду сказывает?
Смеркалось. Они повернули в узкую глухую улицу.
Жидкая грязь разлилась по ней озёрами. Вдоль забора узкий настил. Кузьма шёл впереди осторожно, стараясь не оступиться в грязь. Не приметил, как Откуда ни возьмись варяг навстречу. Хотел было Кузьма прижаться к забору, чтоб пропустить варяга, но тот толкнул его плечом, и Кузька растянулся в луже. Подхватился мигом, глядь, Пров, избычившись, двинулся на варяга. Тот попятился, руку под плащ запустил, но не успел за меч схватиться, как тяжёлый Провов кулак ткнулся ему в подбородок, и варяг кулём осел в грязь. Рогатый шлем со звоном покатился по настилу.
- Бежим, Провушка! - вскрикнул Кузьма и потащил друга за руку.
Берегом Волхова они выбрались к мосту, отдышались.
- Ловко ты его, - переводя дух, проговорил восхищённо Кузьма.
- Дак я вполсилы, шуйцей и уда рил-то. Слаб, видать, варяг. А наперёд наука, чтоб знал, как русича задирать.
Ярл Эдмунд, несмотря на поздний час, нагрянул к Ярославу искать управы на обидчиков. Видано ли, потомка тех, кого взлелеял бог Вотан и выкормило суровое нордическое море, храброго ярла Эдмунда, чей замок над фиордом самый древний в земле свевов, посрамили новгородцы.
Плащ у Эдмунда в грязных потёках, на лице кровь. Гневно сжимая кулаки и не замечая никого, он вбежал по ступеням княжьих хором, столкнулся с Добрыней и Гюрятой. Воевода отступил на шаг, закрыл за собой дверь, недомённо спросил:
- Что стряслось, ярл, и почто ты в таком виде?
- Пропусти, воевода, к князю я! - гневно выкрикнул Эдмунд. - Новгородские люди напали на меня разбойно.
- Но Ярослава нет. Сколько было обидчиков твоих, ярл?
- Два!
- И ты им уступил? - удивился Добрыня.
- Нежданно они.
- Приметил ли ты своих обидчиков? - вмешался в разговор Гюрята.
Эдмунд замешкался с ответом. Он успел разглядеть лишь, что тот, который ударил его, здоровый, широкоплечий, выше его, ярла, на полголовы. Наверное, бородат, ибо почти все русичи отращивают волосы на подбородке.
Метнув на тысяцкого злой, взгляд, ярл процедил сквозь зубы:
- Я найду своих врагов, и если князь не накажет их, мой меч прольёт их кровь и смоет мой позор, не будь я ярл Эдмунд, - и, стуча сапогами, сбежал с крыльца.
Добрыня покачал головой, повернулся к Гюряте:
- Мыслится мне, не приметил ярл тех молодцев, кон побили его, иначе назвал бы.
- Истинно так. И не иначе свев первым задирал молодцев, - высказал предположение Гюрята.
- Ну, ну, - проговорил Добрыня, - пускай поищет, Новгород велик…
На второй день за утренней трапезой Гюрята обронил как бы невзначай:
- Варяга знатного побили. - И покосился на сидевшего сбоку Прова.
А тот что не слышит, знай гоняет серебряную ложку ото рта к чаше и обратно.
- Гм! - хмыкнул Гюрята и замолчал.
Пров же немедленно левую руку под стол сунул, не доведи до беды увидеть отцу, как распухла она.
Долгими вечерами Феодосий обучал Кузьму греческому и латинскому языкам. «Познав сие, - говорил он, - ты прикоснёшься к истории многих народов».
Кузьма ученик понятливый, и чужая азбука ему не в тягость. Сам того не заметил, как читать и писать научился.
Иногда Феодосий вспоминал свою далёкую родину. Прикроет глазки, высохшие руки на колени положит и рассказывает Кузьме про горы и синь моря, высокие кипарисы и сладкие финики, про страну, где никогда не бывает метелей и люди не знают тёплых шуб.
Ровно горит берёзовая лучина, плавно течёт речь монаха, дивной сказкой видится Кузьме Греческая земля. Ночами снились ему города с мраморными дворцами, огромными деревьями, верхушки которых упирались в чистое, без единого облака, небо, и мудрыми людьми, похожими на Феодосия. В одну из ночей приснилась ему ожога и отец, но стоит их изба не на краю болота, а в чужом краю. Заговорил Кузьма с отцом, а тот отвечает ему по-гречески, да так складно, Кузьма даже хотел спросить его, откуда научился он иноземной речи, да не успел, пробудился…
Кто знает, сколько бы проучился Кузьма в школе, если бы не заявившийся к ним как-то на урок князь Ярослав. Монах встретил князя, засуетился, почёт ему выказывает. Тот же сказал: «Ты, отче, веди урок, а я послушаю, кто к чему прилежание имеет», - и присел на скамью напротив Кузьмы. Долго слушал школяров, довольна покачивал головой, потом спросил:
- Кто из отроков, отче, боле всех к грамоте припадает?
Феодосий ответил не раздумывая: - Козьма, князь, хоть и мене других в школе, но зело разумен, - и указал на Кузьму. Тот зарделся, вскочил. - Похвалы достойно, - одобрил Ярослав что к наукам нет›в тебе лени. Обучи его, отче, ибо надобен мне писец и книжник разумный, перекладывать книги из языка греческого на славянский. - О, князь, - перебил Ярослава монах, - Козьма не токмо по-гречески разумеет и писать обучен, но и язык древних латинян превзошёл. - В таком разе пошли его ко мне, отче, погляжу, к чему он способен. - И уже к Кузьме: - Жду тя, отрок, завтра пополудни.
Из Ладоги явились в Новгород охотные люди с великой обидой. Варяги ярла Рангвальда у вольных людей скору с половины забирают, а кто им Воспротивится, всё отнимут да озорства ради искупают в Волхове. Истинное глумление над русским людом. Новгородские выборные - тысяцкий Гюрята и кончанские старосты высказали жалобу князю Ярославу. Тот посулил унять варягов, но не успели охотные люди воротиться в Ладогу, как оттуда нагрянул Ярославов приказчик с новой вестью: викинги напали ночью на княжескую ладью с мехами, перегрузили на свой дракар пушнину и покинули Ладогу, оставив там лишь ярла Рангвальда и с ним десяток свевов. Ярл Рангвальд к тому грабежу не причастен, но викингов задержать не мог. Слух есть, что они пристали в низовьях Волхова. Ярослав озлился, послал в Ладогу воеводу с малой дружиной, чтоб наказать варягов, но пока Добрыня добирался, викинги уже снялись с якоря и ушли в озеро Нево. Обогнув деревянную церквушку, Пров наткнулся на толпу мужиков. Окружив детину в кожаном кафтане, они говорили разом. Пров любопытства ради протиснулся вперёд. Детина - борода лохматая, глаза с прищуром, хитрые, то и знай по мужикам шастают. А те спорят, одни говорят «завтра», другие «повременим». Детине, видимо, надоела их ругань, прикрикнул: - Неча судачить, завтра тронемся, чего время терять.
Заметив Прова, кивнул:
- А ты что ж, тоже к ватаге пристать желаешь?
Догадался Пров, артель ушкуйников сбилась, а детина за атамана у них.
- Коли желание такое есть, приходи, как заутреню зазвонят, на пристань, там наши ушкуи стоят. Возьмём и тебя с собой. Пойдём к лопарям счастья искать.
У Прова ответ готов, сам о том мечтал. Куда как надоело Феодосиево наставление слушать.
Пока домой добежал, всё думал: «То-то озлится монах. И отец не похвалит. Ну да он и знать не будет, а хватится попусту вслед».
Сборы недолгие: уложил Пров в суму пару рубах и порты запасные, шапку с тулупом: «Кто знает, может, к зиме не добуду», и, натянув вытяжные сапоги из лошадиной кожи, не дожидаясь, пока зазвонят к заутрене, покинул дом.
Ещё не рассвело, небо звёздное. Подошёл тайком к воротам, прислушался. Воротний мужик спит с подхрапом. Осторожно, чтоб не проснулся, миновал его, заспешил к пристани…
Утром собралась семья за столом, нет Прова. Послал Гюрята за ним девку. Та воротилась вскорости, развела руками.
Тысяцкий сказал спокойно: «Спозаранку, не поевши, в школу умчался. То и хорошо, а что на пустой желудок, так больше в голову влезет».
Затревожились о Прове лишь к вечеру. Глянули, одежонки нет. Тут кто-то припомнил, что видел, как утром ушкуйники уплывали. Кинулись на пристань к сторожке. Те поддакнули, что ушла утром ватага, а был ли с ней Пров, сказать не могли.
Опечалился Гюрята, один сын и тот не как у людей. Хотел послать вдогон, потом раздумал. Не сегодня, так через лето уйдёт. Пусть что станется. Жив будет, воротится, глядишь, ума-разума наберётся…
На второй день проведали о том школяры. Заскучал Кузьма, жалко друга. Припомнил, как на торжище грозил Пров уйти с ушкуйниками. Тогда Кузьма не принял всерьёз его слов, а он, оказывается, не шутил.
Феодосий разгневался такому непослушанию, занятия начал с длинной проповеди о блудном сыне. В том несчастном отроке школяры без труда узнали Прова.
Кузьма впервой на княжьем дворе. Идёт несмело, удивляется, сколько тут понастроено клетей, житниц, конюшен. Из поварни, что из кузни, чад и дым валом валит. Дворня многочисленная, то и знай снуёт. На задворках гридни коней выгуливают, покрикивают. Парень плотный, что гриб боровик, волос огнём полыхает, перестрел Кузьму, спросил задиристо:
- Ты чего заявился? - и руки в бока упёр.
Кузьма растерялся, только и сказал:
- Князь звал.
Проходивший гридин заступился:
- Чего, словно кочет, наскакиваешь? - И хлопнул парня по шее.
Кузьма пошел вслед за гриднем. Тот указал ему на дверь:
- Там князь.
Ярослав стоял за столиком, сделанным в форме налоя, читал толстую, в кожаном переплёте книгу. Услышав шаги, поднял голову. Кузьма оробел. Но князь смотрел на него добро, даже чуточку насмешливо.
- Это ты, отрок, коий грамоту превзошёл? - сказал Ярослав. - Ну, ну, поглядим. Подойди ко мне.
Из-за княжеского плеча Кузьма взглянул на страницу. Написано по-гречески, прочитал вслух, по складам.
- А-лек-сан-дрия.
- Верно, - Ярослав поднял палец - Книга сия о воинских деяниях царя Македонского, коий разгромил персов и нашёл путь к индусам. Многие века назад создал царство, простирающееся от реки Дуная до вод Инда… Книгу эту привезли мне из страны греков. Не одно лето переписывал её трудолюбивый монах, старался, выводил буквицы. Тебя же, Кузьма, беру я к себе, дабы вёл ты летописание дней наших. Жить отныне будешь здесь, при княжьем дворе. Тиун отведёт те каморку. Он же даст чернили папирус да что потребно из одежды. Кормиться станешь вместе с отроками из дружины. А понадобишься, призову тебя.
3
Корчма на бойком месте у шляха, что ведёт в Краков. Никто не знает, кем и когда построена, поговаривают, будто она здесь с самого сотворения мира, как и её стареющий, хозяин, рыжий, костлявый Янек, с бритым подбородком и пейсиками до самых скул, в грязной, никогда не сменяемой поддёвке.
Едет ли кто в город, возвращается, не минет корчмы, заглянет на шум голосов, запах жареного мяса. А в ненастье или в ночь пану и кметю найдут при корчме ночлег и корм коню.
Крытая тёсом корчма вросла в землю. От солнца и дождя, мороза и ветра тёс потрескался, местами покрылся, зелёным мохом. На краю крыши длинноногий аист свил гнездо, привык, не боится людей.
На восход солнца, влево от корчмы, течёт Висла, направо - заросшая кустарником равнина, унылая ранней весной, в дождливую пору.
В один из дней, когда небо, сплошь затянутое тучами, щедро поливало землю и вода мутными потоками растекалась по равнине и шляху, к корчме подходил одинокий монах. Не только сутана, но и сапоги его давно уже промокли насквозь, и теперь он брёл, не выбирая дороги. Поравнявшись с корчмой, монах остановился, будто решая, продолжать путь или завернуть, и, наконец надумав, шагнул внутрь.
Остановившись на пороге, монах откинул капюшон, присмотрелся. В корчме безлюдно, лишь в углу за длинным дубовым столом сидели два кметя. Видно, их тоже загнала сюда непогода. У топившейся по-чёрному печи колдовал над огнём хозяин. Увидев вошедшего, он заспешил к нему, приговаривая:
- О, святой отец, прошу, прошу. - Схватив монаха за широкий рукав, он не умолкал: - И что за скверная погода, святой отец!
Умостившись у огня, монах стащил сапоги, поставил рядом с собой, потом сказал:
- Неси, Янек, корчагу пива и холодный поросячий бок.
Хозяин положил на стол кусок мяса и ржаную лепёшку, метнулся во двор а вскоре воротился с корчагой пива.
Монах ел жадно, как едят изголодавшиеся люди; Бросив в рот последний кусок, он осушил корчагу, с наслаждением вытянул ноги и, прислонившись к стене спиной, захрапел. Спал недолго. Ругань и возня разбудили его. Открыв глаза, увидел четырёх дюжих шляхтичей, взашей толкавших тех двух кметей, что пережидали дождь. Кмети упирались, но шляхтичи пинками выгнали их под дождь.
Рыжий Янек, заметив, что монах проснулся, успел шепнуть:
- То королевские рыцари, скоро сам круль заявится.
- Эгей, - позвал Янека усатый шляхтич, - зажаривай каплунов да живо кати бочку бражки!
Хозяин заметался по корчме, и не успел монах натянуть сапоги и зашнуровать их, как жирные каплуны, нанизанные на вертел, уже лежали над угольями, а рыжий Янек тем часом с грохотом вкатил замшелый бочонок с вином. Усатый шляхтич высадил поленом днище, зачерпнул корчагой, выпил, крякнул:
- Добре! - И тыльной стороной ладони вытер усы.
Издалека донеслись голоса. Зачавкали по грязи конские копыта, зазвенели стремена. Кто-то громко и отрывисто заговорил, а вслед за этим в корчму со смехом и гомоном ввалилась толпа шляхтичей. Монах без труда узнал в толстом пане, одетом в кожаный плащ, короля. Болеслав вразвалку подошёл к огню, скинул плащ на лавку, поманил хозяина:
- Але не рад?
Янек изогнулся в поклоне:
- Как не рад! Коли б не так, жарил бы я каплунов. Ай-яй, как мог мой круль помыслить такое?
Пока король переговаривался с хозяином, монах приподнял край сутаны, извлёк помятый пергаментный лист. Выступив из тёмного угла, он с поклоном произнёс.
- Туровский боярин Путша письмо шлёт.
Болеслав вырвал лист, поднёс к огню.
«Королю Ляхии и моему господину! Боярин Путша челом бьёт и спешит уведомить тя, что княгиня Марыся, а с ней князь Святополк князем киевским увезены и в темнице содержатся. А тебе надлежало бы, того коварного Владимира наказав, спасти князя туровского с женой его, а твоей дочерью… Мы же, в чём какая у тебя нужда выйдет; помощь по возможности окажем…» Отбросив лист, Болеслав со стуком опустил тяжёлый кулак на стол, загрохотал: Пся крев! Дьяволы! Голос его загремел по корчме: - Казимир! Стоявший у двери воевода повернулся. - Созывай воинство, порушим червенские города! Забыв о монахе и еде, Болеслав вскочил. - Але не знает князь Владимир моё рыцарство? О, Езус Мария! Точите же ваши сабли. Казимир, ты поведёшь славное ляшское воинство на Русь! И, грузно переваливаясь, заспешил к выходу. Остальные повалили за ним. Усатый шляхтич воротился, оттолкнул хозяина корчмы от печи и, подхватив петухов вместе с вертелами, бегом пустился догонять своих. - Ай-яй; - всплеснул руками рыжий Янек. - И что за скверный рыцарь у такого почтенного круля? Всё-то ему надо! Ая-яй, какие каплуны были… - Он закрыл глаза и причмокнул. Монах засмеялся. Янек приоткрыл один глаз, глянул с прищуром. - У ксёндза есть такие жирные каплуны и он надумал подарить их мне? - И обиженно отвернулся. Но монах оставил его слова без ответа. Стащив сапога и откинув капюшон, он снова улёгся тут же, у огня…
На левобережье Буга, в земле волынян, город Червень. Обнесённый земляным валом и бревенчатой стеной, он стоит на пути из Сандомира в Киев. Не раз развевались под Червенем вражеские стяги, сгорали в пожарах его деревянные терема и избы, но город снова строился, поднимался сказочно быстро. В год 6523-й послал король Болеслав на Русь воеводу Казимира с двумя тысячами рыцарей. Осадили они Червень, нет в город ни въезда, ни выезда. Подойдя к городу, поляки бросились на приступ, но дружина посадника Ратибора и городской люд отбили первый натиск. Ратибор, невысокий жилистый старик, поднялся не спеша на крепостную стену, внимательно осмотрел, что делается в стане врага. Вчерашнего дня воевода Казимир посылал к нему своих послов с требованием открыть ворота. На что Ратибор ответил: «Коли у Казимира силы достаточно, пусть сам отворяет». Посадник знал, польский воевода будет готовиться к решительному приступу. То и видно, вон как суетятся рыцари, носят из леса жерди, вяжут лестницы, оковывают железом конец толстого бревна, прикручивают к нему цепи. «Таран мастерят, - догадался Ратибор и подумал: - Подоспеет ли в срок воевода Александр Попович?»
Никому не было известно, один червенский посадник знал, что идут им на подмогу полки князя Владимира. Ещё до появления рыцарей прискакал в Червень от Александра Поповича гонец. Передал; воевода изустно, чтоб посадник город ляшским рыцарям не сдавал, а держался до его, Поповича, подхода.
Сойдя со стен, Ратибор остановился возле мастеровых, навешивавших на всяк случай вторые ворота.
- Запоры крепче цепляйте! - сказал он и зашагал дальше.
В чанах булькала смола, кипятилась вода. От костров жарко. Мальчишки и бабы подносят дрова, камни. В кузницах не умолкает перезвон, куют стрелы, копья.
Весенний день близился к концу. Смеркалось медленно. Позвав сотника, Ратибор сказал;
- На ночь дозоры на стенах удвой, дабы с недруга глаз не спускали, да у костров баб оставь, чтоб огонь не перегорел, остатный люд пусть отдыхает, завтра день многотрудный предстоит.
Ночью посаднику не спалось, бодрствовал, обходил дозоры. Иногда пробросит под стрельницей плащ, вздремнёт чутко и снова на ногах. На заре ополоснулся у колодца, отёрся рукавом. Голосисто, на все лады перекликались утренние петухи в Червене. Ратибор прислушался, Распознав среди других крик своего кочета, усмехнулся, потом, спокойно взойдя на стену, принялся всматриваться в ляшский стан. Небо светлело. В лагере недруга послышались голоса, ярко запылали костры, запахло варевом. Посадник глянул в сторону леса. Там, в двух полётах стрелы от крепости, разбил свой шатёр воевода Казимир.
Сколько ни всматривался Ратибор, не мог разглядеть шатра.
«Спит ещё воевода», - подумал Ратибор.
Позади раздались шаги. Посадник оглянулся, кивнул отроку. Тот развернул узелок, поставил перёд Ратибором хлеб и молоко в кринке. Не присаживаясь, посадник поел, отёр бороду.
- Скажи боярыне, обедать домой не приду, пусть сюда передаст. Да пускай лапши изварит с утиным потрохом, погуще.
Отрок удалился, а Ратибор подумал:
«Видать, ещё не знает Казимир, что Попович на подходе, потому и не торопится».
На стену один за другим поднимались воины в доспехах, горожане, вооружённые кто чем, становились к бойницам; К самому рву подошёл рыцарь, плащ внакидку, лицо нахальное, задрал голову, крикнул:
- Эгей, кмети, добром сказываем, отворяй ворота! Але силой возьмём и кожи ваши на сапоги выдубим! - и, захохотав довольно, погрозил кулаком.
Стоявший рядом с посадником дружинник мигом поднял лук, натянул тетиву. Стрела запела смертоносную песнь, впилась в горло рыцарю. Закачался он, поднял руку, видно хотел выдернуть стрелу, и рухнул наземь. Дружинник промолвил вполголоса:
- Не бахвалься, не храбрись попусту.
Ляшский лагерь пришёл в движение. У Казимирова шатра заиграла труба, и рыцари устремились к крепости. Раз за разом застучал таран. Со стен в осаждающих полетели стрелы, камни. Рыцари ставили лестницы, лезли на стены. На головы им лили кипяток, смолу.
- Держись, молодцы! - подбадривал червенцев Ратибор, но его голос тонул в звоне мечей, треске копий, людских криках.
Кое-где уже рубились на стенах. Туда побежали на подмогу, сталкивали рыцарей вниз. Перед посадником выросло усатое лицо ляшского воина. Ратибор не спеша поднял меч, ударил наотмашь. Рыцарь не успел отпрянуть, сорвался со стены, а на его место уже новые лезли. Всё трудней и трудней приходилось червенцам. С треском рухнули протараненные первые ворота. Победно заорали ляшские воины. Мельком успел взглянуть Ратибор по сторонам: всё больше и больше на стенах рыцарских шлемов. И чуял посадник - не выстоять его малочисленной дружине и горожанам против такого напора. Но тут; совсем нежданно, в польском стане прерывисто, тревожно заиграла труба отхода. Попятились рыцари, полезли со стен. Постепенно стихла сеча. Недомённо глянул Ратибор им вслед и тут только понял, почему отступили ляшские воины. Вдали замаячили передовые дозоры воеводы Александра Поповича. В горячке боя совсем забыл посадник об обещанной помощи. А рыцари, не дожидаясь, пока русские полки развернутся в боевой порядок, поспешно, сняв осаду, уходили от города. Но Александр Попович не стал преследовать Казимира, да и бесполезно было. Королевское воинство бежало так поспешно, что притомившиеся кони русской дружины не смогли бы догнать их.
В детстве слышал хан Боняк притчу. Далеко, так далеко, где конец земли, небо подпирают высокие горы. В тех горах жил могучий и свирепый хан ханов Ветер. Когда он злился, то сбрасывал камни под кручу, в лесах вырывал с корнями деревья, загонял зверей в берлоги, а птиц прогонял с неба.
Однажды Ветер выл и метался в горах, пока наконец не вырвался из этого каменного мешка. Ветер мчался высоко в поднебесье и неожиданно увидел красавицу Степь. В шелковистые ковыльные косы вплетён из алых маков венок, голубые глаза-васильки что вода в горном озере, а речь лилась величавой и плавной рекой.
Покорённый её красотой, угомонился Ветер, тихо опустился на зелёное ложе.
От красавицы Степи и хана ханов Ветра ведёт начало печенежский род…
Когда тонконогий гривастый скакун размашисто нёс Боняка, а позади пластались в стремительном беге кони его воинов, хан мнил себя Ветром. Он гикал, срывал с головы малахай, ловил открытым ртом воздух. Топот многих копыт и свист сабли услаждали его слух, а пролитая кровь врага горячила. Но лучшая песнь для хана Боняка - это плач невольниц, бредущих следом за ордой.
Удачлив набег, давно такого не было у печенегов. Не уследили русские дозоры, прокараулили.
В то лето, когда рыцари короля Болеслава осадили Червень и воевода князя Владимира Александр Попович торопился на подмогу к червенцам, из степи вырвалась орда Боняка, пограбила и пожгла села и деревни до самого Переяславля, а теперь, отягощённая богатой добычей, безнаказанно уходила к своим вежам.
- Э-эй, Чудин! - всполошно закричал верховой, осадив коня у самой кромки вод. И, сорвав с головы шапку, замотал ею, продолжая звать плывущего к нему паромщика. - Переправу-у, печенеги объявились!
Норовистый конёк закрутился, потянулся к воде, но верховой натянул поводья. «Верно, гонит издалека, разгорячил коня, остерегается запалить», - решил Чудин.
Старый паромщик налёг на весло, выгребал большими взмахами.
- Откуда и кто будешь? - спросил он, пристав к берегу. Рукавом рубахи отёр пот со лба.
- Из Переяславля я, челядин боярина Дробоскулы.
Парень был худой, в портах, на босу ногу и рубахе навыпуск, но на голове неизвестно почему, может впопыхах, нахлобучена зимняя шапка. Всю дорогу гнал он без седла, охлюпком, не делая долгих привалов, и устал не меньше, чем конь. Дождавшись парома, челядин соскочил наземь, завёл на переправу коня.
- Степняков-то где видели? - снова спросил Чудин.
- К Переяславлю дошли, когда Дробоскула меня к князю Владимиру послал. Орда Боняка из степи вышла.
- Боняк, - нахмурился Чудин. - Сколько он русской крови пролил! Редкое лето мирно проходит, а то, того и знай, либо сам, либо брат его иль тысячник какой озорует. Пора б князю самому в дикую степь пойти, удачи поискать, гляди, порушил бы Боняковы вежи…
Паром плавно пересекал реку, скользил незаметно по чуть приметным волнам. На той стороне Днепра по склону холма лепились избы ремесленного люда, за высокими заборами торчали крыши боярских теремов, высились на горке княжьи хоромы, звонницы церквей, золотом отливали обитые медью крепостные ворота.
Парень из-под козырька ладони рассматривал Киев.
- Любуешься? - заметил Чудин. - Я вот жизнь здесь прожил, пора привыкнуть ко всему этому, и то нет- нет да заглядишься и о переправе забудешь.
Не успел паром ткнуться в берег, как парень уже вскочил на коня, поскакал к городу…
Князю Владимиру не ко времени весть. Сесть бы самому на коня да повести дружину на Боняка, но годы не те, ко всему недужится. Опираясь на плечо отрока, он вышел на высокое крыльцо, прищурился от яркого солнца, вздохнул: «К чему есть старость? Зверю лютому, птахе небесной, всякой твари неразумной она в тягость.
Человеку же вдвойне тяжко. Тяжко собственного бессилия, нет крепости ни в руках, ни в ногах, а цепкая память напоминает о молодецких годах, будоража душу». Владимир чуть слышно шепчет:
- Было ли это?
Потом опирается о столбец, поддерживающий навес, велит отроку:
- Сыщи-ка княжича Бориса.
Отрок побежал разыскивать, а князь смотрел, глаз не спускал с двух гридней из молодшей дружины. На потеху товарищам они затеяли борьбу. Ухватили друг друга в обхват, возятся по двору, никто никого не осилит. И снова князю своя молодость припомнилась. Чего только не проделывал в те молодые годы, а нынче от горницы до порожек и то с чужой помощью добрался.
Показался сын Борис. На молодом безусом княжиче яркий кафтан, бархатная шапочка оторочена узкой соболиной лентой, сапоги красного сафьяна до колен. Лицо Кроткое. Подошёл к отцу, склонил голову, Владимир ласково смотрел на сына, Молод, душой добр и разумом не обижен. В мать Анну удался.
Почему-то мысль перескочила на другого сына, Глеба. Тот ещё моложе, совсем юн, но Владимир послал его в Муром. Пускай привыкает сидеть на княжении с детства.
- Звал меня, отец? - нарушил его думы Борис.
Владимир встрепенулся:
- Я покликал тебя, сын. От боярина Дробоскулы нерадостная весть. Боняк тайно из степи вырвался и, до самого Переяславля пожёгши села, с немалым полоном воротился в своё становище. Тебе, Борис, надобно в степь идти, сыскать печенежские вежи и тот русский полон отбить да самого Боняка проучить, чтоб наперёд неповадно ему было на Русь ходить.
Борис с поклоном выразил согласие, спросил:
- Когда выступать повелишь, отец?
- К вечеру сборы, поутру в путь, чтоб время не терять. С тобой воевода Блуд пойдёт. Он же проследит, чтоб полки в сборе были. Всё необходимое вьючными конями повезёшь: оно и подвижно, и нехлопотно.
И, немного помолчав, добавил:
- Да остерегайся, печенежская орда коварна. Без дозоров не ходи, на привалах караулы зоркие выставляй. И постарайся, сын, сыскать Боняка. Пока же иди, собирайся в дорогу.
На отшибе большого княжьего двора, в густых кустарниковых зарослях прячется старая бревенчатая изба. Поставленная ещё во времена княгини Ольги, бабки Владимира, для своей челяди, изба долгие годы пустовала, пока князь Владимир не поселил в ней опального Святополка с женой.
Изба хоть и низкая, но просторная, с полатями вдоль глухой стены и тремя заколоченными оконцами.
Смеркалось, и в избе быстро темнело. Просунув в щель руку, Святополк подёргал доску, прижался к ней лбом, тихо проговорил:
- За крепким забором держит нас Владимир.
За дверью закашлялся караульный.
- Тсс! - подняла палец Марыся. - Это его люди, они пришли убить нас.
Она испуганно забилась в угол, зажала ладошками виски.
- Нет, нет, княгиня, то к нам сторожа приставлена, - успокоил её Святополк и, Оторвавшись от окна, крикнул: - Дайте огня, почто в темени держите!
Вошёл караульный гридин, раздул трут, зажёг тусклый светильник и удалился молча. Святополк заходил по избе, потом приостановился, вспомнив вдруг, как в детстве, уединяясь от братьев, забегал в эту избу. Тогда оконца её не были забиты и дверь, сорванная с петель, валялась в кустах. Видно, по княжьему повелению навесили её и прибили запоры, а окна заколотили толстыми досками.
- Княже, княже! - прошептал кто-то в узкую оконную щель и задышал часто.
Святополк резко повернулся на зов, спросил тоже шёпотом:
- Кто это?
- Я, княже, либо не узнал, боярин Горясер.
- Что те надобно?
- Болярин Путша весть подал королю Болеславу!
- Тихо, боярин, там стража у двери, - испугался Святополк, и длинное лицо его с залысинами покрылось потом.
Горясер хихикнул:
- Ты, княже, не опасайся, страж тот за гривну глух и слеп.
- А что бояре Тальц и Еловит так долго о себе не давали знать?
- На примете они у князя Владимира, вот и остерегались. Ты, княже, надежды не теряй, и, ежли король замешкается, мы тя вызволим, дай срок. - И снова задышал тяжело, как загнанный пёс - Пойду я, а то, упаси Бог, доглядит кто.
Шаги удалились. Закашлялся караульной. Марыся вскочила, заговорила горячо:
- Отец знает, он придёт сюда, слышишь, Святополк, придёт!
Князь приблизился к ней, прижал к груди:
- Да, княгиня, он не оставит нас, и бояре нам помогут сызнова на княжение сесть.
- Послушай, Святополк, - Марыся подняла на него гневно блестевшие глаза, - станешь великим князем, не дели Русь на уделы меж братьями.
…Святополк отшатнулся, потом, не отпуская её плечи, зашептал:
- Ты мысли мои отгадала, княгиня. Сяду на княжение, изведу братьев своих, единым князем на Руси останусь!
- К отцу нам надобно бежать. Он даст тебе войско, и ты воротишься с ним на Русь.
- Да, княгиня, да, я поведу полки, на Киев!
- Так поторопи же своих бояр, Святополк, слышишь?
- Слышу, княгиня.
Он забегал по избе, заговорил быстро, лихорадочно:
- О князь Владимир, ты ещё узнаешь меня, узнаешь! И тебе не удастся убить меня так же коварно, как ты убил отца моего, князя Ярополка.
И засмеялся громко, истерично. Потом неожиданно сник, спросил удивлённо:
- Отчего же не идут бояре? Я заждался их!
Улёгся на полати, затих. Марыся присела рядом, провела кончиками пальцев по его лицу. Рука у неё горячая и голос нежный, успокаивает:
- Ты будешь великим князем, будешь…
Близилась к концу первая половина 6523-го лета… Отцвели сады, и налилась соком перезимовавшая под снегом рожь, по оврагам и перелескам буйно росла трава, а реки, вдосталь напоенные вешней талой водой, ещё не обмелели под жарким солнцем.
Сельцо Берестово избами прилепилось к холму, на котором возвышается обнесённый изгородью старый княжеский до»? с постройками. При доме не менее старый, неухоженный сад. Но князь Владимир любит это маленькое сельцо. Здесь прошло детство, Берестово напоминает ему о матери, рабыне Малуше. Княгиня Ольга сослала сюда свою ключницу за то, что она осмелилась стать женой князя Святослава.
Оттого что в жилах Владимира текла кровь раба, киевские бояре долго не хотели признавать его своим князем. Оружием он сломил их упрямство. А когда полоцкая княжна Рогнеда бросила ему дерзко: «Не хочу разуть робичича». Владимир не простил ей такого. Идя из Новгорода на Киев, он взял на щит Полоцк и, убив её отца и братьев, силой сделал Рогнеду своей женой.
Ныне в Полоцке княжит внук Рогнеды и Владимира, молодой князь Брячислав.
Приложив руку к стволу ветвистой яблони, князь Владимир разглядывал сельцо. Многие избы пришли в негодность, покосились, солома на крышах потемнела, сползла, оголив стропила.
Редко доводится бывать здесь Владимиру, недосуг, бот и дорога тоже зарастает, не видно на ней колёсного следа.
Владимир прищурился, напряг зрение.
- Кому это быть? - не поворачивая головы, спросил у стоявшего за спиной отрока. - Видишь, никак, едет кто-то!
У отрока глаза молодые, зоркие, ответил бойко:
- Не иначе возок архиерея Анастаса!
- Неужели Анастас жалует? К чему бы? Видать, неспроста, - удивился Владимир. - В таком разе неси скамьи.
Пока возок ехал, отрок притащил две скамьи.
Владимир махнул рукой:
- Теперь поди прочь.
Возок подкатил к воротам, ездовые остановили лошадей. Поддерживаемый дюжим монахом, архиерей подошёл к князю, уселся, долго отдыхал, прикрыв веки. Владимир не мешал ему. Наконец Анастас открыл глаза, тяжело вздохнул.
- Дорога-то не близкая, и мы с тобой, Анастас, не молодцы. Так чего трясся сюда, сказывай?
- Верно речёшь, князь, душа моя стареет. Стар ты, князь, и скоро ответ держать будешь перед Богом…
- А нам вместе с тобой перед ним стоять, - насмешливо перебил его Владимир и затеребил белую бороду.
Анастас недовольно встряхнул головой:
- Всяк за свои вины на Господнем суде ответчик. Не хочу, чтоб ты, князь, отягощал их.
- Чем же?
- За что Святополк муки терпит?
- Всяк своему стаду пастырь, архиерей, - оборвал Анастаса Владимир.
- Освободи безвинного Святополка, вороти в Туров. Не держи гнева, и Господь простит те твои прегрешения.
- Моим прегрешениям я первый судья. Что же до Святополка безвинного, как ты, архиерей, сказываешь, то ведомо ли те, что его тесть, Болеслав, мыслил Червень порушить?
- О том слышал, но Святополка не виню. Не по его наущению ходил Болеслав на Русь.
- Про то дознаюсь. Со Святополком же сам говорил. Злобствует он, подобно гаду ползучему, и нет у меня к нему веры.
- Без веры в ближнего как жить можно, князь Владимир? - в голосе архиерея строгость и торжественность.
Владимир не успел ответить, как в ворота въехал княжий тиун боярин Никула. Лихо соскочив с коня, кинул повод гридню, заторопился к сидевшему Владимиру.
Никула юркий, маленький, и голос тонкий, пищит, ровно комар. Отвесив поклоны Владимиру и архиерею, выпалил одним духом:
- Недобрая весть, княже, новгородцы дань платить отказались.
- Что? - гневно спросил Владимир, и седые, косматые брови сошлись на переносице. - Ведомо ли о том Ярославу?
- Вестимо, - склонил голову Никула.
- Сие и разрешило наш с тобой спор, Анастас! - Владимир порывисто поднялся, повернулся к архиерею: - Нет, не будет у меня для Святополка прощения. Вели, Никула, готовить возок, в Киев поеду, поведу рать на Новгород, пусть не мнят себя новгородцы выше Киева. - И, побледнев, покачнулся.
Гридни подскочили, не дали упасть. Осторожно повели в горницу.
К вечеру князя Владимира не стало. Жизнь покинула его быстро и легко.
В полночь гроб с телом привезли в Киев и установили в Десятинной церкви.
Боярин Горясер хоть и в летах, а всё ещё статный и красивый, прибежал, запыхавшись, к Святополку, нашумел на караульного:
- Почто князя взаперти держите! - И распахнул настежь дверь избы: - Выходи, княже, Владимир преставился!
Святополк с полатей подхватился, от радости куда речь дел ась. Стоит столбом в одних исподних портах и рубахе.
- Поспешай же, княже, боляре ждут тя! - потащил его за руку Горясер…
Затемно в Десятинную церковь народу набилось, гридни стороной держатся, бояре тоже. Пришёл и Святой полк, остановился у гроба. Лежит Владимир что живой. Свечи горят тускло, и кажется Святополку, что вот сейчас откроет Владимир глаза, глянет строго. И от такой мысли Святополка озноб пробирает. Тут ещё за спиной шепчутся:
- Вишь, как Святополк рад. Не ему мыслил князь Владимир киевский стол передать…
- Что верно, то верно, Борису он предназначался. Ин у Святополка прыти боле.
- Не прыти, а боляре ему опора.
- Не все. Кабы был здесь Борис, ино дело.
Святополк не выдержал, оглянулся, но толпа уже молчала. Скорбные лица не на него, на Владимира глядят. Резко повернувшись, Святополк, придерживая накинутый на плечи плащ, выбрался из церкви.
Светало.
У выхода князя поджидали гридни. Один из них подвёл коня, поддержал стремя. Усевшись в седло, Святополк с места взял в рысь, поскакал из города…
В Вышгороде, в хоромах Путали собрались Горясер да Тальц с Еловитом. Бояре как были с дороги в шубах и высоких собольих шапках, так, несмотря на теплынь, и расселись по лавкам, ждали, тревожились. То и дело хозяин прислушивался, наконец сказал:
- Не случилось бы чего. Гора, она примет Святополка, но не взропщет ли люд?
Сидевший напротив Еловита Тальц ответил:
- Не люда, дружины опасаюсь.
- Что верно, то верно, - поддержал его Еловит. - Воротится Борис с дружиной, тогда и люд за ним потягнет. Ко всему ежли ещё Александр Попович из Червеня прибудет, жди лиха.
Горясер отмолчался.
За разговорами прозевали приезд Святополка. Увидели его уже входившим в горницу. Святополк хмуро поздоровался, сразу же заговорил о деле:
- Мужи мои старейшие, будете ли вы мне приятели от всего сердца?
Лицо его бледно, борода редкая взлохмачена. Бояре окружили князя, заговорили разом, перебивая один другого:
- Как можешь сомненье держать в нас, княже?
- Готовы за тя и головы положить!
Святополк протянул им руки, заговорил горячо:
- Коли так, то исполните наказ мой. Ты, Путша, и вы, бояре Еловит и Тальц, не говоря никому ни слова, подите и убейте брата моего Бориса. А ты, боярин Горясер, иди со своими людьми в Муром и казни Глеба. Оттуда же воротись в землю древлян и лиши жизни брата Святослава. Не будет мне княжения, покуда живы они. А как покончу с ними, то до Ярослава и Мстислава дойду.
4
Десятые сутки петляет по степи орда Боняка. Десятые сутки висит у неё на хвосте русская дружина. Но Боняк спокоен. Иногда печенежский хан с умыслом задерживает орду, даёт время русским дозорам почти настичь себя, а потом, выждав, когда полки князя Бориса остановятся на ночлег, оторвётся и снова уйдёт далеко вперёд.
Покусывая редкую бородёнку, Боняк хихикает: «Конязь Борис щенок, лающий на луну. И воевода у него никудышный. Ничего не стоит обмануть их».
Зная, что русские будут продолжать преследование, хан Боняк велел брату Булану откочевать с вежами далеко в степь. Туда же тайно увезли добычу и угнали полон.
Сам же Боняк заманивал русскую дружину совсем в иную сторону.
На десятые сутки орда подошла к мелкой степной речке. Боняк съехал в сторону, поглядел на реку, потом перевёл взгляд на орду. И без того узкие глаза насмешливо сощурились. Он подозвал тысячника Челибея:
- Хе, надо послать урусов ловить ветер. Как думаешь?
Тысячник, по-бабьи рыхлый, безбородый печенег, не слезая с седла, отвесил поклон:
- У хана мать - лиса, отец - волк.
- Хе, - довольно потёр руки Боняк. - Вели воинам идти водой, да чтоб ни одно копыто не ступало на берег. А как солнце на локоть спустится к земле, орда направится от реки в степь.
- Я понял тебя, хан. Здесь на тот берег перейдёт лишь табун.
- Да, табунщики погонят коней, и русская дружина пойдёт по следу их копыт. Однако вели воинам взять по одному запасному коню, а табунщикам уходить с табунами, не делая привалов. Урусы не должны знать про нашу хитрость.
Орда уходила, оставляя за собой пепел костров да примятую под копытами траву. Русская дружина шла вдогон. Дни стояли сухие и жаркие. Кони притомились, исхудали. На коротких ночных привалах гридни не успевали передохнуть, спали мало, не снимая брони.
Князь Борис скакал впереди дружины, бок о бок с воеводой Блудом. Тщедушный, большеголовый старик скрипучим голосом уговаривал молодого князя:
- Понапрасну гоняемся, княже.
У Бориса ответ один:
- Как князь Владимир повелел, так тому и быть.
- Ворочаться пора, печенеги не хотят боя.
- Озлится отец, что упустили Боняка.
- А попусту степь топтать что толку?..
Сумрак пеленал степь. Редкие белёсые облака обволакивала розовая дымка. От блестевшей невдалеке ленты реки потянуло прохладой. Борис снял шлем, свежий ветер растрепал перехваченные тесьмой волосы. Заметив направившегося к ним дозорного, Борис осадил коня.
- Печенеги за реку убрались! Земля там выбита, самолично видел! - закричал ещё издали дозорный.
- Каков совет твой, воевода? - переходя на рысь, спросил Борис и поглядел на Блуда.
Тот недовольно пожал плечами:
- Как надумаешь, так тому и быть.
- Коли так, то переходим на тот берег, - сказал Борис, пуская коня в воду. - А там и роздых гридням…
Поутру, едва погасли первые звёзды, затрубил рожок. И снова весь день в седле. Блуд молчал, зорко поглядывал по сторонам, отъезжал в сторону, искал что-то в траве.
Борис не выдержал, спросил:
- Уж не потерял ли чего, воевода?
Блуд ответил сердито:
- Не я один, а с тобой, княже, вдвоём Боняка затеряли. Перехитрил нас хан.
- Это ты оттого сказываешь такое, что домой захотел, - с досадой возразил ему Борис.
Воевода поднял на молодого князя глаза, на тонких губах промелькнула злорадная улыбка.
- Я, княже, водил дружину, когда тя ещё на свете ре было. Слова же твои обидные на малолетство сношу.
Борис покраснел, но смолчал, а воевода продолжал уже иным голосом, будто и обиды никакой не было:
- Неужели не видишь, княже, что нет на нашем пути ни перегоревших костров, ни иных следов привала. Не за ордой идём, а за малым табуном… Ворочаться надобно, пока своих коней вконец не изморили.
Возвращались короткой дорогой. Не было нужды петлять по степи. Повеселели гридни: ещё два-три дня и Переяславль покажется, а там и дома, в Киеве. Лишь князь Борис сумрачный, в голове думы невесёлые, знать, плохой из него воин, коли упустил Боняка. А душой чуял: печенежские дозоры, укрываясь в высокой траве, крадутся за дружиной и хану Боняку обо всём доносят…
В полдень остановились на привал, выставили караулы. По степи запылали костры, запахло мясом - кониной. Гридни спали тут же, отодвинувшись от огня и подложив под голову седло либо свёрнутый потник.
Князю Борису разбили шатёр. Прилёг он на войлок, задремал чутко. Пробудился от говора. Поднялся, откинул полог, увидел киевских бояр Путшу с Еловитом и Тельцем, а с ними воевода Блуд. В удивлении поднял брови, хотел спросить, к чему они здесь, но не успел и рта открыть, как Путша выступил вперёд, заговорил дерзко и громко, чтоб другие слышали:
- Отец твой, князь Владимир, преставился, а брат твой старший, Святополк, великим князем сел и велел он те никуда с этого места не ходить и ждать его указа.
Борис закрыл ладонями лицо, слёзы застлали глаза, прошептал:
- Умер отец…
А Путша, сказав своё, ушёл с товарищами. С ними отправился и воевода; Князь Борис долго сидел в одиночестве. В шатёр заглянул отрок:
- Княже, Блуд мимо твоей воли дружину к Святополку уводит. Выйди, скажи слово гридням. Поведи отцовскую дружину на Киев, и она возвратит тебе великий стол.
Борис очнулся от его голоса, возразил решительно:
- Нет, не подниму я руку на старшего брата.
Молодой гридин опустил полог. Борис прислушался, шум и оживление в стане подтверждали слова отрока. Князь растерялся. Он попытался вскочить, но ноги не повиновались, закричать, но голос отказал. Степь затихала. Понял Борис, дружина покинула его, и заплакал, как не плакал уже давно, с тех пор как умерла мать.
Наступила ночь, полная тревог, сомнений. Борис долго не смыкал глаз, ворочался с боку на бок, стонал. Вошёл отрок. Князь спросил с надеждой:
- Не вернулась ли дружина?
- Нет, княже.
- Чу, - насторожился Борис и вскочил. - Слышишь?
Отрок прошептал испуганно:
- Никак, бродит кто-то. Не печенеги ли?
- Подай меч.
Отрок метнулся к оружию, но в шатёр ворвался Пут ша; следом Тальц и Еловит. Борис попятился, спросил тихо:
- Что замыслили, бояре?
Но те, выставив копья, молча приближались к нему.
- Кончаем, - прохрипел Путша и ударил Бориса.
- Убийцы окаянные! - закричал отрок.
Бояре оглянулись.
- Прикончим и его! - крикнул Еловит и вонзил в отрока копье. Тот упал.
Оттолкнул Путшу князь Борис, обливаясь кровью, выбежал в степь.
Почто стоим да смотрим? Окончим повеленное нам! - воскликнул Путша.
Обнажив мечи, Тальц с Еловитом догнали Бориса, рубили остервенело, пока Путша не остановил их:
- Будет, теперь завернём тело в шатёр да захороним, как угодно было князю Святополку.
В Переяславле и людном Киеве, в ближних сёлах и городках: Вышгороде, Василеве, Белгороде, Искоростене, на торгу ли, в церквах только и разговоров:
- Слыхал, Святополк Бориса убил!
- Братоубивец!
- Борис-то тихий был князь.
- Окаянный!
- Вестимо, окаянный!
Трудно людскую молву унять. Велел Святополк народу меды выставить, ин хуже, хмель совсем языки развязал.
В княжьих хоромах, как и при князе Владимире, что ни день, пируют от обеда и допоздна. Уже с полудня кличут горластые зазывалы гостей:
- Дружину старейшую, боярскую, князь Святополк кличет на званый обед!
Тех дважды не приглашать, торопятся в гридню, рассаживаются за дубовыми столами всяк на своём месте, как издавна повелось.
Просторная гридня украшена еловыми и сосновыми лапами, пучками полевых цветов. На полу ногам мягко от толстого слоя соломы.
Святополк сидит за столом, на помосте, рядом с Марысей, в рубахе яркой, шёлковой, от ендовы хмельного мёда раскраснелся, на высоких залысинах пот бисеринками. Княгиня тоже в нарядном сарафане, губы в довольной улыбке. Ещё бы, как оно обернулось. Совсем недавно за крепким караулом в смердовой избе Дни коротала, а ныне княжение киевское…
Вся гридня столами уставлена. Воевода Блуд уселся у самых ног княгини Марыси, туда-сюда покачивает большой головой, хихикает беспричинно.
Не терзают Блуда сомнения, и совесть душу не гложет, что бросил княжича Бориса в беде. В тот день, когда боярин Путша велел ему увести в Киев к князю Святополку дружину, он догадался, что Борису осталось Мить недолго, но не захотел стать на его сторону, переметнулся к Святополку…
За столами, поближе к княжескому помосту, один к другому жмутся бояре Путша, Еловит и Тальц, а за ними Другие бояре, тысяцкие, сотники. Шумно, весело на пиру. Едят и пьют без меры. Отроки с ног сбились, не успевают наполнять ендовы, снедь на столах менять.
Под столами собаки подняли возню, кости не поде» лили. Путша пнул ногой первую попавшуюся, собака заскулила.
За гвалтом и гомоном мало кто заметил, как в гридню вошёл запылённый воин, направился к князю, склонившись, сказал ему что-то. Святополк побледнел, стукнул кулаком по столу. Сидевшие поблизости стихли. Путша, слышавший, что сказал гридин князю, шепнул Еловиту:
- Воевода Александр не в Киев направился, в Новгород, к Ярославу.
Святополк тяжело поднялся, глаза злобные, открытым ртом воздух ловит, задыхается. Дёрнул ворот рубахи, так что с треском отлетела золотая застёжка, выкрикнул:
- Предал воевода Александр, козни творит! Я не забыл, как они меня с Владимиром обманом из Турова в Киев затащили! А Ярослав-то? Мало ему Новгорода, мою дружину переманивает… Не бывать тому! Отдам червенские города Болеславу и сестру мою Предславу ему в жены! Избью братью свою и приму власть русскую един!
В гридне тишина наступила, гости не шелохнутся. Путша торопливо поднялся, обнял Святополка за плечи, навалился рыхлым телом, усаживает, успокаивает:
- Полно, князь, печалиться, пускай его уходит воевода Александр. Всё одно не слуга он те. Был псом у, Владимира и остался таковым. Ярослав же в Новгороде сидит до поры… Скоро и Горясер заявится к те с вестью радостной…
А Еловит налил корчагу мёда, сует Святославу в руки:
- Пей, княже, пей!
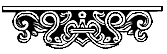
СКАЗАНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
Назад: СКАЗАНИЕ ВТОРОЕ
Дальше: СКАЗАНИЕ ПЯТОЕ

