2
От Бердибека — великому хану Золотой Орды Джанибеку:
«Получено нами письмо с известием об успехах, которые даровал Аллах ради правдивости твоей, счастья и благочестия. Да сохранит Аллах твоё величие, что завоевал ты Тавриз, убил стражей, превратил в пустыню нивы и пастбища, стёр все следы жителей, так что заставил их в конце концов смириться, искать мира, дать заложников, выдать сокровища. Восхваляю Аллаха за милость его, за добычу, какую подарил он за тебя. Считаю великой честью, оказанной тебе Аллахом, блистательный поход, который ты совершил. Мы привыкли, что ты бьёшь злодея, пока не исправится, а упрямца, пока он не станет кротким. Мы приучены, что Аллах тебе помогает, даёт тебе счастье и удачный исход. Только пришла весть о твоём великом подвиге, а я уже поджидаю следующей. Молю Аллаха даровать знамени твоему победу над многими врагами. Я наслаждаюсь подле тебя и тоскую, когда ты уходишь. Если бы ты только знал мою тоску!»
Тоску сыновнюю Джанибек узнать не успел.
«Если бы ты только знал мою тоску, то ты горделиво вознёсся бы над людьми, обитатели всей земли ничего для тебя не значили бы, ты презрительно взирал бы на них только самыми краешками глаз и говорил бы с ними лишь краешками уст».
Это почтительное письмо вынули из окоченевшей руки хана, когда привезли его тело в Сарай. Он был убит заговорщиками ночью во время привала, едва распечатав послание Бердибека... С трупом прибыли четыреста верблюдов, нагруженных драгоценностями.
Когда потрясётся земля, когда извергнет бремена свои, и человек скажет: что это с нею? В тот день она расскажет сбывшееся с ней, потому что Господь Твой откроет это ей. В тот день люди рассеянными толпами пойдут, чтобы увидеть дела свои. Тогда и тот, кто сделал зла весом на одну пылинку, увидит его, — так гласит сура Землетрясения.
Для очищения пространства и освежения воздуха Бердибек велел казнить ещё двенадцать братьев-царевичей. Сунулся было во дворец вернувшийся из Рязани Мамат-хожа, заметался, хотел бежать — догнали и заодно уж...
Бояре Вельяминовы трепетали, с подворья глаз не казали и ожидали приезда Ивана Ивановича за ярлыком, как избавления. К счастью, связи их с Мамат-хожей пока не обнаружились, не до того было татарам.
Князь великий московский и прибывший с ним митрополит встречены были любезно, но, впрочем, с некоторой холодностью. Тайдула сказала, что с достоинством, подобающим царице, перенесёт выпавшие на её долю испытания и по завету русского владыки зла ни на кого не держит и не гневается нимало. А Джанибек? Что ж, такова его судьба, он сейчас наслаждается с гуриями.
Алексий не нашёлся даже, что и ответить на этакие признания, только поскрипел остатками искрошенных зубов. Но никто не слыхал. А после получения ярлыка снял с пальца дарёное кольцо и спрятал. Но никто не заметил.
Вельяминовы явились к Ивану Ивановичу с таким видом, будто в Орду прогуляться приехали. Великий князь принял их с таким видом, будто так и думает. Сказал, что супруга его скучает о родне и без тысяцкого на Москве управляться трудно. Василий Васильевич, несколько похудевший от переживаний, порозовел, как девица перед сватами, и опустил глаза долу. Возвращаться решили вместе, пока реки не вскрылись. Начали уж готовить каптаны — повозки на санных полозьях, как вдруг как на смех, на грех в самое то время нагрянул в Сарай, перемежая жалобы с бранью, Всеволод Холмский. Добирался он долго, через Литву, потому как Иван Иванович его через свои земли не пропустил. Ничего не зная, ничего не разведав, кинулся искать управу на дядю своего Василия Кашинского, вместо даров имел только нетерпение и брюзжание, чем очень раздражил Тайдулу, а Бердибек был раздражён всегда, с самого детства, имея за то прозвание бешеного. Неудачник Всеволод с лицом опухлым и обвисшим у всех вызывал какое-то недоброжелательное недоумение и тут же был выдан посланцам Василия Кашинского, и было Всеволоду от дяди томление великое, тако же и боярам его, и слугам, продажа и грабление на них, и чёрным людям продажа велика. От такой несправедливости епископ тверской даже хотел уйти из епархии, но митрополит Алексий поучал его, чтоб терпел, и в утешение дал серебреца из собственной казны, чтоб заказать двери медные храмовые.
Иван Иванович остался ко всему этому бесчувствен; стремления тайные и грешные влекли его в Москву — ехать хотел как только можно быстрее.
Через два года Бердибек был убит сыном своим Кулпою, Кулпа же через пять месяцев убит был Наврусом и так далее — в те времена убивали легко. Как, впрочем, и в иные времена. Около власти убивали всегда Легко.
Глава сорок первая
1
Она так подкидывала бёдрами, так стукала задом о постель, будто цепом молотила. Гнилая перина треснула, из дыры полезли перья, взлетая от мощных толчков. Он засмеялся и упустил свою мужскую силу, не достигнув того, для чего старался.
— Ты что? — спросила она. — Сгорел? А я токо разошлась. Дай-кось я тебя сама.
Она залезла на него верхом, часто запрыгала, зажмурив глаза. Но усилия её оказались тщетными. Тогда она встала на четвереньки, положив грудь Ивану на бороду, зашлелала старательно чревом рыхлым.
— Эх, какой бой у нас идёт, — сказал Иван. — Не души мен» титьками.
— Пока своё не получу, не слезу!
— Шаловливая ты! — одобрил он, ощущая, что сейчас она добьётся, чего хочет. — Упорная ты в этаком деле, игрунья!
Навалившаяся тяжесть её тела, запах пота из подмышек и промеж грудей, едкий дух её лона порабощали и возбуждали. Когда она раскинулась, засыпая в счастливой усталости, он сел и оглядел её наготу: складчатую сдобу стана, открытый рот, полный мелких мышиных зубов, большие тёмные окружья сосков. Пупок с выщелкой посередине был грязен. Иван всунул в него палец. Она готовно колыхнулась, разваливая ноги. Удивила природная чернота её ляжек с поблескивающей на них скользкой любовной влагой. «Вот это бабу я осилил, — подумал он с гордостью. — Такой поединок выдержать, это не последним мужиком надо быть».
— Никуды ты теперя от меня не денесси, — пробормотала она, не открывая глаз, и с подвывом зевнула. — Ложися сызнова на меня!
Мало погодя задышала, разжигаясь, схватилась руками за груди, задвигала ими из стороны в сторону, разлепила узенькие горячие глазки:
— А ты шибче, шибче! Цалуй везде! Прям для меня ты соделанный!
Умаяв друг друга, так и уснули, провалившись в перья разбитой и размятой перины.
— Новую куплю, — пообещал благодарный Иван.
— Чаво велю, таво купишь, — по-хозяйски, довольно сказала Макридка.
2
— Братец, ты, как тысяцкий, всё знаешь. Куда он ходит?
Василий Васильевич помялся, но щадить сестру не стал:
— Да есть одна избушка, за базаром, возле мотыльницы.
— Больно гожая, что ль? — побелела Шура.
— Да ну... злообразна баба, сисята, нравом буята. Всякий имает её, кто похочет.
— Буйна и сисята?
— Персиста, — потупился тысяцкий.
— Убить, что ль, суку? Может, легче станет, — раздумчиво произнесла Шура.
— Да ну... мараться-то! От Хвоста ещё не отмылись, а ты меня на этакое нудишь.
— Ладно. Я сама подумаю.
Мала всякая злоба противу злобы женской. Случалось, ночи напролёт ходила великая княгиня по горнице, стиснув руки, а в мыслях всё одно: да не скорбь на скорбь прииму, отыди от меня, сатана!.. Отвращуся от вас! Не постыдитесь и возможете при мне тако же глаголати, яко без меня? Так же взглядами друг к другу устремляться и улыбками уста растягивать? Нету на вас благословения Божьего, любодеи похотные!
Что творится с великой княгиней, видела и понимала во всём дворце одна только Марья тверская. Ранняя седина уже прокралась в её волосы, и чёрный плат прежняя красавица носила, не снимая, пятый год. Неужели это её прозвали когда-то сизоворонкой? Но за вдовьей тихостью её поведения, походки и взгляда скрывалась душевная твёрдость и независимость женщины, которой до конца дней предстоит самой обустраивать свою жизнь, самой заботиться о себе. Когда вернулся князь Иван из Орды с ярлыком и опять стал пропадать с гулящей Макридкой, Шура совсем сникла, мало появлялась на людях, исчезли её весёлая приветливость и благорасположение. Только одна Мария Александровна смела наведываться к ней. Говорила резко, как о деле всем известном:
— Низкая страсть бесчестит! Никогда Иван не сможет поднять бабу с базара до княжеского достоинства, но сам падёт с нею во мразь!
— Да пусть его! — вдруг сказала Шура. — Грязнящийся пусть грязнится ещё!
— Не за то будем наказаны, что грешили по немощи своей, но за то, что не каялись, не отвращались злого пути, имея время на покаяние, — возразила Мария Александровна.
— Любовь и смирение — мои главные ходатаи перед Богом.
— Жизнь так недолга, Шура! Почему ты Ивану ничего сказать не можешь? Почему молчишь?
— Молчу, потому что Тот, Кого люблю и слушаюсь, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его.
— Не потому ли, что просто боишься мужа?
— Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, — продолжала, как в забытьи, великая княгиня. — Да, боюсь отвечать злом на зло. Если соединим два зла, то родится новое, сильнейшее противу прежнего.
Но это Шура только говорила, а в душе у неё была смута: и возле прудов она бродила, будто гуляючи, и к матицам приглядывалась, где ловчее вервие укрепить, и о знахарях, ядовитые травки ведающих, думала, — всякие были искушения, но ни на что не решилась, ни один способ не избрала.
Не раз приступала к Ивану:
— Перестань, молю тебя, лада, перестань!
— Что перестать-то? Как тебе не надоело? Опять начинаешь?
— Не перестанешь, попомнишь ты, Иван Иванович, этот час и мои слова.
— Опять грозишься? Как татарская плеть сечёшь меня! Да ты ногтя этой бабы не стоишь. Гугнишь тут в соплях вся!
Она вскинула на мужа неожиданно спокойные глаза, спросила с любопытством усмешливым:
— Даже ногтя?
— Даже ногтя! — упрямо подтвердил Иван, сознавая, что говорит зря, но не желая остановиться, — Ты посмотри на себя! Куча! Ни стати, ни повадки. Изо рта пахнет. Ходишь целый день растелешённая, неубранная. Глаза, как у рыбы, тусклые. Ещё чего-то хочет, лк)6ови какой-то!
— Опомнись, Иван! Тебя холопка баяниями лукавыми уловляет.
— Да от неё огонь в жилах прыскает! Резвая, озорная, как кобылка. А ты? Бревно бревном. Холодная и тяжёлая. Чего ты от меня добиваешься?
— Правды.
— Какой тебе ещё правды? Я сам её не знаю.
— У тебя много самолюбия, но совсем нет достоинства, — грустно сказала жена. — И не переменишься. Ты и не добр вовсе, как о тебе думают.
— Почему это я не добр? Всем добр, одной тебе не добр.
— Ты меня уязвить хочешь? Ты не властен более надо мной. Моя зависимость от тебя кончилась.
— Как это кончилась? Нас Бог соединил!
— Я о сердце говорю, о душе. В ней нет тебе больше места.
— Убью! — вскочил он, исказивши лицо.
— Убей! — холодно усмехнулась Александра. — Может, мне того и хочется, кобелёк ты мой угодливый. Всем гож, всем люб, всем желанен. Только вослед тебе проклятья и течи слёзные, но не светлая память благодарная и тихая. От беса прельщение тебе дано. Берегись, Иван! Бегаешь, кобелина угорелая, там лизнёшь, там понюхаешь!
— Но-но! — грозно сказал Иван и гордо повёл медовыми глазами. — Касаемо кобелины затихни. А то вдарю взаушь, слух и память отшибёт. Станешь как трава безмысленна. Скотина ты!
— Лукав ты, и отец твой — сатана! Ино у тебя на сердце, ино на устах, а ино в уме содержишь.
Прекрасна была игра солнечных пятен и теней листвы на его брусничном, сочного цвета плаще. Прекрасно было и ненавистно лицо мужа с потемневшими глазами, столь знакомое и чужое. Жить не хотелось, и смерть призывать было страшно. Мести не желала, наказания — тоже, сжигала себя в бессильной ярости: неужели таков закон мира Божьего, зачем Он сатане попускает? Отец греха творение Божье порабощает, зрение внутреннее в обман вводит, оправдания лукавые нашёптывает. Иван говорит, то, мол, природа человеческая. Но почему она, Богом сотворённая, не в согласии с Его установлениями?
— Ну, что замолкла? Продолжай! — Победительная насмешка звучала в голосе Ивана.
— Что могу сказать ещё? — устало произнесла княгиня, — Выковыривать тебя из блядей больше не буду. Обычаем мне предписано терпение, такова доля моя.
— То доля всех баб: и княгинь и простых! — заносчиво прервал он.
— У простых-то воли больше!
— Да пошла ты со своей волей! — вскрикнул он. — Тебе воли другое не даёт. Того света боишься. А на этом свете меня со света сживаешь. Вздохнуть не даёшь без укоризны твоей.
Он прошёлся, сминая траву, полыхая плащом в лужайках света. Тронул бородку пальцами:
— Мой тебе совет — замолчи! Ой, замолчи, Александра!
Она выпрямилась, обняв сзади руками берёзу, прислонилась к ней спиной. Нежная кожа просвечивала на плечах сквозь тонкую рубаху, ворот, вышитый голубыми васильками, трепетал от дыхания, вдоль побледневшего лица качались матовые жемчужины.
Иван смягчился. Хотелось думать, что всё из-за жениного норова, из-за непокорства вельяминовского... Воли ей всё какой-то надо! Живи себе да радуйся. Нет, всё печаль да укор в глазах. Кислая закваска обречённых страдать и любящих мучениками казаться. Мутный гнев поднимался в нём, но он пересилил себя, приблизился, снял пальцами слёзы, крупно заблестевшие у неё на щеках.
— Ну что, душа моя? Что мне сделать, чтоб ты успокоилась? Я ли тебя не холил, не тешил? Что тебе ещё?
— Знаю, что мне надо смириться, — с трудом прошептала она. — Но смириться — значит продолжать жить во лжи и притворстве, твоё двоелюбие принимая и оправдывая... Не могу!
— Какое двоелюбие? О чём мы говорим, подумай!
— О том, чтоб жить по-христиански!
— Ну, вот гляди мне в глаза! Отныне мы всё заканчиваем и забываем. И чтоб никогда больше не повторилось!
— А на тебя птичка какнула! — вдруг сказала Александра буднично.
— Где?
— Вон на плече.
Он засмеялся:
— Вот и наказан я невинною пташкою. Ну, улыбнись же на моё позорище! Князь — в говне.
Она слабо усмехнулась сквозь новые слёзы. Он обнял её, гладил голову, плечи, любя опять её слабость женскую, недомыслие, покорно возвращающуюся доверчивость. Светился воздух под берёзами, мягко таяли вдали изумрудные зеленя, пташки пересвистывались в ветвях — сладко было, весело, тяжесть уходила. «Хорошая моя, — думал Иван, лаская жену, — за что я её мучаю? Пойти к попу, покаяться и бросить толстоморденькую, присосалась, зудит, как клоп под хреном...» Не чаял князь в тишине примирения, сколь мрачный умысел посетил в это время не вин нута душу Александры.
Она выбрала старый истончившийся нож, вострила его о камень одинокими ночами, днём прятала в искусенке — коробке для украшений — под грудой перстней и ожерелий, сама стала улыбчива, спокойна и приветлива, ночи же посвящала мести. А молиться перестала. Наконец камень тот забросила в пруд, отломала ручку от лезвия, тоже бросила в воду, а лезвие воткнула в щель старой, потемневшей от времени лавки, стоявшей в переднем покойце. Там любил Иван сиживать перед сном, квасом мятным углушая жажду после бражничанья. Отошла, посмотрела — совсем незаметно лезвие в угловом полусумраке, сливается цветом с досками. Думала, пусть придёт, ввалится прямо на нож яйцами.
...Он придёт грузен до беспамятства, уронив ковш, падёт вниз лицом на скамью и, коротко захрипев, подёргается недолго: лезвие точно и глубоко войдёт в любвеобильное сердце Ивана.
В горе великом непритворном и в ужасе призовёт Александра Васильевна сейчас же бояр, зажжёт свечи, Ивана с трудом поворотят на спину, кровь почему-то совсем не выйдет. Ахнут бояре: несчастная случайность!.. Но один скажет: так на роду написано, видно, жила сердечная лопнула, хмелен был непомерно. И все согласятся: знамо, жила, знамо, хмель в жару сверх сил человеческих утруждает. Так и слугам и вельможам сообщат наутро и предъявят великого князя, уже обмытого и обряженного, с расчёсанной бородой, ещё влажной, положенного под образами в алых лучах восхода. Все горевать будут искренне и много об Иване Красном, Кротком и Милостивом, во цвете лет душой ко Господу изошедшем. Вдова, вестимо, уйдёт в монастырь по обычаю, снесёт в глухую обитель северную ещё одну страшную тайну души своей загубленной, ещё одну из многих, по келиям толстостенным холодным, под чёрными одеждами захороненных.
Ах, мечтания злые, ночные, одинокие!..
3
— Ты занят, отец? — Иван, пригнув голову, входил в сводчатую камору, куда Акинф переселился на лето, прохлады и уединения ради.
— Да вот грамотку некую перебелил, жду, когда краска в бумагу вомрет.
— Сколько их у тебя! — сказал Иван, оглядывая лавку, уставленную книгами.
— Я богат! — расцвёл Акинф, показывая охоту просветить по случаю князя, и уже протянул было руку достать какие-либо поучительные сочинения, но Иван Иванович остановил его мановением и взглядом повелительно-колючим. Сел, нога на ногу, молчал, был собою сумрачен.
Багряные глаза сон-травы с жёлтыми зрачками заглядывали в низкое оконце. Распевала где-то в зелени малиновка.
— Что ж, молви, зачем пришёл? — сказал Акинф, соскучившись ждать и желая остаться один со своими книгами.
— Буря меня волнует греховная, борение дьяволово.
— Опять? — Досада изобразилась в лице Акинфа. — Смирять себя надо. Сколько разов уж я тебе говорил?
— Так грешен, что на небо и глаз поднять не смею, так повинен, что и мысленно молиться не дерзаю. Страдаю я, батюшка. Ты меня с детства знаешь. Помоги мне.
— Думаю, что первое заблуждение человеков, в какое впадаем, что каждый своё страдание превыше чужого ставит и почитает непереносимым. Мы, конечно, сочувствуем другим-то, но умозрительно, Ваня, умозрительно!.. А что княгиня твоя?
— Жестока, яко ад, ревность, — потупился Иван.
— Женитьба закон Божий есть, а блуд беззаконие проклятое, — сказал Акинф сурово. Не хотелось ему вразумлять князя, стыдно было, но по долгу духовного наставления приходилось быть неотступным в исследовании греха. От неготовности и внутреннего стеснения Акинф даже сделался грубым, что обычно ему было несвойственно. — Я тебя грамоте учил, а теперь вот приходится такие слова... про сосуд дьявольский и прочее. Сладка, что ль, больно?
— Охочлива, — шёпотом признался Иван.
— Всегда в готовности ляжки развалить?
— Жаждает и просит.
Акинф хотел было сказать про глаз соблазняющий, который надо вырвать, а перст отрубить, но от возмущения сказал другое:
— Хуже сучки!
— Пускай! — тихо уронил Иван. — А ты женщин ненавидишь.
— Да как ты смеешь отцу духовному возражать? — открыто осерчал Акинф.
— Я к тебе как больной пришёл за советом, а получил лаяние, как у площадного подьячего.
— Не лаяние, а обличение греха ты получил, — поправил Акинф с задрожавшим от обиды лицом. — А ты ждал, я тебя по макушке гладить буду и слух твой ублажати?
Князь вскочил:
— Да, ждал! Чтоб приласкал и простил! Может, я всю жизнь только этого и хотел, чёрствый ты, попина! — И злые слёзы заблестели, не проливаясь, у него на глазах.
Глава сорок вторая
1
Ночь на Ивана Купалу была звёздной, голосистой, таинственной. В небе стояли редкие огнезарные облака, светлые и причудливые. Ещё дотлевала тёмно-изумрудная полоса заката, а на другом краю земли уже приоткрылась малиновая щель зари. В прозрачных сумерках горели костры по берегам Москвы, Неглинки, Яузы, дымно пылали на длинных шестах пропитанные смолой и салом пучки пеньки, с которыми кто-то бегал по кустам и в лугах. Медленно плыли по серебряной воде цветочные венки, покачивались отражения пущенных по течению зажжённых свечек. Обманная ночь, в блесках, отблесках, колдовская ночь! Недаром говорят, огню да воде не верь. Вся полна перекликающимися голосами, песнями, лукавая, пьяная, чародейская ночь!.. На крышах банек — убежищах нечистой силы — сидели девки и звонко закликали:
Вы катитесь, ведьмы,
За мхи, за болоты,
За гнилые колоды,
Где люди не бают,
Собаки не лают,
Куры не поют —
Вам там и место.
На сельских выгонах и по улицам московским шли плясания стыдные, неслись крики нестройные, девки поснимали пояса-обереги честные. Иные и власы непокрытые распустили до самых лядвий, голосили, себя позабывши, вихляя непотребно плечьми и задами. Иные, ноги заголив выше колен, через костры скакали, попадая пятками в горящие уголья. Все как будто что-то искали, кого-то звали, чего-то желали невозможного, не доискивались и лишь неистовели от этого. Безумная ночь! Ночь вседозволенности, залог приплода мартовского. Сминали сочные травы, качали верхушки укромных кустов, полосовали на бабах рубахи в разгуле ярости любовной, ловили молодиц любопытных, дрожащих грудями и жаждущих спытать всё, что можно спытать в такую ночь. Запахи воды и дыма, раздавленной листвы, треск огня, смелый соловьиный чок кружили головы, лишали памяти и страха, как будто это последняя в жизни ночь. И все как бы чего-то ждали, ворожили по искрам, перебегающим на пепле костров... Кому дано знать, ведь может быть, в самом деле это последняя такая ночь?..
Иван стоял на вислых открытых сенях в верху терема, поворачивал на пальце перстень, млечной голубизны опал с растворенными в мутной его глубине кровавыми пронизками, и думал, что прошла молодость. Целовала-голубила, уста в уста — и вомрет... Но не с огнём к пожару соваться. Пыльный привкус сухих волос, нос приплюснутый и навязчивый взгляд собачий — не было ничего роднее и недоступнее сейчас. Грубую речь и грубый голос Макридки больше всего хотел бы теперь услышать Иван. Чтоб легла рядом, смежив и уронив набок голые груди, завела толстую коленку на княжеские чресла и цепкими ладошками облазила везде. Да, такая всюду за тобой пойдёт, куда ни кликни, всегда за тобой пойдёт: и в пир, и в мир, в поход или в изгон. Неприхотлива, не изнежена. Требовательна только в одном, чтоб всю ночь не отлепляться друг от друга, настойчива только в том, чтоб снова и снова будить мужское семя, желая всё его выпить лоном своим, чтоб никому больше не досталось. «Хоть бы понесла, — думал иногда Иван, — может, яри у ней поубавится». Но бесплодная была Макридка, ещё в детстве испорченная турком-хозяином. Нам нужно чаще, чаще, убеждала она, и подольше, а то когда разных меняешь, не закрепляется дитя. А я те рожу, вот увидишь!.. Осчастливить хотела. Но её простодушие трогало. Никогда не спрашивала, придёт ли он ещё: а разве могло бьггь иначе? Ни о чём не просила: только бы глядеть на тебяJ Знал он, что значит глядеть! Она понятна, как яйцо куриное.
Иван был один. Шура запёрлась с детьми в дальних покоях, слуги, кто не ушёл на гулянье, спали но причине душной ночной истомы на сеновалах и в холодных пристройках.
Ночь была на исходе. Затихали песни. Золотые брызги тучами взлетали из костров от разбиваемых головней. Их старательно затаптывали, опасаясь пожаров. Сизые дымы ползли в лугах, перебирались через реку, растворялись в воздухе горьким туманом, как незримые следы бесовских забав.
Вдруг Иван понял, что происходит. Это чувство монахи называют богооставленностью. Бог оставил меня, и я во зле, оттого тоска и мертвение души. Жаждешь утешения, просишь ласки у людей: у тупой бабы, у попика, в книги зарывшегося, у собственной жены страдающей — не имея ласки и милости Божьей. Тогда безмерно и неутолимо твоё одиночество. Великий ли ты князь иль последний смерд, безысходна твоя затерянность в мире, куда ты пришёл, а мир не имеет надобности в тебе: мог бы и не приходить, ничего бы не случилось, никто бы не заметил, что ты здесь не побывал.
— О, люто мне, Господи! — воскликнул Иван. — Удали меня от пути лжи! Умствую не по разуму и в соблазне лукавства мысленного нахожусь. Защити и наставь меня, Богородица, Мати Пречистая! Прими под руку Свою и пошли мне прощение!
Он прилёг и продолжал слушать звуки, доносящиеся снаружи. Усталые возбуждённые голоса расходившихся с гулянья почему-то показались стонами. Иногда сипло вспискивала сопелка или хриплая дудка. А соловьи под окнами булькали, клыкали, стукотали, пускали свист. Умолкнув, выжидали — и вдруг все вместе раскатывали дробно и гулко. А кто-то подпускал поверху сладчайшее пленьканье. Воробьи же то ли спали ещё, то ли почтительно слушали. Иван вытер глаза, свернулся калачиком, как бывало в детстве. Небо порозовело и облило тонким светом белостенный Успенский собор. Стало наконец тихо, всё вокруг вымерло.
Вдруг двери храма отворились, и вышли четверо в чёрных мантиях и клобуках. Лица их были закрыты намётками — монашескими покрывалами. Под ногами у них трепетали и обвивали колени огненные языки, по которым эти четверо как бы плыли, скользили без усилий. Один обогнал остальных и шёл впереди по площади, и походка его была необыкновенна легка, бесплотна. Склонив голову к плечу, он приоткрыл лицо. Оно было исполнено сияния без лучей, света золотистого внутреннего, не слепящего, но трудно переносимого для глаз света в чёрной оправе.
Иван напряг зрение и увидел лицо второго, очень знакомое лицо, не удлинённое, как его обычно пишут, а скуластое, в круглоту, усы и борода негусты, а сам лик смуглый. Это узнавание потрясло Ивана. Он боялся признаться себе, кто это... А почему бы Ему не быть смуглым? Ведь он столько ходил по дорогам Палестины и Иудеи под солнцем и ветрами!
И третий отодвинул покрывало, открыв лишь один глаз, глядящий в самую душу, чёрный, с точкой света в зрачке. Ох, этот глаз!
А четвёртый так и прошёл мимо, не отнимая намётки от лица. Иван повернулся за ним в растерянности и увидел, что никого уже нет, только что-то невесомо обняло его, и снизошёл никогда не испытанный ранее, не изречённый покой.
...Иван вздохнул протяжно и потянулся. Митя сидел у него на постели, держал лицо отца в ладонях и клевал его мягким носиком в нос.
— A-а, заинька-ковыляинька? — сонно сказал Иван, лаская сына. — Пошто так рано поднялся? Ты ещё неумоя?
— И умылся, и помолился даже, — сообщил Митя. — А матушка меня гребнем причесала.
«Господи, благодарю Тебя за вразумление, — быстро подумал Иван, — благодарю, что показал Ты мне истинное счастье моё!»
— Мы с тобой, Митя, нынче к батюшке Сергию пойдём на Маковец. Я так решил.
— Пач-чему? — спросил Митя, продолжая стукать отца носиком. — А он добрый? Мы с дружиной пойдём? — Ему явно хотелось с дружиной.
— Это не такой монастырь, чтоб со свитой и охраной туда вваливаться. Вдвоём пойдём.
— Ну, пойдём, — согласился Митя, несколько разочаровавшись. — А мы лесом пойдём?
— Лесом.
— Тёмным?
— Тёмным-претёмным. И заночуем в лесу. Аль ты боишься?
— С тобой-то? — ответил Митя храбро.
2
Только успел Иван Иванович распорядиться о сборах, как ему доложили:
— Монашек какой-то тебя спрашивает.
В горнице, заложив руки за спину и задрав голову, стоял... Восхищенный.
— Ты чего тут нюхаешь? Как ты пролез-то сюда? — разгневался великий князь.
— А вот любуюсь... Как потолок-то лепо расписан: и солнце, и звёзды, и травки.
— Зачем пожаловал? — угрюмо настаивал князь.
— Как это? — удивился Восхищенный. — Разве ты меня не звал, не посылал за мной?
— Да на кой ты мне нужен? Только злишь меня.
— Ну, уж я даже не знаю... — растерянно бормотал монах. — А мне сказали...
Уперев руку в бок, Иван Иванович нетерпеливо постукивал носком сапога:
— Ты отвяжешься от меня когда-нибудь?
— А разве ты... не едешь? — неуверенно спросил Восхищенный, переминаясь.
— Тебе-то что?
— Ну, вот и я с тобой! — обрадовался монах. — Я же знал!.. Знал я!..
— Что знал-то? — уже со злобой спросил князь.
— Что призовёшь меня, как к Сергию отправляться. Мы должны туда вместе...
— Пошто?
— Ну, возьми, а? — робко попросил монах. — Мне одному не дойти. Охромел, вишь, я. — Он проковылял по горнице, показывая, что в самом деле охромел. — Куда я такой гожусь? Ступни, в мокрети всегдашней пребывая, распухли вовсе и горят, ночами не сплю в стенаниях. Ну, возьми с собой в последний раз! Тебя убогий просит! Князь, а-а?
— Ну, иди! — пересилил себя Иван.
Расписная новая телега, обитая изнутри лубом, хорошо пахла свежим деревом. Восхищенный хотел, чтоб в неё наклали накошенной травы, но дядька княжича Иван Михайлович велел положить подушки, а сверху ковёр, чтоб дитяти было удобно, а от запаха молодой травы голова заболит. Запрягли гусем три лошади. На переднюю сел верхом Чиж. Ухабничим взяли могучего дружинника Дрюцького. Восхищенный и в самом деле был плох. Ухабничий еле взгромоздил его в телегу, перекрывая его оханья бранью. Для Ивана Михайловича путь в шестьдесят вёрст тоже был тяжеловат, но ради благословения преподобного Сергия он и виду не показывал.
Лошади побежали споро, и дорога стелилась хорошая, без ухабов, так что Дрюцькой сидел без дела.
На душе у великого князя было легко. Он и сам не знал, чего ждёт от этой поездки, просто сердце велело. Хоть раз в жизни послушаться собственного сердца, а не чужих советов. Проплывали по сторонам лоскуты и заплаты полей, все зелёные, а у каждого поля всё-таки свой цвет. Лишь вдали, у окоёма, зеленина сливалась в серебристой, жемчужной дымке.
— Какой день-то красный! — радовался Восхищенный. — Как раз на Петры и Павлы в обитель поспеем.
— Ты помалкивай, — велел князь, чтобы он не разговорился.
— Я и так, — робко поспешил согласиться монах.
Иван Иванович задрёмывал и слышал сквозь дрёму, как дядька рассказывает Мите сказку:
— Сидят же птицы на деревах тех, различны имея одежды: у иных, говорят, перия, как злато, у других багряно, у иных червлёно, а у других сине и зелено.
— Почему? — спросил Митя.
— Так Бог их устроил.
— А зачем?
— Себе и людям в радость.
— А откуда у петухов пение?
— Как откуда? Из горла.
— Было яйцо, стал петух в перьях и поёт. Откуда это взялось?
— Я тебе не про петухов говорил. То птицы дальние, заморские.
— Почему?
Так они могли бесконечно. У Мити всегда на языке почему да зачем. Но и он скоро сморился, уснул, положив голову дядьке на грудь. Тот сидел, боясь пошевелиться, только улыбкой давая понять Ивану Ивановичу, как затекли у него руки держать тяжёленького княжича.
Иван вспомнил, как ехал с отцом и Феогностом в Солхат, как был счастлив и какое горе приключилось по возвращении — кончина маменьки. Он редко теперь думал о ней. «Закажу в монастыре панихиду, по всем, по всем, кого я любил».
Митя скоро пробудился со вспотевшими висками и сообщил дядьке, что Владимир Серпуховской и Иван Малый оставлены дома, потому что ещё годами не вышли, а он, Митя, хочет сикать. Остановились, пошли в орешник, а Восхищенный помочился прямо с телеги. Дорога его совсем разбила. Митя потребовал, чтобы дядька нарвал ему лещины, но Иван Михайлович отказал:
— Орех пока ещё в зелёных штанах, не поспел, рано.
— Почему в штанах? Тогда давай яблочка.
И яблочко дядька отверг:
— Зубам будет оскомина.
Митя обиделся и глядеть на дядьку больше не хотел.
Иван Иванович порылся в припасах и достал всем по финику, а Мите — целую горсть. Ухабничий, усмехнувшись, отказался, остальные бережно ели редкое лакомство, косточку же продолговатую каждый сохранил на память. Только Митя их беззаботно выплёвывал, предварительно хорошенько обсосав.
К вечеру поужинали захваченной из дому варёной фасолью, Дрюцькой её на костре погрел в горшке, а Восхищенный поел ещё мочёной чечевицы. Спали все крепко. Митя — с отцом, обняв его за шею.
На другой день поднялись на заре, а ополдень были уже в половине пути. Небольшое круглое озеро притаилось в лесу, тёмное от нависающих вётел, а посередине сияющее светом отражённого неба. Митя тут же возжелал купаться. Чиж с Дрюцьким стреножили лошадей, пустили покормиться, разостлали попону для трапезы. Восхищенный не вылезал из телеги, но за всем наблюдал.
— А скатерть где для князя? — вопросил он.
— Не твоё дело! Забыл! — огрызнулся Чиж.
— Неугодник ты какой стал! — попрекнул его Иван Иванович.
— Тебе рази угодишь? — проворчал слуга. После гибели брата-близнеца он стал всегда мрачен, неповоротлив и сед, как будто жизнь ушла и из него самого, как будто он в тридцать лет уже состарился.
— Обныряй-ка озеро-то! Княжич купнуться хочет. В тихой воде омуты глубоки бывают.
Чиж неохотно полез, показал Мите, до каких пор заходить, чтоб дна доставать.
— Да я лучше вас всех плаваю1. — закричал Митя, голеньким кидаясь в воду, нырнул, замелькал в прозрачной глубине, как белая узкая рыбка, вынырнул с торжествующим воплем: — Дядька, давай наперегонки!
Иван Михайлович только головой осуждающе качал. С возрастом осторожлив он стал и во всём за княжича боялся.
Митя выскочил из озера дрожащий и свежий, пожалел неподвижного в телеге Восхищенного:
— Дрюцькой, вытащи монашка-то на траву.
Ухабничий посадил Восхищенного на закорки и снёс на попону, отчего в сторону Мити последовали многократные пожелания Господнего спасения. Иван Михайлович напоил страдальца травным отваром, приготовленным на костре, после чего тот развалился на попоне, на подложенных под него подушках.
— Добрый ты всё-таки, князь! — наконец удостоил он похвалы Ивана Ивановича.
Даже если и немил тебе человек, стоит только начать о нём заботиться, помогать ему, как возникает сочувствие к нему и ответственность за него. Иван Иванович сам не заметил, как испарилась его неприязнь; а теперь он досадовал и корил себя, что раньше не помог больному побирушке: ни ряску ему не послал, ни боты с валяными чулками, вообще забыл о нём на пять лет... А вот про новые сапоги жене не забыл. Нищий не клыхтает, голос не подаёт.
Митя принёс Восхищенному свой новый саадык показать.
— Ай-ай-ай, какой лук! — одобрил монах, всё осматривая в подробностях. — Какое налучье! Бархат черевчат, поволочен и коймы набиты серебряны, а? И стрелы в колчане, гляди-ка! Теперь ты при оружии, княжич. Хоть в поход иди! Батюшка подарил, да? Батюшка у тебя щедрый!
Митя стрелял во все стороны. Чиж, ухабничий и дядька отыскивали и приносили стрелы. Княжич с горделивым вопросом оглядывался на отца, если стрела вонзалась в дерево, ждал одобрения. Но Иван Иванович молчал.
— Князь, а князь? — осторожно начал Восхищенный. — Говорят, ты грамотным людям и купленным свободу обещал в своей духовной? Идите, мол, куда кому любо. Так ли?
Иван довольно улыбнулся:
— Кто сказал?
— Поп Акинф и Нестерко тож.
— А ещё что говорили?
— Ничего. Только радуются все и хвалят тебя.
— Неужто? В кои разы хвалят.
— Отблагодарим, говорят.
— Чем же?
— Найдём как... В Свод, мол, хвалу об нём занесём. Прокопию с Мелентием скажем, одно только добро спомянут, историки-то наши.
— Ну вот, значит, и я сподоблюсь? А может, я этих списателей ещё переживу?
Восхищенный потупился:
— Без разуму болтнул. Не серчай уж.
— А ты сам-то грамотен ли?
— Я грамоте хорошо обучен, хотя и не писец. А иные монахи и псалмы-то знают только с голоса.
— И у Сергия такие есть?
— А чего же? Там просто всё. Боярин ли, холоп, архимандрит ты был — без разницы. Все живут в равенстве, без кичения и предпочтений.
— Иван Михайлович, хватит тебе за стрелами бегать! Принеси-ка из моей укладки, бумага там есть да перо с чернилами, — распорядился князь. — А ты, Дрюцькой, сними с телеги сиденье переднее да вот на пень положь. — Требуемое было исполнено. — А теперь отойдите подале, мне подумать надо.
— И мне уйти? — Восхищенный попытался приподняться, что далось ему с большим трудом и видимой мукой.
— А ты бери перо да изобрази вот тут вверху крест.
— Понял, князь, понял! — заторопился Восхищенный. — Поминальную хочешь написать?
Но, увы, перо в его распухших пальцах еле держалось, и крест получился кривой и корявый.
— Да у тебя и на руках-то мослы не годятся! — с досадой заметил Иван Иванович.
— Это пройдёт, — оправдывался монах. — Вот жары настанут, и мне легче будет. Прогреюсь — и будет легче. Сколько уж раз так бывало.
— Батюшка, а можно мне? — от волнения робко попросил Митя. — Я ведь тоже умею. Дозволишь?
— Отколь ты умеешь? Только бумагу спортишь.
Сын лукаво улыбнулся:
— А помнишь?.. Заставица люба?
— Ещё лучше моего сделает небось! — поддержал Восхищенный.
— Ну, садись, — согласился Иван Иванович. — Макай перо, да неглубоко, чтоб не капнуло.
Митя живо примостился на коленках возле пня, разгладил кулачком бумагу, мельком победительно глянул на дядьку с ухабничим, которые почтительно стояли на расстоянии: неуж княжич сам пишет? Восхищенный пригодился только на то, чтобы держать чернильницу в виде жабы, у которой в голове была деревянная затычка.
— Пиши, сокол наш глазастый, — сурово сказал отец, Златоглазый, — тут же поправил Митя.
— Ладно, пиши: Иван, Олена, Феодосья, владыка Феогност, младенец Василий, Семён, Андрей, Настасья...
— Это жена, что ль, Симеона Ивановича? — встрял Восхищенный.
— Она... Теперь Алексей...
— Убиенный, — подсказал Восхищенный. — Ты Хвоста помянуть хочешь?
— Убиенный не пиши, Митя.
— Пач-чему?
— Ничего не надо, кроме имён.
— А почему Василий — младенец? — спросил Восхищенный. — Я думал, ты новгородского владыку хочешь.
— Это особо. Пиши, Митя, ещё раз: Василий.
— А кто они все, батюшка?
— Утраты мои.
— Почему?
— Потому что. Пиши детей Семёна, братаничей моих, Семёна и Ивана.
— А ещё дядя Юрий? — вдруг вспомнил Митя. — Он тебе дед-двоюродник?
— Да. Его пиши Георгием.
— А ещё Кончака?
— Ой, Кончаку-то я забыл! Её пиши Агафьей.
— Почему?
— Кончака она по-татарски.
— Она разве татарка? — удивился Митя.
— Была татарка, а стала православная. Давай теперь тверских упомянем князей, в Орде убиенных: Михаила и Дмитрия Грозные Очи, Александра и Фёдора. Ещё пишем Константина... Когда, сынок, я твоих годов был, ему отшельник крымский смерть в Орде предсказал.
— Его тоже убили?
— Сам помер, горлянка у него была, кровь горлом шла.
— Почему? — Митя, сдвинув бровки, сумрачно глядел на Восхищенного, но бровки разъезжались, не умел он ещё хмуриться.
— Ты чего, княжич? — всполохнулся монах.
— А у меня грозные очи?
Восхищенный улыбнулся со значением:
— У тебя другое прозвание будет... славное.
— Какое?
— Резвый, бегаешь быстро, стреляешь метко, — льстил Восхищенный, — во всём скорый.
Вписали ещё прадеда Митина Данилу и прапрадеда Александра, прозванного Невским, супружниц их.
— Где бо их житие и слава мира сего и багряница, и брачины, сребро и злато? — задумчиво произнёс Восхищенный.
— Ну, всё, что ль, начертали? — задумался и князь. — Давай, Митя, ещё Протасия старого помянем. Он прадед твой по матери.
— Князь, а князь? — робко сказал Восхищенный. — Впиши ещё смиренного монаха Гоитана, а?
— Это кто? — строго спросил Митя, но, поймав взгляд отца, вписал и неведомого Гоитана.
Подошёл дядька:
— Иван Иванович, устал отрок, поди? Пусти поиграть-то?
— Аки воды, утекли все они в жизнь вечную! — Восхищенный едва удерживался от непритворных слёз. — А Гоитан-то сколь был изяществом благодатен и искусностию велик!..
— Пошто татары столько тверских князей побили? — спросил Митя, затыкая жабе голову.
— Лихоимцы сарайские! — тихо обронил отец, взяв поминальник и размахивая им, чтобы высохло.
Митя вскочил с колен:
— А я их не боюсь!
— Не видел ты, княжич, как они руки и головы бояр посеченных мечут псам на съедение, — сказал дядька.
— Всё равно не боюсь! — Митя топнул ногой.
— Никогда никакой белильщик их не убелит, — сурово молвил отец.
— Садись-ка сюда, соколик! — Дрюцькой снял сиденье с пня, перекинул его через толстую валежину, уселись с княжичем на концы верхом, стали качаться. — Чего ты слушаешь этого монаха? — Ухабничий даже плюнул на сторону. — Надменный он.
— Почему?
— Нездоров душою, всем известно. С недужными не водись, себе вред причинишь.
— Почему?
— Говорят, духи через него действуют. А что за духи, незнамо.
— Он колдун?
— Другое... Истома от него какая-то исходит... Не люблю его. Всё мне кажется, бесы вокруг него крамолу чинят, как мухи лицо омрачают, комарами в уши свистят. А великий князь по доброте своей его не гонит. Хотя надо бы.
Раскачиваясь, Митя то вылетал высоко в жар полудня, то опускался в прохладу под деревьями, темнобровое узкое лицо его вспыхивало на свету, а то голубело в зелени веток. Княжич звонко кукол, откликаясь неутомимой зегзице, был счастлив и всем доволен.
Когда снова пустились в путь, только и разговоров было что о варе на Варе. Митя никак не мог понять, и чем речь. Оказалось, Варя — светлая неширокая речка, а вари великокняжеские — большой дом на поляне, щедро рубленный из толстых сосен, да ещё иные строения. Всё добротное, всё содержится в порядке, всё увито густым хмелем с бледно-зелёными шишками. Варец, могучий и белёсый, с волосами, подхваченными на лбу ремешком, даже мокрый стал от усердия и волнения: не каждый день такие гости! Помощники его и домочадцы попрятались: не смели великому князю показаться.
— Одичали совсем в лесах-то, — усмехнулся Дрюцькой, сам человек бывалый и решительный.
Иван Иванович хоть и с дороги, а расспрашивал обо всём дотошно: богатый ли пчёлы взяток носят да выстоялось ли пиво прошлогоднее, не скисло ли? Варец обстоятельно доложил, что липа нынешним летом цветёт преотменно и бортники сообщают, что мёду-липняку, а также иного ожидается в преизбычестве, пиво же тёмное хранится славно, есть из ржаного и ячменного солода, а есть из ячменного и овсяного. Вода в Варе вкусная, для пива годится, а для хмельных медов набирают в запас воды дождевой, особо мягкой, так полагается, и всё исполняют по правилам, можно хоть сейчас пойти послушать в амбаре, как мёд первого брожения в бочке шумит.
Иван Иванович не поленился спуститься в ледник осмотреть бочонки второй выдержки, зарытые в песок, который поливают солёной водой. Мёд молчал. Варец просил не топать и говорить вполголоса, мёд этого не любит, когда зреет. Там был прозрачный ароматный липец, а ещё на пробу взяли мёду тёмного с добавлением перца, корицы и кишнеца, зовомого также коляндрой. Уже был готов и мёд из берёзового сока.
Всего испробовав, приезжие слегка раскраснелись, а Восхищенный раскраснелся сверх меры и объявил, что здоровье к нему возвращается. Митя смеялся, глядя на него.
Великий князь с Чижом и ухабничим собственноручно натаскал стерлядей и судаков из корегода. Затеяли уху на костре. Варец же сказал, что сейчас у него немножко поставлено канунного пива к Петру и Павлу, а уж настоящее варение начнётся на Симеона Столпника, летопроводца, когда созреет свежий хмель.
Иван Иванович готов был с головой окунуться в таковые заботы. Взять хотя бы то же пиво! Одно дело, когда ты пьёшь его из поданного тебе чашником ковша, совсем иное — самому его варить! Оно бродит в огромном, многопудовом чане, из него ещё не вынуты раскалённые камни-дикари, пиво тёплое, неготовое, но как удержаться и не испробовать его, когда начинаешь отжимать плавающие сверху бурые хлопья хмеля и остатки проросшей ржи.
— Как мыслишь, наядрёнел? — спросил пивовара.
— К утру доспеет, на лёд выставим.
— Ну-ну... Сразу же и новый котёл заваривай.
Белёсый с ремешком на лбу не стал возражать князю.
Новый так новый. Сообщил, что из Москвы со слугою присланы верховые лошади и они уже отдохнумши.
— А ты как думал? — Иван Иванович с излишней пристальностью поглядел на пивовара, который почему-то уплывал от него. — Я великий князь с сыном и в телеге еду? Это из-за хромого монаха. А завтра пересаживаемся верхами. Правильно я мыслю?
Варец опять ничего не возражал, только кланялся и уплывал.
Ужинать захотели не в доме, а возле костра. В ожидании ухи разместились на синей попоне. Восхищенного посередине обложили подушками.
Заходящее солнце окрасило багрецом медные сосны, прожгло наискось просеки меж стволов. На открытом месте было ещё тепло, но вечерняя сырость уже повеяла от речки.
— Скукожусь я, видно, скоро, — жалея себя, сказал Восхищенный. — Долго не проживу.
— А ты вспоминай царя Давида и всю кротость его, — посоветовал Дрюцькой, перегрызая травину.
— Мужественно и гордо погибающий лев — всё равно до». Пёс же, кроткий во всём, уже не пёс, — загадочно ответил монах и после этого обращался только к великому князю: — Прощения Божьего все взыскуем, а сами прощать не умеем. Вон Сергий преподобный простил брата своего. Я же такой высокости не имею.
— Да о чём ты? — прервал его Иван. — Что значит простил?
— Ты притворяешься, князь? Иль, семейное счастье обретя, перестал видеть вокруг творящееся?
— Не понимаю, — смущённо пробормотал Иван. Ему не хотелось разговаривать.
— Владыка-то Феогност не велел венчать Семёна Ивановича, а тот к патриарху за разрешением. А духовник-то великого князя, игумен Стефан, не осудил его и даже советы Подавал. Так ли? — частил Восхищенный со злострастием, умащиваясь на подушках.
— Не знаю я ничего, — отстранился князь.
— Не зна-аешь? А лжёшь? После этого Стефан в немилости оказался у митрополита и от игуменства удалён. К уды ж он кинулся? К брату, вестимо. К Сергию. Пришёл и говорит: я вроде того тут всё начинал, я тут главный.
— А Сергий что же? — не удержался Иван.
— Утёк. Смолчал и тайно исчез, не возражая ни в чём. В леса, на Киржач удалился.
— Это я знаю, брат Андрей сказывал. Лишь неизвестна причина, почему ушёл.
— А вот и известна. Только иноки маковецкие скрывают. А я там был и свидетель, как Стефан кричал в гневе и в храме ногами топал.
— Неужли в храме?
— Служат, вишь, не так, не его за главного почитают, а Сергия.
Все напряжённо слушали.
— Говорят, старец в самую душу зрит, и ничто от него не сокрыто, — сказал Иван Михайлович не без некоторого страха.
— Его уж только Алексий уговорил вернуться. Ну, Сергий и подчинился, потому что послушлив, — заключил монах. — А потом, говорят, из Царьграда митрополит письмо привёз от патриарха, чтоб житие в обители было не особное, как раньше, а совместное. Сергий опять подчинился. Сам патриарх о нём знает и приражен подвигами его. А в чём подвиги? — Он покачал головой и недоумённо обвёл всех глазами. — В столпе не стоит, вериг не носит, в пещере не затворяется. В сане-то всего пять лет. Только уединения ищет да к злату и почестям равнодушен.
— Легко сказать, ищет! — усмехнулся великий князь. — Таких отшельников у нас не бывало, чтоб от самой юности искусительное уединение переносить. Сколько здесь опасностей тонких, всё более острых и лукавых по мере того, как человек возрастает духом.
— А по ночам из лесу вопили: уходи отсюда!
— Кто вопил? — холодея, спросил Митя.
— Призраки! — гордый всезнанием, сообщил Восхищенный. — Кои с клыками, кои с носами рваными, лбами морщёными и протчею гадкостью разнообразной.
— А Сергий что?
— Молится. Они и увянут. Умалятся и вовсе сгинут. Сергий как возгремит: да воскреснет Бог и расточатся врази Его! Они этого никак перенесть не могут. Завертятся вокруг себя, аки листья сухи, и рассыпаются. Прахом исходят. Но это когда он в одиночестве спасался. А сейчас у него — гнездо и птенцы духовные.
— Я что-то боюсь, — прошептал Митя. — Оставьте меня тут, на варе, а сами поезжайте.
— Кого ты, княжич, боишься? Сергия? Бояться надо одного лишь Бога, а боле никого, даже татар, — бодро сказал ухабничий.
— А смерти? — возразил Митя.
— Ну, об этом тебе ещё рано думать.
Босая девка в платке и запоне принесла ковригу свежего хлеба. Иван Иванович не спеша разломил его на куски.
— Ну, хитростный наш вития в витиях, — обратился он к Восхищенному, — приближайся к ухе-то, кажись, она готова.
Все зашевелились, устраиваясь половчее.
Были поданы ложки тонкой работы, хранимые, видно, для особых случаев: черенки выточены в виде рыбок с загнутыми хвостами и все разные — и щурёнок с зубками, и сомёнок с широкой пастью, и стерлядка узконосая. Митя так и залюбовался ими, всё переглядел.
— Если нечего хлебать, дай хоть ложку полизать! — пошутил дядька.
Полную дымящуюся мису бережно притащил наусица в белой новой рубахе, юноша с едва пробивающимися усами.
— А ты кто? — воззрился на него княжич.
— Лесарь, — стиснутым голосом ответил наусица.
— Почему?
— За лесом смотрю, чтоб рубщики и углежоги костров не оставляли, также чтоб борти не разоряли.
— Ну, молодец! Иди себе, — разрешил Восхищенный, принимаясь за уху.
3
Под пологом-накомарником и широким овчинным одеялом спать было тепло и покойно, но утро встретило мжичкой, дождь сеял не переставая, и на пороге уже образовалась тепня — липкая вязкая грязь, так что вычищенные верховые кони уже и ноги запачкали, и подбрюшья забрызгали.
Чиж управлял передней лошадью, надев на голову рогожу, будто куколь, Восхищенный, укрытый овчиной, стонал на дне телеги, а ухабничий сидел на задке как ни в чём не бывало, дождевые капли стекали с его бороды на раскрытую грудь. Он улыбнулся и подмигнул княжичу:
— Сегодня в монастыре будем!
Митя с отцом тронули коней, те пошли быстрым валким шагом, и скоро телега отстала, скрылась в туманной мороси.
Едва простучали копыта по новому мосту через Варю, а Митя уж начал вглядываться в даль: не покажется ли обитель? Он представлял её себе большою, как Кремль, с позолоченными куполами храмов и колокольными звонами... Но впереди лишь змеилась почерневшая от воды дорога, да толклись по всему окоёму обложные неприветливые облака.
И лес сегодня был какой-то другой: не весёлый и сухой сосновый, а мрачная еловая трущоба с валежником и неопрятными седыми космами паутины, свисающими с раскидистых лап.
Митя слегка трусил в таком лесу даже днём. Хорошо, что отец был рядом. Он возвышался на коне, как сказочный богатырь. Невзирая на непогодь, он в этот день нарядился: надел золотую цепь и широкий пояс с жемчугами и каменьями, какой дедушка Калита по завещанию ему отказал, на шею пристегнул ожерелок-алам жемчужный, на плечи же накинул корзно атласу белого, подбитое голубым шёлком. И конь его был уряжен в науз шелка белого, золотом заплетённый, с кистями шелка черевчата да лазорева.
— Батюшка, а преподобный Сергий строг?
— Думаю, совсем строг.
— Почему?
— Ну, кто к тебе может быть строг? Разве только дядька Иван Михайлович? — пошутил отец.
— А он со Стефаном что сделал?
— Да ничего.
— Который ногами на него топал?
— Он простил его.
— Правда?
— И даже сына его к себе в монастырь принял.
— Зачем?
— Он захотел.
— Кто?
— Сын!
— А мы почему едем?
— По дороге... Ну, не обижайся! Мы поедем-поедем, а потом пешком пойдём к обители.
— Почему?
— В монастырь на конях не заскакивают.
— Почему?
— Ну, как думаешь?
— Там все молятся?
— А чего же ещё? Чай, мы не татары, чтоб в монастырь — верхом.
У оврага попридержали коней. Такая была глубина, что глядеть туда не хотелось. По дну бежал ручей, скрытый густыми лопухами и зарослями мать-и-мачехи.
— Тут, наверное, змей видимо-невидимо, — сказал отец. — Любят они такие сырые места.
Митя от таких слов содрогнулся, спрыгнул с коня. И отец тоже спешился. Издалека донёсся скрип колёс. Телега продиралась по узкой просеке, колыхаясь на остатках сгнивших пней и сминая кустарник-подрост. На сёдла коней, ставших под деревьями, мягко шлёпались с веток крупные капли.
— Эх, попоны-то у Чижа остались, прикрыть бы! — подосадовал отец.
Иван Михайлович, словно предугадывая неудовольствие князя, спрыгнул почти на ходу, взял коней под уздцы, осторожно повёл вниз.
— Стой, дядька! Я с тобой! — крикнул Митя, нащупывая ногами спуск и стараясь ничего не замечать по сторонам. Овраг дохнул холодной прелью, глухим шевелением незнамо чего, он впускал в себя настороженно и даже со скрытой угрозой. Только голос дядьки, ласково уговаривающий коней, немножко разгонял мрачность. И отец сзади тоже подбадривал Митю.
Вот уже потревожен копытами забрызганный ковёр мать-и-мачехи на дне, взбаламучена тёмная вода ручья, который Митя без напряжения перепрыгнул, ощутив своё лёгкое и сильное тело, а Иван Михайлович, замочив сапоги, перешёл вброд. На противоположный склон кони полезли охотно, сами тянули за собой Ивана Михайловича, ловко перебирая разъезжающимися ногами. Чем выше поднимались, тем делалось светлее, отступала, оставалась внизу овражная сумрачь, вот и последние шаги, задыхающийся дядька, закинув руки на седло, прислонился лбом к конскому боку, сплёвывая и постанывая. А Митя нисколько не запыхался, побежал вприпрыжку, но с другой стороны оврага вдруг раздались крик, брань, лошадиное ржание — Митя с Иваном Михайловичем обернулись и застыли.
Чиж изо всех сил осаживал лошадей, уже ступивших на склон, те прядали и приседали, выкатывая глаза и всхрапывая. Несмотря на подвязанные вервием колеса, тяжёлая телега вот-вот готова была сорваться и накатить на них. Сейчас она накренилась набок — ухабничий, побагровев лицом, еле удерживал её. Доносились истошные вопли Восхищенного:
— Батюшка Сергий, помоги! Погибаем!
Великий князь, уже спустившийся до середины оврага, кинулся наверх.
Митя оглянулся на дядьку. Тот стоял с расширенными безумными глазами и крестился.
— Иван, князь, назад! Убьёт! Она вразнос пошла! — закричал старый боярин не своим голосом.
Но отец был уже у телеги. Вдвоём с Дрюцьким они навалились на поднявшийся край, опустили его на землю. Вытащили полумёртвого монаха. И сразу же телега тихо заскользила вниз, Чиж сбоку уговаривал и успокаивал лошадей, а отец с ухабничим изо всех сил сдерживали задок.
Митя почувствовал, что рубаха на нём взмокла и шапка взмокла. Телега с грохотом остановилась в ручье, подняв тучи брызг, Чиж, гикнув, потянул за узду переднюю лошадь. За ней двинулись и другие, выгибая шеи, так что жилы на них вспухали, потащили свою ношу наверх. Дрюцькой спешно, на ходу распустил верёвки. Великий князь помогал ему. Потом они вдвоём стали подпирать телегу. Слышны были их шумное дыхание и лошадиные всхрапывания. Откуда-то взявшиеся вороны с заполошным карканьем тучей носились над ними.
— Вишь, злыдни! Потревожили, вишь ты, их! — ругнулся дядька, спускаясь навстречу лошадям.
— Я с тобой! — рванулся было Митя.
— Не сметь! — рявкнул боярин. — Зашибут! — Он схватился за ремённое оголовье второй лошади, опасаясь, что лошади от ора вороньего кинутся в сторону.
— А я-то?.. Вы куды же прётесь? Меня-то забыли! — голосил Восхищенный, перегибаясь на краю оврага.
Лошади вымахнули наконец и стали, мелко вздрагивая кожей. Чиж оглаживал их, прижимался к каждой морде лицом.
Белое княжеское корзно зазеленилось, жирные полосы грязи и дёгтя протянулись по нему, тонкие сапоги лопнули в нескольких местах.
Митя дрожал от гордости за отца и от волнения. Ухабничий опустился перед князем на колени, поклонился в землю. Все молчали. Только Восхищенный всё вопил и взывал на том краю.
— А вороны тоже испугались, — сказал Митя.
— Ещё бы! — согласился отец спокойно, будто ничего не случилось. — Иди, Дрюцькой, тащи теперь монаха.
— Слушаюсь, великий князь! — метнулся ухабничий.
А Восхищенный уже съезжал сам на заду, подобрав полы ряски и причитая. Когда Дрюцькой, посадив его на закорки, показался из оврага, все с облегчением засмеялись.
— Не покинул нас батюшка Сергий, услышал! — радостно сообщил монах, сваленный, как мешок, в телегу. — Не зря я взывал к нему!
— Почём знаешь, что Сергий? — недоверчиво усмехнулся Дрюцькой.
— А кто же? Уж не вы ли с князем? Без Божьей воли ничто не делается, без молитв святых заступников.
— Ты плохой! — крикнул Митя. — Никому не благодарен.
— Ишь, взыграл, гордейка княжья! — осудил Восхищенный. — Поживёшь, узнаешь, что откуда берётся и как делается.
— Нас Иван Иванович спас, — твёрдо сказал ухабничий. — Без него и телегу бы расшибли, и лошади бы убились, и тебя бы с Чижом стоптали.
— Верно говоришь, — поддержал боярин. — Не растерялся великий князь.
Митя прижался к расцарапанной руке отца. Тот отстранил его, отошёл, держась за сердце.
— Что, Иван Иванович? — встревожился Дрюцькой.
— Грудь больно почему-то.
— Надорвался, может?
— Пройдёт. Подержи стремя да княжича подсади.
Дальше поехали подавленные, и радость благополучного исхода не прижилась. Боялись, как бы великий князь не расхворался. Что-то уж больно бледен да молчалив. Только Восхищенный продолжал буркотать в телеге, рассуждая как бы сам с собой:
— Делая людям добро, не рассчитывай на благодарность, не им стремись угодить, но Богу, и помни, как сам неблагодарен за великия милости Его. Надо жить духом, сообразуясь с надеждою вышнего избрания.
Никто никак не откликнулся на его умные речи. Только Иван Иванович вдруг нетерпеливо остановил коня.
— Всё! Отсюда пешком пойдём. Вылезай, монах. Маковец завиделся.
— Да я расслабленный, довезите уж меня, — засопротивлялся страдалец.
— Ну, как хочешь.
Князь спешился, Митя тоже спрыгнул со своей буланки.
— Убьёшься, смотри! — всполошился дядька.
— А я ничего не боюсь! Откуда хочешь прыгну! — беззаботно откликнулся Митя, разглядывая окрестности. — Это и есть Маковец?
Перед ними была пологая, заросшая лесом гора. И больше ничего не видать.
— А где же сама обитель?
— В скрытности живут, — сказал Восхищенный, приподнимаясь в телеге. — Прими меня, княжич! Подай руку-то немощному!
— А зачем в скрытности?
Дрожащая от слабости, костлявая ладонь оперлась на Митино плечо.
— От мира скрылась, чтобы меньше грешить. А всё равно всё про них знают и идут во множестве.
— А иноки не сердятся? Они же греха бегают? А идут все, поди, грешники?
— Если Бог очистит, ты уже не в скверне. Теперь у Сергия не отвергают ни старого, ни юного, ни богатого, ни убогого. Господь гневается не на нас, детей Его, а на зло, которое носим в себе, но всегда готов принять каждого, коль увидит на лице его слезу сокрушения.
— А преподобный зло в людях обличает? — всё сомневался Митя.
— Он так говорит: смиряй себя и всех почитай как превосходящих тебя и всячески берегись, как бы укорением не уязвить чьей-либо совести.
— А грешники что?
— Они все к нему припадают и почитают его чувствительно и сердечно.
— Где-то тут починки должны быть да деревни? — осматривался Дрюцькой.
— Починки за лесом, их не видать, а деревни — там, за горою. Выруби-ка мне палку какую, об неё обопрусь. — Восхищенный утвердился наконец на ногах, заковылял вослед князю.
День клонился к вечеру, дождь перестал, но всё ещё висели набухшие влагой облака. Серо-синие дали были прозрачны и чисты. Ели кололи пиками вершин низкое небо. Было грустно и тихо. Чуть уловимо наносило печным дымом. Сапоги звучно чавкали по грязи, но чем выше в гору, тем дорога становилась суше. Короткие и редкие удары деревянного била долетали из всё ещё невидимой обители. Чиж с Дрюцьким вели лошадей далеко позади.
— А вон там, в стороне, — махнул палкой Восхищенный, — Хотьковский монастырёк остался, где родители Сергия и Стефана упокоены. Он неприметный. Там и монахи и монахини спасаются... Однако смотри, какую широкую тропу тут протоптали, пока меня не было... Прости, и прощено будет, да... Вы отпустите — и вам щедро отпустится.
— Чего отпустится? — спросил Митя.
— Какой ты надоедливый, княжич! — раздражился монах. — Слушай да вникай. А сам помалкивай.
— Если бы ты знал, как ты мне надоел! — тихо проронил Иван Иванович.
— Значит, зря тебя Кротким прозвали. Кротость — это неподвижность душевного устроения. Кроткий одинаков пребывает и при бесчестии, и при похвале. А ты похвалу-то любишь не меньше, чем покойный братец Симеон Иванович.
— Несправедлив ты и пусторечив, обличитель. По какому праву всех судишь?
— Да я только для разговору молвил. Кого я сужу? Никого не сужу и не смею даже. Я знаю, что есть истинное сокрушение. Его только большим трудом улучить можно, когда будешь воздерживаться, бдеть, молиться и смирять себя, тогда лишь, иссушив сласти похотные, с плотию твоей сросшиеся, сораспнёшься Господу и перестанешь жить страстями. Вот будешь тогда сокрушён. Это не значит печалиться всё время. Это даже и грех, чрезмерная печаль, а страсти сокрушить и волю свою отринуть надо. А это тебе, великий князь, вовсе и невозможно, ибо волю свою ты иметь обязан. А со своеволием и страсти вползают, аки змеи, и душу сосут, и истощают.
— Значит, совсем надежды мне не оставляешь? — Иван Иванович метнул на него недобрый взгляд.
— Не я, не я! Что я? Пыль и прах.
— Ну, так и угомони себя.
— Угомонил. Всё. А слух-то чесать и бесы умеют.
— Батюшка, он и мне надоел, — сказал Митя.
— А ты дерзун, княжич! — тут же нашёлся Восхищенный.
Вдруг из-за сосен бесшумно вышли три тёмных человека. Митя даже вздрогнул, но сразу угадал монахов по их поклонам, по шелестящим голосам:
— Добро пожаловать! Нас преподобный послал лошадей ваших принять да позаботиться о них.
— А как он узнал, что мы идём? — удивился Митя.
— Сердце ему сказало.
Митя наконец разглядел под куколем лицо говорившего. Оно было молодо и измождено.
— Сердце сказало? — переспросил Митя.
— Оно. — Монах чуть приметно улыбнулся. — Уж и угощение для вас велено готовить. Похлёбка варится из белых грибов на огуречном рассоле.
— Фёдор, ты, что ли? — тихо спросил Восхищенный.
— Я, брат.
— Благослови, Господь. Вся ли братия здорова?
— Слава Богу. А вас дождём прихватило?
— Еле живы остались. Я вишь какой! Костолом замучил с самой весны.
— Отдохнёшь у нас. Выпользуем. У нас теперь часовенка выстроена во имя Лазаря Четырёхдневного, туда больных помещаем.
— Мы ноне ведь чуть не опрокинулись в овраг-то, — всё жаловался Восхищенный. — Я уж батюшку Сергия звать стал, возопил велико. И вишь, живы!
Монах молча кивнул и поспешил вслед за братией к лошадям.
— Это знаешь кто? — шёпотом оповестил Восхищенный. — Это ведь сын игумена Стефана. Хотя и рыкал он на Сергия, а сына к нему привёл, в Троицкий монастырь. Как сейчас помню, лет пять назад, как раз на Красную горку, его и постригли. Тогда же и на Сергия сан возложили. Уж так он отказывался! Епископ даже прикрикнул на него. И братия вся очень просила.
Через двадцать лет неприметный монах, племянник преподобного, станет основателем Симонова монастыря, одной из самых крупных и богатых московских обителей.
4
Всё был лес и лес, и вдруг он расступился, и дальше идти некуда — частокол. Плотный и высокий. А из-за него только купол церковный видать. Но вдруг и частокол расступился. Это ворота раскрылись. А кто их открыл, неведомо. Будто сами собой изнутри распахнулись.
Едва ступили в ворота, Митя ещё и глаза на чём остановить не знал, как Восхищенный радостно воскликнул:
— A-а, ба! Купец Иван Овца тута! Чего делает? Не иначе вклад привёз! — Будто ему этот купец родня дорожайшая.
Иван Иванович же быстрым шагом пошёл, почти побежал к высокому худому монаху и пал перед ним ниц в земном поклоне, прямо на мокрую траву, в белом своём атласном плаще.
«Это он!» — толкнулось в сердце у Мити. И тут же купец закричал диким голосом:
— Это он! Так это он? А я-то, несчастный?! Ах, ангелы святые, легионы! — И, схватив себя за голову, понёсся куда-то в глубь двора.
Восхищенный тихо смеялся и от счастья стал весь в морщинках, а Сергий всё повторял великому князю, обнявшему его колени, то ли «утишься», то ли «утешься» — не разобрать.
Но вот отец наконец поднял склонённую голову:
— Я Митю привёл благословить.
— Вот славно, — так же неразборчиво и быстро сказал Сергий. — Келии вам приготовлены. И снедь в трапезную уже подали. — Он как бы сам смущался и спешил, речь его была невнятна, благословляющее знамение легко, без касания. Только Мите он положил руку на голову. Дядька едва успел сдёрнуть с княжича шапку.
Митя сказал:
— У тебя рука тёплая.
Чёрный куколь качнулся, и улыбка тронула сухие уста Сергия.
— Будь ему духовником и заступою, — сказал отец каким-то незнакомым от волнения голосом.
Сергий поглядел на Митю сверху вниз тёмными внимательными глазами.
— Будешь? — спросил Митя.
— Раз батюшка твой просит... — Голос у него был высокий и чуть надтреснутый, как бывает у колокольного подголоска.
Келию, куда привёл их всё тот же Фёдор, тускло освещала сальная свеча в железном поставце, вдоль стены — ложе, узкое и жёсткое.
— Как же вы тут спите? — удивился Митя.
— Монахам нужно не на мягкое ложе, а на землю легание для усушения тела и души.
— Зачем?
— Иначе толсты и жирны будут, невоспарительны.
— А я мягко сплю, да не толст, — сообщил Митя.
— Ты-то конечно!
— Скажи, как всё-таки Сергий узнал, что мы к нему приедем? — Это не давало Мите покоя с самой горы.
— Он весь день дрова рубил, потом, перед закатом уж, остановился да говорит сам себе: нет, не грешники Они, кто взбирается сейчас на Маковец...
— А ты слышал?
— Да, я же поленья носил, рядом был, слышал.
— Но неужто игумен сам дрова рубит? — не поверил Митя.
— Он у нас первым всякое послушание исполняет. Можем ли мы лениться при таком игумене? Если только никакой совести не иметь. — Фёдор прямо пальцами снял нагар со свечи и не поморщился.
Батюшка, не скинув сапог, лежал, руки за голову, и ни о чём не спрашивал, углублённый в свои мысли.
— У нас все трудолюбивы, — повторил монах. — Приходи к нам почаще.
— Меня сам преподобный исповедовать будет, — похвастал Митя. — Вот грехов накоплю и опять приеду.
— Копи, — согласился монах, — только старайся не слишком много. — И, уходя, обернулся: — Наш преподобный всегда повторяет: не надо заноситься.
— Ладно! — пообещал Митя.
— Все учат, — вдруг внятно произнёс отец, не открывая глаз. — И здесь-то все учат.
— Подвинься, батюшка, я к тебе под бочок, — попросился Митя. — А свечу не гаси. Хорошо?
Только они угнездились, прижимаясь друг к другу, даже задремать не успели, как дверь, скрипя, приотворилась, и в ней показалась некая рожа, преизрядно всклокоченная и моргающая.
— Дозволь войтить, великий князь? — прохрипел голос. — Аль уж почиваешь?
— Завтра! — притворяясь сонным, пробормотал Иван Иванович.
— В большой туге нахожуся и страхе, — настаивал вошедший. — Помоги!
— Ну, что тебе? — Великий князь сел на лавке.
— Ты ведь знаешь меня? Я Иван Овца. У меня Симеон Иваныч ещё деревеньку торговал.
— Зачем ты мне про деревеньку? Что надо?
— Не серчай. Я, вишь, в отчаянности, можно сказать. — Купец поклонился низко. — Все сюда идут, князья едут, крестьяне округ селятся, отрок у родителей воскресает, бесноватый исцеляется. Чудеса и слава великая Сергия в народе разносится. И я пошёл в его монастырь на богомолье. Потому что томлюсь и жить хочу по правде. Я хотел ему всё-всё сказать и тем душу облегчить и, может быть, даже на послушании побыть. Пришёл, а тут всё худо, нищенски, сиротски. Только деревья шумят после дождя. Гляжу, меж пеньков монах, весь в заплатках, репу пропалывает. Я ему: где, мол, старца Сергия повидать? Он же: ты видишь, мол. Не знал я, что монахи шутку шутят. К другому: где игумен ваш? Он мне: а вона! Это в заплатках-то? Над репой согнутый? Понял я так, что скрывают его, а надо мной чинят издевание. Вот так смиренники, думаю.
В этом месте Митя не выдержал, засмеялся. Сон его совсем прошёл.
— Вот и княжич на моей стороне. В обиде я стал и негодовании, — продолжал Овца. — Конечно, чудотворец — сокровище многоценное, но что ж, простому мирянину и не пробиться к нему? А может, я вклад внесу? И значительный! — Выражение лица у купчины на мгновение сделалось победоносным. Но только на мгновение. — Ах вы, думаю, такие-сякие. От худости еле живы, а гордыни преисполнены. Прямо сказать, разгневался я и уж браниться с ними захотел. Только гляжу, ты заходишь, весь в жемчугах — ив ноги заплатанному! Бож-же мой! Иль вправду Сергий? Не обманул он меня! Побег сам не знаю куда, инда слёзы во мне вскипели. Испугался я, что старца обидел.
— Да чем же ты его обидел? — прервал Иван Иванович.
— А мысленно? Как я теперь ему покажусь? Ведь говорил с ним небрежительно и через силу. Да кто ж его разберёт, какого он сану? Ни посоха у него нету, ничего!.. Великий князь, попроси за меня!
— О чём?
— Чтобы простил и дозволил пред очи его святые предстать.
— Сам попроси. Он простит. Да и что прощать?
— Не простит! — вставил Митя, чтобы подразнить Овцу. — Он на меня руку положил, я даже присел Знаешь какая? Так и гнёт к земле!
— Озорник ты, Митька! — толкнул его отец.
— Ой, робею я чегой-то, — сказал купец. - Я не смею, князь.
— И я не смею, — признался Иван Иванович в шутку, чем ещё больше напугал незадачливого богомольца. Тот совсем приуныл.
— Делов невпроворот. Масла мне привезли благовонные из Кафы: и миртовое и пальмовое. Разливать-продавать надо, а я тут обретаюсь без исхода и надежды. Да ещё полива из Сарая пришла. Пока лето, сбыть надо.
— Какая полива? — захотел узнать великий князь.
— Серо-зелёная. Чаши.
— Быстро сбудешь, такая полива ценится.
— Дак сбудешь!.. А я тут сижу.
— Ну, если насмелюсь, скажу про тебя, — согласился наконец Иван Иванович.
От чувств купец поцеловал его в плечо.
5
По случаю дня Петра и Павла угощение в обители было праздничным: подали загусту — кашу из ржаной муки с мёдом, уху назимую — крепко застывшую, и белый пирог, румяный и пышный. Солнце играло на светлых липовых стенах новой трапезной, только кое-где заметны были следы сажи от горевших в светцах лучин. Тени от веток, колеблемых ветром, бегали по столу и по лицам. Лица у всех трапезующих были тоже светлые и словно бы немного заплаканные. Впрочем, может быть, это Мите только показалось. Он стеснялся, что проспал утреню, но Фёдор утешил его: с дороги, мол, немудрено. Овца ел вместе со всеми в конце стола, там, где Чиж и Дрюцькой. А дядька Иван Михайлович сидел рядом с Митей. За столом не разговаривали, вкушали благоговейно, куски несли ко рту, подставив ладонь, а если упадёт какая крошка, её бережно сметали и тоже в рот. Чем-то хорошо и чисто пахло. Мите всё нравилось.
Когда помолились и вышли из трапезной, он вспомнил ночное посещение и, тронув Сергия за рукав, спросил:
— Батюшка, а ты простил Овцу? Он так боялся вчера!
— Бог простит суетность его, — тихо сказал игумен.
— А ты правда отрока воскресил?
— Да он, видишь ли, замёрз по дороге, когда отец его вёз сюда из деревни, и чувства все в нём промёрзли. А в келии у меня отогрелся, вот отцу и показалось, будто он воскрес.
«Ишь, сказывать не хочет, чтоб не возноситься», — подумал Митя.
— Сеется в уничижении, восстаёт во славе; сеется в немощи, восстаёт в силе, — прошептал ему на ухо Восхищенный. — Апостол Павел писал, коего ныне поминаем, а будто про нашего чудотворца!
— Разве нужно утаивать, если хорошее делаешь? — возразил княжич. — Плохое не прячется, а доброе молчит. Вот люди и будут думать, что на свете одно плохое.
— Господь часто скрывает от очей наших те добродетели, которые мы приобрели. А коль сознаем, что обладаем оными, они и исчезают. Тут — тонкость. Человек льстящий бесам служит, гордость вздымает, а добродетель губит и умиление истребляет. Бегай льстецов, княжич, и берегись их, как врагов.
— Я бегаю-то знаешь как! — сказал на это Митя.
На отце был летний долгополый опашень с короткими широкими рукавами, борода расчёсана, глаза ласковы, в ухе — серьга жемчужная. Митя знал, что опашень этот и серьга ему уже завещаны как старшему сыну, но время, когда он наденет их, казалось ему ещё таким далёким-далёким!..
Сергий водил великого князя промеж смородиновых кустов и показывал, как они хорошо прижились, уже цвели и сейчас были усыпаны мелкой зелёной ягодой.
— И огород у вас, и ягоды, и пожни расчищаете, — перечислял Иван Иванович с улыбкой, — когда же молиться-то?
— Ничего из дел на земле более важного, чем молитва, нет, — строго ответил преподобный, и отец умолк. — Молиться надо всегда, — тут же смягчился Сергий. — К одному старцу пришёл инок и говорит: я творю столько-то молитв ежедневно, надо ли молиться ещё, отче? А тот ему: удвой свои усилия. Время спустя инок приходит вновь: отче, я в два раза больше молюсь теперь. Старец ему: ещё удвой своё усердие. В третий раз приходит инок: отче, я поступил, как ты велел, довольно ли теперь молюсь? А старец говорит: постоянно молись!.. Всё время молись!.. Слишком не будет.
— Ах, умиление! Ах, мудрость несказанная, — опять прошептал Восхищенный, утирая глаза. — Я, княжич, тут лишь и оживаю!
Даже птицы здесь пели по-особенному, как-то празднично: одни гулко посвистывали, другие тенькали и захлёбывались, а иные пускали дробные коротенькие раскаты. Птах не было видать в гущине, но от их звонкого хора, казалось, листья трепетали сами собой. Солнце было горячим, но не жгло. А в свежей прохладе под деревьями не ощущалось сырости и духоты, какая бывает после дождя.
— Тут, на горе, продувает. — Восхищенный будто угадал Митины мысли. — Сергий-то сегодня разговорился ради праздника иль ради вашего приезда? А то ведь такой молчун всегда!
Великий князь тоже видел, как приветлив и радостен преподобный. После обедни он сам подошёл к Ивану Овце, благословил и обнял его, отчего купец остался во блаженном остолбенении и только повторял:
— Ну и всё. И ничего боле. Всё исполнилось. Благодарю Тебя, Господи!
Подскочил розовый со сна, живой и весёлый Митя:
— Легче тебе?
— Всё исполнилось, княже! И нечего боле желать. Полнота несказанная, и душа в' потрясённости. — Купец, всё такой же всклокоченный, как вчера, словно бы прислушивался к чему-то внутри себя с отрешённостью во взоре.
Монахи возле трапезной спокойно глядели на него.
— Чего это они? — спросил Митя у Восхищенного.
— Видно, благодать излияся на него. Так со многими бывает здесь.
Иван Иванович лукавил сам с собой — надо признаться, что лукавил! — будто не знал, зачем едет в Сергиеву обитель. Тоже благодати искал. Её, благодати! Но вот торговцу чреватому она вдруг дадена, а княжеская душа — в прежнем смятении. Иль уж так чёрен и недостоин? А Овце — за что? Поэтому шёл сейчас князь с игуменом по смородиннику с мыслями, которых ни за что не открыл бы Сергию, смотрел в сторону. Что ж ты, проницатель и всеведец, думал, не помогаешь мне? Пошто уклоняешься и лишь про ягоду зелену мне толкуешь?
— День чуден сегодня, и благорастворение повсюду, — вдруг сказал Сергий. — Но надо, чтоб зашло солнце и тьма ночная объяла, тогда засияют для нас звёзды.
— Звёзды? — рассеянно переспросил Иван.
— Я в особом смысле говорю. — Голос у преподобного стал почему-то виноватым.
— Я понял. Ты говоришь, каждому времени — своё сияние? Каждой жизни — своя звезда?
— Я не совсем так хотел, — возразил старец. — Время всякой жизни даётся нам Богом для покаяния. И пока мы, грешные, ещё живы, значит, живо ручательство Его, что милостиво будем приняты, если обратимся.
— Отчего же тогда люди в отчаяние впадают? — Иван всё так же сумрачно глядел в сторону.
— Где же тут место отчаянию? — воскликнул игумен. — Когда все имеют возможность, если захотят, стяжать жизнь вечную?
— А хватит ли одного желания нашего даже при величайшем усердии, но без попущения высшего? Прости, не возражаю тебе, но вопрошаю на краю...
— И ты не осуди скудоумие моё, — примирительно подхватил Сергий. — О том же сказано: не оживёт зерно, аще не умрёт.
— Можно спрошу, отче?
— Спроси без обиды.
— Пошто ты монахом стал? Можно ведь и в миру спасаться, и много доброго понаделать, заповеди соблюдая?
— Тут целая исповедь нужна, княже. — Сергий несколько замешкал в затруднении. — Вот ты возрастал под сенью отца своего, мудрости его преизрядной, потом в покровительстве брата удачливого, теперь сам правишь благополучно. Но спокоен ли ты? Что есть жизнь, где на всякую радость много-много печалей? Я вступил на другой путь, лучший, и в волнении суетной жизни дней своих не растрачу.
— Ещё спрошу, отче, и предерзко, — в волнении проговорил Иван, — не смущаешься, что в высокости своей ты один, для других непостижимый и недостигаемый в подражании?
— Как это — я останусь один? — возразил Сергий. — Ко Господу вопию, и Он пребудет со мною. Ты про отчаяние упомянул. Но почему сказал апостол Павел: мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся? Отчаяние наступает только от неполноты веры. А каждому даётся по вере его.
Они шли теперь вдоль частокола, среди высоких сосен, разогретых солнцем, пахнущих тонко и сладко. Запоздалые капли вчерашнего дождя играли синими искрами на иголках, в тени же зелень ветвей бархатно густела в черноту. Толстый слой хвои мягко подавался под ногами. Иван Иванович подкидывал носком сапога упавшие, клейко поблескивающие шишки.
Митя издали любовался отцом, его широким упругим шагом, могучими плечами и желал стать когда-нибудь таким же сильным, великодушным и отважным. Не было на свете человека прекраснее его. Ветер отдувал полы лазоревого опашня, и тогда показывалась ярко-жёлтая подкладка. Как отец идёт, как он говорит, поворачивает голову, поводит рукой — всё в нём вызывало обожание, от которого даже сжималось сердце. Митя следил глазами, как они удаляются с Сергием, хотел догнать их, но что-то говорило ему, что этого сейчас не следует делать.
Восхищенный между тем расспрашивал Фёдора, как теперь живёт обитель да почему в ней такая бедность. Ведь множества притекают и вклады, поди, делают!
— А батюшка Сергий всё раздаёт! — беззаботно ответил Фёдор, явно нимало не сожалея.
— Он ещё и милостыню творит?
— Иль тебе неведомо? Что одни приносят, он тут же другим раздаёт, кто ещё беднее. Не будь людей, он бы волков стал кормить. Соли иной раз не имеем, не токмо ладана.
— Нестяжатель великий, — покачал головой Восхищенный.
Купец тоже тащился с ними, помалкивал и вращал глазами.
— Но ведь среди братии есть люди и учёные, легко ли им в нищету духовную входить? — не унимался Восхищенный. — Книги-то дозволяет игумен читать?
— Отчего же? Только, говорит, смотрите, братия, чтоб никто не увлёк вас философией и пустыми обольщениями, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нём обитает телесно вся полнота Божества.
— Умственность, конечно, — изрёк Овца.
— Дядька, а я нестяжательный? — тихонько спросил Митя.
— Тебе было бы жалко, если б ты лук свой потерял?
— Да.
— Иль рубаху камки венедицкой порвал?
— Да ты же меня так бы избранил!
— Вот видишь. Кто печалится о чём-либо, тот не нестяжателен.
— Келейное-то правило всё такое же строгое? — допытывался Восхищенный.
— Прежнее. Афонское. Двести молитв Иисусовых, сто земных поклонов. Да в церкви двести земных поклонов и четыреста молитв Иисусовых да поясных сто поклонов Богородице.
— Где тут произойти утучнению! — произнёс купец и прокашлялся для вежливости.
— А если вы в церкви всё время молитесь, зачем ещё в келии надо? — спросил Митя.
— Церковная наша молитва о спасении и смирении всего мира, в келейной же главное прошение о спасении собственной души.
— Значит, вы обо всех нас молитесь и поэтому у вас житие общее стало? — Митя шёл вприпрыжку и засматривал в лицо монаху.
— Да что ты скочишь, аки заяц? — сделал замечание дядька. — Иди степенно, как я. Я же не скакаю.
— Резвое дитя! — с некоторой ласковостью то ли одобрил, то ли осудил Восхищенный.
Митя в подтверждение своей резвости метнул шишку и попал великому князю в спину. Отец обернулся сердито, оскалившись.
Митя спрятался за дядьку.
— Ага, боишься? — сказал тот.
— Да у него зубы-то как у льва! — оправдывался Митя под общий смех.
— При особном житии одни голодают по многу дней, а у других ещё кое-что имеется про запас, — нерешительно сказал брат Фёдор. — А теперь если голодаем, то в равенстве. Да и не голодаем почти. Если только зимою, когда дороги заметёт.
— Слышишь? А ты хотел у них остаться! — остерёг Митя Восхищенного. — Живи уж у нас, я матушку попрошу. Будешь меня грамоте учить заместо Акинфа. Он стар стал и ленится.
— Ты и так учен, княжич, — грустно отказался Восхищенный. — Всюду я мимоходец, всюду только прохожий.
— Так насовсем тут останешься?
Монах опустил глаза.
— Если позволят. Бродячих иноков всюду избегают принимать. Тебе, княжич, только сознаюсь. Страсть во мне к передвижению, и к миру любопытство изжить не могу.
— Кто живёт порочно и бесчинно, но не гордится, не столь бывает оставлен Богом, как благоговейный, когда он возгордится, — говорил меж тем преподобный Ивану Ивановичу, — Это значит грешить против своего устроения, и от этого происходит оставление.
— Всякий ведь надеется на свои добродетели, — тихо проронил великий князь. — Кто же признает зло в себе и низменность?
— Вот и зря, выходит, надеемся. Пока не услышим о себе последнего изречения Судии, можем надеяться лишь на милость Его, а не на свои добродетели. А кто высоко самим жребием поставлен, утаивай благородство своё и не величайся знатностью. Если будем в душе сознавать, что каждый ближний нас превосходнее, то милость Божья уже недалёка от нас.
— Но как же это искренне, в полноте сделать? — вскинулся голосом Иван. — Вот там, сзади, идёт мой слуга Чиж. И он превосходнее?
— Лишь очистившись от страстей, увидишь душу ближнего и её устроение, — негромко возразил Сергий. — Посещением Духа Святого сии дарования ещё умножатся.
— Что делать мне? — глухо, как бы про себя, воскликнул великий князь.
— Впрочем, что говорим о богооставленности? — В голосе преподобного уже слышались и сострадание и утешение. — Это чувство посылается нам как испытание и многим ведомо. Кто не горевал, не сокрушался от такого сиротства? Но не есть ли то знак великой Его любви и благоволения? Бог не лишил бы тебя благодати и не допустил посрамления, если б не видел от этого великой славы и большой пользы для тебя. Ибо всё, что делает, Он делает ко благу. Потому и восклицал Златоуст постоянно: слава Богу за всё! Раны же душе нашей наносит не Он, но враг Его. Уныние — демону попущение, оно делает его сильным. И апостол Павел не столько самих бесов боялся, но чрезмерной скорби.
— А ты сам, батюшка Сергий, боишься бесов? — Это Митя подкрался неслышно и шёл теперь рядом, несмотря на грозные взгляды, какие кидал на него отец.
— Бесов-то? — добродушно переспросил Сергий.
— Ты их видел?
— Бывало, когда один жил. На молитве стоишь, а они дёргаются и скверности творят.
— Какие скверности? — Митя даже рот приоткрыл.
— Приступив, похваляются, что и землю истребят, и моря иссушат, всяко грозят, а сами власти не имеют даже и над свиньями, на коих ездят.
— Почему? — Митя радостно рассмеялся.
— Гордятся только да пугают, — скупо улыбнулся и Сергий. — Не поминай про них, а то они сразу тут как тут, будто их звали.
— Как же ты жил-то один в лесу, не страшно? — чтобы совсем успокоиться, допытывался княжич.
— Да это давно было! Молился в часовенке, кою сам срубил, а исповедовался и причащался раз в году на Страстной в ближайшей церкви. И всё.
Просека пошла под уклон, всё более сужаясь. Ярко-зелёные молодые вершины почти сомкнулись над тропой, утопавшей в сочной траве с наброшенной сеткой разноцветья — голубой, малиновой, розовой мелочи. Стало прохладнее, и тени ложились глубже. Из-за вётел вышел инок, высокий, почти как игумен, с бородой пышной, будто песцовая шкура, голубую её седину разделял полосой надвое остаток некогда тёмных волос. Косица была толста и кудрявилась. Во всём облике чувствовались сила и здоровье. Инок нёс большие деревянные ведра, полные солнечного блискания, и над каждым — маленькое радужное полудужье. Митя глаз не мог отвести от этих вёдер. Никогда он не видал, чтобы в вёдрах радугу носили.
— Благослови, отче, — сказал инок Сергию.
— Это брат наш Симон, — сказал преподобный, осеняя крестом монаха.
— Великому князю! — Инок поклонился Ивану Ивановичу поклоном привычным и свободным, какой соответствен людям сильным и неприниженным. Был когда-то Симон архимандритом в Смоленске. Достоинство чувствовалось в его поведении, в густом голосе, во взгляде, даже в том, как рукой земли коснулся. — Смотрю, комент — совет мужей знатнейших движется.
— Момент к колодцу движется, — поддержал шутку Сергий. — Грешу тщеславием, хочу показать, какие тут у нас перемены.
— Радуга! — не утерпел Митя.
— Солнце с водою забавляется, — сказал Симон. — Это старший твой княжич, Иван Иванович?
— Наследник.
Сердце у Мити на мгновение замерло, так ясно он расслышал гордость в отцовском голосе. «Я наследник», — повторял он про себя, и от этого слова, каким отец назвал его при самом Сергии, что-то стало в Мите новым и другим.
— Радуга есть знамение вечного обручения неба и земли. — Восхищенный со спутниками уже подковылял к ним. — Спасайся, брате! — приветствовал он Симона по монашескому обычаю.
— Спаси, Господи! — ответил тот.
— Колодец-то у вас новый! Слыхал я, слыхал. Чай, дозволите попить-то? Слух идёт, что целебная сила в нём.
— Ну, если слух такой, как же не дозволить! — согласился Сергий.
— Аль вправду сам вырыл? — всё любопытствовал Восхищенный.
— Бог помогал да вот брат Фёдор. А у тебя, смотрю, ноги болят?
— У-у-у! — для убедительности слегка взвыл Восхищенный.
— Иди тогда на речку Иншу. Там вода солёная. Там я отроком старца-монаха встретил... — Преподобный запнулся, тихая светлая тень скользнула по лицу его. — Старец сидел, ноги мочил, а потом так со мной шёл легко, что на пыли дорожной следов не осталось.
Все молча незаметно переглянулись. И только Овца удивился вслух:
— Да рази может человек в пыли следа не промять?
— Если будешь вкушать умеренно, паки речём, скудно! — с некоторою насмешливостью откликнулся Симон. — Я вот утучен от рождения, так что и не мечтаю.
— Надо тебе послушание более строгое назначить, — заметил Сергий вовсе не строго.
— Благослови, отче! — весело попросил Симон.
— Мы сегодня о чём ни заговорим, все апостола Павла споминаем. Он учил, жить надо тихо, делать своё дело и работать своими собственными руками. Вот и вся премудрость. — Преподобный кротко обвёл всех глазами.
— Не вся, отче! — подхватил Симон. — Паки речём: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите.
— Тут только начни споминать! Слова благодатные неистощимы. Ещё речём: не нужно бояться испытаний, но с терпением проходить путь земной жизни. — И Сергий со значением поглядел на великого князя. Или это Мите только показалось? Потому что другие ничего не заметили.
— Как всё-таки радуга загорается? — настаивал Митя.
Иван Михайлович дёрнул его за рукав, чтоб замолчал:
— Радуга воду пьёт и небо наряжает.
— Зачем пьёт?
— А вон смотри-ка, княжич! Там счастливые успокоились.
По другую сторону тропы, в лесу, на взгорье, виднелся погост с редкими крестами.
— Счастливые, потому что умерли?
— Потому, что здесь лежат.
— Почему?
— Честь большая.
— А я умру, буду с дедушкой лежать?
— Ты с дедушкой — в соборе Архангельском, там же и дядька твой Симеон Гордый спит.
— И ты тоже умрёшь?
— Конечно. Никто не минует.
— Я не хочу! — Лоб и нос у Мити покраснели от близких слёз.
— Ну, может; этого ещё и не случится... Нишкни!
Студенец, к которому вышли, был самый обыкновенный. Невысокий сруб под крышей ещё не потемнел. С кожаного ведра, стоявшего на краю, текли струйки, и грязца вокруг сруба была размята.
— Холодна ли вода-то? — обеспокоился Восхищенный, обходя колодец. — А глубина? Велика ли?
Ему не отвечали. Брат Фёдор черпал берестяным ковшиком в ведре и давал всем испить. Все крестились, как перед причастием, и пили истово.
А Митя не захотел.
— Не с чего пить-то, — сказал, давая понять, что трапеза монастырская была не слишком обильной.
Сергий не обиделся на это, совсем не обиделся:
— А ты угостись всё-таки! Тут вода живая.
— Вишь, по ней булька идёт, будто кипит она? Наверное, родничок на дне выбивает. — Восхищенный, как всегда, знал всё и обо всём.
— Кто её пьёт, богатырём растёт. — Брат Фёдор подал ковшик Мите, сочащийся и обжигающе ледяной.
Митя заглянул в сруб, где отражалось голубое небесное озерцо, и задумался. Испив, все притихли, будто главное дело сделали. Только Овца всё пил из свёрнутого лопушка, торопясь и задыхаясь, норовя как можно больше запасти в себе живительной влаги.
— Батюшка Сергий, скажи нам что-нибудь? — осмелился обратиться Дрюцькой, до того всё молчавший.
— Что сказать? Любите друг друга. Только любовь имейте между собою. Пока любите, живы будете и крепки. — Преподобный потупился, вытирая испачканные в грязи лапти о дернину.
— А что есть любовь? — второй раз спросил сумрачный Дрюцькой.
— Это чувство счастья, которое вызывает у меня человек своим присутствием, поступками и словами, — вдруг сказал великий князь.
— И боли? — пытливо поглядел на него Симон.
— И боли тоже.
— Кротость — матерь любви, — сказал преподобный. — Так учил Иоанн Лествичник. Бог — сама любовь, которая долго терпит и всё покрывает. Подумайте каждый о себе, сколько же Он нам прощает, как милосердствует, как надежду подаёт!
Митя не слушал, он сидел на краю сруба и, запрокинув голову, булькал водою в горлышке, потом звучно глотнул её. Капли стекали с подбородка. Митя взглянул улыбчиво и лукаво на Сергия:
— А откуда у тебя взялась вода живая?
— От земли, — сказал отец.
— Велением Господа, — одновременно сказал Сергий.
Митя опять глянул в тёмное зеркало, увидел там небо и облака, хотел черпнуть пригоршней, но не посмел нарушить спокойствия водяной глади, лишь переспросил:
— Велением?
— Его милостью и любовью к нам. — Худое лицо Сергия появилось рядом с Митиным и так и осталось навсегда в его памяти.
6
Иван чувствовал, что с ним творится небывалое: он забыл себя, забыл, что он великий князь и неверный муж, что ему почести подобают, что есть Орда и княжеские неуряды, что есть на свете грехи, горе, коварство, — остались лишь жалость ко всем и участие без страстей. Неужели это... и в мыслях молвить боязно... неужели дыхание Господа коснулось его, и он испытал наконец ласку и защиту? Даже обязанности представлялись теперь по-другому: не по роду и положению, а по велению закона братства, ведь все мы братья перед Богом, все дети Его. Мы ничего не принесли в мир, рождаясь, ничего не можем вынести, уходя. Жизнь безмятежна лишь в благочестии и чистоте. Мысли Ивана были спокойны, как тихое веяние воздуха, ясность снизошла на него, как будто прошлое и в самом деле миновало и всё обновилось. Кто отвергает обличения, отвергает и спасение своё. Он готов был принять обличения Сергия со скорбью, чтобы получить от него же и прощение. Но разве Сергий обличал? Нимало. Он только незаметно успокоил, и всё уравновесилось, тяжесть пропала. Монаху заповедано не быт?» судьёю чужих падений. Он и не судил. Тогда что же? Учил? Да ничему он и не учил. Он только отнёсся; с любовью, и этого оказалось довольно. Но оставалась в старце какая-то тайна и непостижимость при всей простоте и доступности для каждого. Это горнее, догадывался Иван. В церквах возглашают: горе имеем сердца! Но мало чьи сердца откликаются. Верно сказал купец, озабоченный, как бы поливу скорее продать: сподобился я здесь» видеть небесного человека и земного ангела, один у нас такой отец Сергий, но его хватит для всей Руси. Вот тебе и Овца! А глаголет преизрядно.
Кутаясь в плащи от вечерней прохлады, Иван с сыном ждали на паперти начала монашеского правила. Вечеру были ещё долги и светлы. Только дневную прозрачность, сгустили молочные сумерки, над лесом взошла бледно-розовая луна, и всё затихло, притаилось. Лишь слышались, короткие тупые звуки деревянного била, в которое ударял билогласитель, трижды обходя вокруг церкви. От луны тускло светился, мерцал розовым бедный крест на куполе Троицы.
— Сказывают, когда Сергий причащает, в потире иной раз огнь невещественный пылает. Так языками и вымсь тывает. — Восхищенный сидел на паперти, повесив голову, тоже ждал. Устал он сегодня, но хотелось очень исполнить тысячное иноческое правило, хотя знал, что по своей воле, без благословения, никакое правило править не дозволяется.
Задумчиво глядя на большую луну, Иван Михайлович сообщил Мите:
— А на Петровки русалки выходят из воды, когда месяц загорится, и пляшут на игравицах.
— А где у них игравицы? На берегу?
-— Там трава зеленее и гуще растёт. Везде трава и трава, а там — бархатом плотным стелется. По воде же, когда они пляшут, огоньки синие носятся туды-сюды.
— Вот ты боярин и христианин, а речёшь княжичу мерзкие язычества, — укорил Восхищенный. — Тогда нечего и по монастырям ездить.
— Ты сам в притворстве и речёшь блядно, — обиделся Иван Михайлович. — Думаешь, всех обхитрил и никто ничего не видит? В гордыне тайной состоишь, необуздан, аки жеребец нехолощёный. Хочешь посередь всех блистать, аки бисер в кале, и мечешься меж смирением и превозношением.
— Я в чистоте сердца и ума состою, но не в гордыне, — важно ответил Восхищенный. — А достигаю того созерцанием и молитвою в созерцании, что тебе недоступно по неизбранности твоей.
— Ты, можа, воопче ангел? — пустил насмешку ухабничий.
— Ангелы не имеют чувственного гласа, но умом приносят Богу непрестанное славословие, — осадил его Восхищенный.
— Да разве тебя переговоришь? — махнул рукой Иван Михайлович.
— Вернёшься, станешь путным, боярином, будешь пушными угодьями управлять, звероловством, — сказал Дрюцькому Иван Иванович.
— Будь по-твоему, великий князь, — обрадованно поклонился ухабничий.
— Бобрами и лисицами станешь управлять? — вмешался Митя.
— Тако же зайцами и волками, княжич!
— А не дай Бог случись что со мною, митрополит Алексий соправителем будет при сыне моём в пору его малолетства, — продолжил великий князь.
— Да ты что! — раздражённо удивился Иван Михайлович. — Не было николи этакого! Чтоб предстоятель был ещё и управителем государства!
— А теперь будет.
— Обычай прадедов переиначить хочешь? Бояре тебе не позволят. Возропщут!
— Замолчь, змей старый! Тебе ли замыслы мои судить? — разгневался князь.
— А почему не Сергий, батюшка? — робко вставил Митя, которому хотелось Сергия в соправители.
— Потому что он не митрополит и даже преемником у владыки Алексия быть наотрез отказался.
— Али преосвященный хотел? — даже привскочил Восхищенный, предвкушая, как разнесёт по монастырям сию новость.
— А Сергий сказал: смолоду я злата бегал, теперь потщусь ли о нём?
— Да, величайшая простота и скудота жизни! — одобрил Восхищенный, стараясь запомнить в точности ответ преподобного митрополиту.
Чёрными бесшумными тенями сходились монахи на правило, каждый положив три земных поклона на паперти. Последовав за ними в полутёмный притвор, Митя оглянулся: ранняя луна наливалась багровым огнём.
Игумен стоял перед царскими вратами, которые, как сказывали, сам и украшал деревянной резьбою. Он начал с земным поклоном:
— Боже, очисти мя грешного и помилуй мя!
Все поверглись вслед за ним на пол.
— Создавый мя, Господи, помилуй мя!
Опять упали ниц.
— Без числа согреших, Господи, прости мя!
Митя услышал голос отца и Ивана Михайловича, увидел краем глаза, как они повалились вместе с монахами. Очисти, помилуй, прости! — столько силы было в общем шёпоте, что мурашливая дрожь охватила тело и душа сотряслася. Так скорбно, так жарко взывали, что показалось, будто произошло нечто в храме, будто раздалась невидимая завеса в дымном воздухе и страдающий Христос преклонил слух Свой. Надтреснутый голос Сергия уносился в вышину под купол и замирал там, потом — стук колен об пол, а в промежутках в тишине лёгкое потрескивание лучин и шипение угольков, падающих со светцов в воду.
Как не похожа была эта суровая простота на то, к чему привык Митя в московских соборах: блеск, игра каменьев, искры на окладах, лучистое сияние множества душистых восковых свечей. Здесь толстые сальные свечи горели только перед иконостасом, лампады теплились тускло, паникадила не было вовсе.
— Боже, милостив буди мне, грешному!
Новое со стуком повергание наземь.
— Боже, прости беззакония моя и согрешения!
Митя видел, как лоснится от слёз лицо купца, с каким мрачным огнём в глазах отбивает поклоны ухабничий, как размашисто осеняет себя крестом отец и падает лицом вниз, простирая руки к образу Троицы.
Единой волною, повинуясь возгласам Сергия, катились по храму зовы к Богородице, ко Кресту Господню, к небесным силам, святым ангелам и архангелам, славным апостолам, пророкам и мученикам с мольбами о помощи в жизни сей и во исходе души — в будущем веке. Не стало святого и грешного, отрока и старика, знатного и убогого — всё сделалось одно общее дыхание, славящее Бога, просящее милости, требующее Его любви. Стал единый духовный вопль: услыши, Господи, глас молитвы и приими и не возбрани грехов, ради благодати Твоея!
Нескончаемое качание волны человеческой: низвержение в покорности, восставание в надежде: благослови, освяти, сохрани!.. То вдруг замолкли, перестали кланяться и просто встали.
— Дядька, чего они? — Митя дёрнул за руку Ивана Михайловича.
— Молитву Иисусову творят про себя. И ты твори.
— Почему они то в пояс, то оземь?
— В пояс — Богородице, оземь — Христу. Устал?
— Нету.
— Тогда молись, соколик.
— Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно, и во веки веков! — разнёсся слабо-звонкий голос Сергия, и Митя увидел, как почему-то огни свечей и лучин, колеблемые воздухом из стороны в сторону и чадящие, стали прямо, вытянулись, прозрачно-золотые и будто твёрдые, без трепетания.
Ещё молились, и пели, и читали, совершая строгое иноческое правило. Не сон и не явь. У Мити немного кружилась голова, хотелось сесть, прислониться к чему-нибудь. Но все вокруг стояли с утомлёнными лицами — как же он себе даст послабу?
Уже зачадили, загасли лучины в железных светцах, стало почти темно, огоньки на свечах еле теплились, воздух в храме сделался спёртым.
Сергий вышел на амвон и поклонился стоящим в ноги:
— Благословите, братия, и простите мне, грешному, елико согреших...
Братья в свою очередь, как листья с дерева, попадали перед ним. Лишь один беленький старичок со слезящимися глазами оставался стоять, говоря громко, внятно:
— Бог да простит тебя, отче святый, нас прости и благослови.
Митю поразило, что Сергий, которого чуть ли не в глаза называют земным ангелом, чьё благословение за счастье почитают, так искренне и смиренно просит прощения. Разве у него есть грехи? Разве здесь грешат? Зачем и о чём они просят? Что значит согрешить сердцем или мыслию? И разве сон — тоже грех? Согрешили мы, говорят, сном и леностию. А Симон даже в праздники из колодца ведра носит, и Сергию не во что приодеться. Почему так жестоки монахи к своим грехам, которые мирские люди ни во что считают?
Когда растворились двери храма, ночной воздух охватил, облил сырою свежестью, внутри же каждого выходящего были тишина и тепло.
Сергий отдельно благословил Митю:
— Так, княжич, жаждущий пусть приходит и берёт воду жизни даром. Понял ли ты о живой воде?
— Д-да, — с запинкой ответил Митя, — только сказать не умею.
— Разумение не только словами постижимо. Ничто другое не утолит полнее и слаще этой Его воды.
От Сергия пахло дымом, лесом и ещё чем-то чистым, как бы ветром-луговиком.
— О чём вы молились? — спросил Митя, почему-то радуясь.
— Монахи молятся за тех, которые сами не могут иль не умеют. Но мы не наёмные молитвенники.
— Вы всех жалеете? Весь мир, да? — озарило Митю. — А то зачем же к вам ходят?
— Через монахов люди за Небо хватаются, — загадочно ответил преподобный. — Наша цель — спасение души, а через монашеское дело — спасение людей.
— А они ведь и не знают, что вы об них тужите!
— Ну что ж! Бог-то знает!.. Да и люди знают. Только не всё.
7
Хотя они были тут, рядом, чуть сзади — и отец и Сергий, — всё-таки Митя жалел, что лук не с ним.
Косые столбы лунного света вламывались меж сосен на дорожку, отчего всё казалось призрачным, бесцветным: и трава и лица, даже голос отца стал незнакомым:
— Грешил унынием, других осуждал, себя же нет, был безрадостен и заповеди преступал. Никого не убил, но и никого не осчастливил. Крепости духа лишён, мыслию вилюч и развязен.
— Ты родил сына.
— Эка, — вырвалось у Ивана.
— Ты родил сына, который...
— Что?
— Рано говорить об этом.
— Хочу попросить, отче, чтоб принял под своё духовное покровительство воспитанника моего, княжича Владимира.
«Почему не об Иване Малом прошу?» — подумал, но что сказано, то уже сказано.
— Ты сироту в своей семье содержишь? — отозвался Сергий. — Похвально сие. И вдова князя Андрея под твоим крылом?
-— Хочу, чтоб у сына моего и у братанича был один духовный отец. Если же Митя ещё в детстве великим князем станет, соправителем с ним будет митрополит Алексий.
Сергий не стал удивляться и возражать, как всякий бы на его месте поступил: да что ты, мол, почему в детстве, ты сам ещё молодой? Он только повторил:
— Похвально сие. — И сердце у Ивана упало. Это ведь он преподобного о конце своём испытывал, о сроке своём. Сергий помедлил и добавил: — Разумно решение твоё.
— Благословляешь? — задушенно спросил Иван.
Сергий перекрестил его:
— На добрые дела. И на прощание.
Ивану опять стало не по себе, снова показалось, что в словах старца двойной смысл и что прощание — навсегда. Но пересилил себя, сказалось особое состояние, охватившее его в монастыре, трудно переносимое сочетание величия и простоты Сергия. Он милосерден, он не может говорить надвое, он не пророчествует и ничего не предсказывает.
— Утром уедем. А тебе, отче, должно, на покой пора, утомили мы тебя нашим вторжением?
— Бдение предписано монахам. Если хочешь, побудем вместе до полунощницы.
— Как, опять на молитву?
— Полночь — время сокровенное. В этот час бодрствовать и молиться подобает не только иноку, но каждому христианину.
— А мне спать хочется! — заявил Митя.
— Так подремли у батюшки на коленях, а мы вот тут на скамье у келии поместимся.
Митя прижался к отцову плечу, настороженно вглядываясь в черноту леса, разрезанную жёлтыми лезвиями лунных лучей.
— В полночь совершается нечто таинственное в мире видимом и в человеке, — тихо говорил Сергий.
Митя метнул глазами по сторонам, ведь зоркость у него, как ни у кого больше. Но нигде пока ничего не совершалось, даже зверь нигде не хрустнет, птица не завозится; наверное, все уже почивали.
— В полночь совершился суд Божий над Египтом и исход евреев из земли египетской. И второе Своё пришествие Господь совершит в полночь же.
— Откуда знаешь? — не утерпел Митя.
— Грозный суд над жизнью мира произойдёт в час полуночный. Из Евангелия, княжич. Полуночи же вопль бысть, се Жених грядёт, исходите во сретение. А в последнюю полночь, Митя, труба архангела всех спящих пробудит и соберёт на суд нелицеприятный. И горе тем, кому будет сказано: а вы отойдите, ибо не знаю вас.
Столько горечи и жалости было в голосе Сергия, что Митя вздрогнул, представив себе, что вдруг и ему скажет Христос: иди, не знаю Я тебя!
— А почему им так скажут?
— А грешили! — просто ответил Сергий. — Заповеди преступали.
— Я никогда не буду грешить! — горячо пообещал Митя.
— Хорошо бы так-то. Но безгрешных не бывает. Ты хоть старайся, и то ладно. Да кайся почаще. В полночь же и Христос родился.
— И воскрес в полночь, — подсказал Митя.
— А Иуда что?
— Предал и привёл воинов в полночь забрать Христа.
— А Пётр?
— Отрёкся, пока ещё петухи не пели.
— Но каждую полночь после вставал он и оплакивал своё отречение.
— Ты его жалеешь?
— Очень. Каково-то ему было! Отречься по слабости от Того, Кого любил больше всего... Так что вот какое значение час полночный имеет, почему и подобает монаху вставать в этот час на молитву, чтобы, если придёт Христос, не застал бы нас спящими, и особенно должно молиться за спящий мир, где души остаются во сне беззащитными, а злые духи нападают на них с яростию.
— А кто эти духи?
— Призраки соблазнительные и неистовство всякого рода. Но главное — не унывать. Ты, чай, знаешь, что это самый большой грех?
— Я никогда не унываю, — заверил Митя…
— Ну, что тут скажешь! — всплеснул руками Сергий.
Иван Иванович укутал сына в свой плащ поплотнее.
Митя приник к его груди и, задрёмывая, слышал, как где-то в лесу рубят дерево. Отдалённый стук топора замирал и возобновлялся, замирал и возобновлялся. Митя хотел сказать об этом, но сон сморил его, и, уже совсем засыпая, он понял, что это стучит в груди отца сердце — неровно, с остановками.
Великий князь чувствовал себя плохо. Никогда ещё так не бывало. За грудиной пекло, и под левой лопаткой словно кол воткнут. «Надсадился я всё-таки с телегой в овраге-то», — думал. Лечь бы, но удерживало желание побыть с Сергием, будто не всё досказано, не всё переговорено.
— Что есть дух человеческий, отче?
— Дар Божий для всех, но растёт он и движется по воле человеческой, по воле души и тела в сторону добра или зла. А когда он боле не растёт и вполне прилепится к тому аль другому, тогда время покаяния заканчивается и призываемся на суд ко Господу.
— И тогда грешных варить в котлах начинают? — мрачно усмехнулся Иван.
— Наверное, блаженство праведников в том состоит, что в вечном бессмертии познают они любовь божественную в полноте её. Дух же злодеев и богоборцев отвергнут будет и предан дьяволу и тёмным силам его, а от Бога отчуждён — в том и состоит мучение, в отраве невыносимой, которую таят в себе зло и ненависть, всевозрастающие от непрестанного сообщения с сатаной.
— Так что же, Бог мстит и карает? Тут мы страдаем в жизни кратковременной, а там, выходит, ещё хуже будет? Где тут милосердие и кротость Его?
— Никого не вини, — тихо возразил игумен, почти невидимый в тени старой могучей сосны, тогда как всё вокруг заливал яростный свет полной луны. — Наша воля свободна. Никто не нудит к добру, зло же наступательно. Справедливость Творца нашего в том, что всякий человек получает и имеет дыхание Духа Святого. Никто не рождается от сатаны. Но если позволяем злу победить души наши, клонимся к нему и любим его, ибо оно обольстительно бывает, тогда свет Христов затемняется в нас как бы тучами и мы уже во власти дьявола, ему служить начинаем, сами того не замечая.
— Темно говоришь, — молвил Иван.
— Разве? По-моему, совсем ясно и просто. Только признать это трудно в себе.
— А бессмертие? Что же, наши немощные и отвратные тела опять оживут? Зачем, отче? Не на посмех ли дьяволу?
— Не труп гниющий воскреснет, сын мой, но тело духовное, полное сил и славы нетленной. Сказано же: се творю всё новое!
— Как колос вырастает из зерна, зарытого в землю?
— Можно и так сравнить. Мы не знаем, каким было тело Воскресшего. Апостолы Лука и Иоанн свидетельствуют, что оно могло проходить сквозь запертые двери или внезапну исчезать, но оно было истинным, осязаемым. Может, и наши тела будут подобными по воскрешении в жизнь вечную, если прощены будем и заслужим её?
— А твари бессловесные? — допытывался Иван.
— В тихой радости жить будут. Они духом не наделены и совершенствовать его не могут. Их только перестанут мучить и истреблять. И лев возляжет рядом с агнцем.
Иван, сидевший до того неподвижно, вдруг завозился, снимая одной рукой с шеи крест.
— Ты что? — спросил Сергий.
— Крест хочу Мите надеть, который святитель Пётр батюшке нашему завещал, чтобы по старшинству передавать, Семён его для меня снял, а я хочу — Мите.
— Ну, отдай, — тихо сказал преподобный.
Полуразбуженный Митя выговорил так ясно:
— А вот она, вода живая!
Была глубокая ночь.
До поля Куликова оставался двадцать один год.
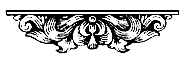
Назад: Глава тридцать седьмая
Дальше: Эпилог

