Книга: Смешные и печальные истории из жизни любителей ружейной охоты и ужения рыбы
Назад: СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ
Дальше: ПЕРВАЯ ЧЕРНОБУРКА
ТЮТЮНЯ
 водить профессора на охоту нас упросила Валентина. Вернее, не упросила, а просто сказала, чтобы мы сходили с ним и сделали так, чтобы он подстрелил какую-нибудь дичь. Даже, если промахнется, чтобы дичь ему нашли. И при этом так на нас посмотрела своими красивыми, бездонными, лучистыми глазами, что разумная половина нашего мозга моментально отключилась. Остались одни рефлексы. Как два легаша, мы сделали стойку и посмотрели друг на друга: кому стрелять?
водить профессора на охоту нас упросила Валентина. Вернее, не упросила, а просто сказала, чтобы мы сходили с ним и сделали так, чтобы он подстрелил какую-нибудь дичь. Даже, если промахнется, чтобы дичь ему нашли. И при этом так на нас посмотрела своими красивыми, бездонными, лучистыми глазами, что разумная половина нашего мозга моментально отключилась. Остались одни рефлексы. Как два легаша, мы сделали стойку и посмотрели друг на друга: кому стрелять?— Я их с женой в следующую пятницу привезу, к вечеру. И вы приходите к Тютюне, приглашаю вас «деликатным манером чай кушать».
До глубокой старости Тютюня остался Тютюней — ни имени, ни отчества, ни фамилии, одно прозвище с детских лет. Даже дочь звала его Тютюней. Про таких говорят: под дурачка рядится. Все хи-хи, да ха-ха. С нас, мол, какой спрос, с дурачков-то? Люди друг друга поедом ели, внимательно следили, чтоб ни у кого ничего не оказалось лучше, чем у других. А на Тютюне завистливые взгляды не останавливались: что с него возьмешь?
Когда сокрушали кадницкую церковь, Тютюня под покровом ночи уволок домой все полутораметровые алтарные иконы и обил ими стены сарая, где держал свиней. Те, кому он показывал с тех пор своих дородных боровов, таращили глаза на темные, изъеденные по низу ядовитой свиной мочой доски и незаметно крестились. А со стен на них смотрели равнодушные лики мучеников и суровый, весь в красном огне Спас Нерукотворный. Атеисты не осудили Тютюню за спасение икон — большего глумления над святынями трудно придумать. Верующие тоже не осуждали. Во-первых, худо-бедно, а иконы спас. Во-вторых, у всех почти в хлевах были прибиты к стенам иконки, оберегавшие скотину от болезней, порчи и сглазу.
Все свое добро Тютюня нажил, не вызывая ни у кого раздражения, кланяясь и вашим и нашим. Но вдруг все переменилось в одночасье, когда красавица Валентина, закончила мединститут, устроилась в Горьком на работу стоматологом и вышла там же замуж. Увидев свадебный кортеж с лентами и колокольчиками, соседи вдруг схватились за голову и едва не завыли от досады: дом — полная чаша, у зятя — машина, к дочери на прием в очередь встают! Отвернулись от Тютюни и наши и ваши, стали случая выжидать. А случай, он всегда подвернется. Набрал как-то Тютюня около церкви битого кирпича и засыпал им дорожку в саду. Тут кто-то и вспомнил, что на церкви-то недавно повесили табличку «Охраняется государством». И, хотя никакого государства ни с ружьем, ни с колотушкой около церкви никто никогда не видел, а народ давно уже разобрал полы, перекрытия и листы металла с куполов, Тютюню привлекли. Решающим же для него оказалось то, что на этот раз его нашли, за что осудить, и атеисты и верующие. Смололи Тютюню безжалостно между двумя жерновами, и взялся он пить.
Валентина, видя как приходит хозяйство в убыток, поначалу стала помогать родителям деньгами, а как дошло до нее, что отец все пропивает, стала натурой помогать: то мужиков наймет крышу перекрыть, то огород перекопать, то родителей обует-оденет. Сметливая и хозяйственная в отца, быстро дом обставила. А как с мужем развелась, так вовсе мужиком себя почувствовала, стала на выходные в деревню на «Жигулях» приезжать и отцу выговоры учинять.
Теперь ей зачем-то понадобился профессор, и она решила подобраться к нему с незащищенной стороны.
— А он охотник? — пролепетал я, не отрывая взгляда от ее глаз и сглатывая слюну.
— Говорит, что охотник заядлый. Только и разговоров, что об охоте. Так, ждать вас?
— Придем обязательно! — хором выпалили мы с братом.
Стояла золотая осень. Бабье лето баловало теплом. Спелые плоды налились ароматной мякотью так, что ветви под их непомерной тяжестью поникли до земли. В золотеющем к вечеру воздухе плыли надсадами прозрачные паутины, и последние пестрые бабочки не спеша нежились в бархатных шапках последних цветов.
Едва дождавшись вечера пятницы, мы с братом принарядились и отправились к Тютюне.
Валентина еще не приехала, и мы поднялись по старенькой лестнице с ажурными балясинами на верхний этаж, где в летней кухне шкворчало масло на сковородках, звенели кастрюльки и рождался, расползаясь по всему дому, многообещающий запах жареного лука. Глуховатая баба Груня, мать Валентины, готовила яства. Мы поздоровались и поинтересовались, где Тютюня. В этот самый момент раздался откуда-то снизу звон разбитого стекла и нечеловеческий вопль:
— А-а-а-а-а-а-а-а!!! Помоги-и-и-те-е-е-е-е!!!
Мячиками мы скатились с братом по той же лестнице на первый этаж и ворвались в комнату, из которой доносился крик. Там, на четвереньках в луже какой-то жидкости, быстро протекающей в щели пола, ползал среди осколков трехлитровой банки Тютюня и орал. Едва мы вбежали в комнату, как крепкий дух первача едва не вытолкнул нас обратно. Увидев людей, Тютюня протянул в мольбе руки и заголосил:
— Помогите как-нибудь, если люди вы!
— Да что помочь-то? Как? — воскликнул брат, разводя руками.
— Выжимайте половики в таз! — осенило Тютюню.
Мы подняли пестрые домотканые половики и принялись их скручивать над побитым эмалированным тазом. Тютюня промокал свободными концами дорожек исчезающую на глазах влагу, плакал и с ненавистью отшвыривал голубоватые осколки. Когда мы уже втроем ползали на коленях вокруг таза, выжимая в него последние землистого цвета капли, в дверях раздалось:
— Так!
В проеме стояла Валентина. Руки в боки. Такое выражение лица было, по всей видимости, у статуи Командора, когда он навестил Дона Жуана в покоях своей вдовы.
— Зачем же отжимать, вы их сразу сосите! — посоветовала Валентина ледяным голосом.
Глуповато улыбаясь, мы с братом поднялись с пола и принялись нерешительно оправдываться.
— Так! — не дослушав нас, приняла решение Валентина. — Вот тебе на водку, — она достала из сумочки деньги и протянула отцу. — И до завтрашнего утра не показывайся дома. Переночуешь у деда Сани.
Слезы в одночасье высохли на страдающем лице Тютюни, и оно посерьезнело, будто ему поручили важное дело. Расторопно выхватив хрустящие бумажки, Тютюня скрылся за дверьми, успев крикнуть на ходу: «Здравствуй, дочурка».
— А где профессор? — поинтересовался брат, словно собирался немедленно взять его в оборот.
— Сейчас они у церкви. Я им рассказывала, как в кино снималась. А вы помогите мне сумки дотащить до кухни.
Валентина действительно снималась в кино, о чем любит вспоминать. Причем дважды, но знают об этом только местные жители и те, кому она успела об этом поведать. Дело в том, что кадницкие красоты привлекали внимание нескольких поколений советских кинорежиссеров. В доме, который купили мы с братом, снимались отдельные сцены фильма «Екатерина Воронина» с Хитяевой в главной роли. Андрон Михалков-Кончаловский, снимавший в соседнем селе Безводном свою «Историю Аси Клячиной…», не смог удержаться, чтобы не дать с самой верхней точки обзора, от церкви панораму Кадниц — от места впадения Кудьмы в Волгу и вниз по течению Кудьмы. А много лет спустя та же панорама, но уже не осенняя, а летняя, была повторена в музыкальном фильме «Как стать звездой». Так вот, в той и в другой панораме Валентина оказалась запечатленной. Сначала ребенком, а потом уже взрослой девушкой. Правда, понять то, что в кадре мелькнула именно она, да и вообще, что это был человек, смогла только сама «артистка», а потом и ее родители, благодаря чему вся деревня теперь знает о кинематографическом прошлом Валентины.
Когда сумки с деликатесами были внесены наверх, баба Груня приступила к сервировке стола так, как делала это всю жизнь. Дочь тут же отправила ее назад, в кухню и взяла решение этой деликатной задачи на себя. Вскоре поблескивающие в заходящем медвяном солнце мельхиоровые приборы оказались на своих местах, тарелки сверкнул и девственной чистотой, готовые принять в свое лоно не сало с чесноком и даже не студень с душераздирающей самодельной горчицей, а никак не меньше, чем эскалоп со сложным гарниром, картошку фри, темное мясо домашней жирной утки или кусочек севрюжьего филе под сводом запотевшего бокала «Гурджаани». Струи аромата от жареного лука фонтанировали теперь из центра стола, витая по всему дому и стараясь обнаружить нас с братом, а обнаружив, они удовлетворенно заставляли нас сглатывать слюну и слушали, как та с плеском падает в пустой желудок.
С маленьким лысым профессором и его щупленькой длинноногой женой, годившейся ему во внучки, мы знакомились, сгибаясь, как японцы. Во-первых, нам велено было изображать из себя аборигенов, никогда в своей жизни не видевших профессоров так близко, а во-вторых, мы боялись, что измученные ожиданием ужина желудки пропоют что-нибудь непристойное в самый ответственный момент.
Профессор был удовлетворен увиденными красотами, умиротворен и даже настроен пофилософствовать.
— Я думаю, — многообещающе начал он, не без удовольствия осматривая наши подобострастные лица, — Наши далекие предки, жившие в таких вот местах, откуда виден простор бесконечный, колыханье безбрежных лесов, разливы рек, подобных морям, были более интеллектуальны, чем те, что жили в лесных чащах. Если, конечно вы понимаете, о чем я, — он снисходительно улыбнулся благодарным слушателям.
Не переставая кивать со счастливой улыбкой на лице, я молился о том, чтобы он не начал говорить о русской деревне или, хуже того, читать стихи.
— А вы знаете, я неплохо декламирую, как говаривали в старину, — сообщил профессор, а я подумал, не ученик ли он Вольфа Мессинга. — Моим сотрудникам, во всяком случае, нравится.
При этих словах молодая жена профессора, стараясь сделать это незаметно, закатила глаза и свернула лицо на сторону, будто у нее заболели зубы.
— Пожалуйста, прочтите что-нибудь! — с надеждой прошептала Валентина, увлекающаяся поэзией, как наш кот Васька философией Спинозы.
Не позволяя долго себя упрашивать, профессор глянул с прищуром как бы вдаль и принялся «декламировать, как говаривали в старину», во весь голос:
— Россия! Деревня! Лето!
Россия! Весна! Деревня!
Каким-то манящим светом
Сияют твои деревья!
Потом он переместил взгляд с комода на окно, давая понять, что с летом и весной уже покончено, и, нежно заулыбавшись, продолжил:
— Россия! Деревня! Осень!
Раскошен откосами храм,
И сонно-полынная просинь
Плывет паутиной к полям!
И, наконец посерьезнев, как бы углубившись в себя, он закончил полным патетики голосом:
— Сюда! Пусть незваным, пусть в гости
От горя, тоски и ума,
Где вечный покой на погосте!
Россия! Деревня! Зима!
— Милости просим к столу! — пригласила счастливая баба Груня гостей, не дав дочери изъявить профессору восторги по поводу прочитанного. Валентина зыркнула на нее, но взгляд пролетел мимо невнимательной бабы Груни. Едва услышав про стол, профессор мгновенно забыл о декламации, плотоядно осмотрел яства и ласково произнес:
— Какая прелесть!
Колючий взгляд Валентины вновь наполнился лунным светом, и ее красивые губы осветила улыбка Снежной Королевы.
— Угощайтесь, — несколько поздно проворковала она, — у нас просто.
Зазвенели приборы о фарфор. Мы с братом, изображая аборигенов, путали местами ножи и вилки, клали локти на стол и наливали сухое в стопки для водки.
— Вот говорят, — начал после первого традиционного тоста за хозяев профессор, что нижегородцы, как и все волжские, «ворочают на о», то есть окают. А я обратил внимание, возвращаясь из довольно-таки частых загранкомандировок, что у нас, извините, якают. То есть в деревнях, конечно же говорят на «о», но в городе-то этого давно уже нет, а вот редиску и в городе называют «рядиской». В то же время слово тысяча у нас произносят правильно, тогда как в Москве говорят «тысеча»…
С другими лингвистическими наблюдения профессора мы не успели познакомиться. На лестнице послышалась тяжелая поступь человека, стремящегося во что бы то ни стало преодолеть земное тяготение и подняться по ступенькам вверх. Немая сцена, в течение которой взгляды полные любопытства, недоумения, ненависти и отчаяния были устремлены на дверь в залу, продолжалась недолго. Широко распахнув ее, нашим взорам предстал счастливый Тютюня, еле держащийся на ногах.
Профессор, недоуменно улыбаясь, посмотрел на скрипевшую зубами Валентину. Обратив к нему все еще перекошенное лицо, она постаралась взять себя в руки, и лучистая улыбка сравнительно быстро разгладила сведенные мышцы скул.
— Это мой папа, — представила она голосом кисейной барышни и, как заботливая дочь, обратилась к Тютюне: — Что же ты там стоишь, папа? В дверях правды нет, садись с нами повечерить.
— Да у нас гости, никак? — радостно воскликнул Тютюня, обводя мутным взглядом стол и стараясь самостоятельно добраться до него по одной половице.
— Да, папа, — продолжала любящая дочь, — это профессор…
— Выпивку на стол! — не дав закончить дочери, воскликнул хозяин дома, сразу посуровев с лица. — Чтоб у меня дома, да гостей не угостить!
— Да, спасибо! Все в порядке! Угощение просто прекрасное! — залепетал профессор.
— Не бывать такому в моем доме! — распалялся Тютюня, не слушая профессора.
Видя безвыходность положения, Валентина посмотрела на нас с братом просительным взглядом, но мы только пожали плечами. Обреченно вздохнув, она кивнула матери головой, и та достала из буфета бутыль самогона.
Заметив стеклянную емкость без этикетки с полупрозрачной жидкостью и самодельной пробкой, Тютюня просиял и поинтересовался:
— По каким наукам проферствуете?
— Я профессор белой магии, почетный академик Международной Астрологической Академии, — отрекомендовался толстячок.
Спазм сдавил мне горло, и я поперхнулся, едва не обдав весь стол фонтаном мелких брызг терпкого и ароматного «Гурджаани».
— Это, которые звезды, что ли? — высказал догадку Тютюня, пока я пытался прокашляться брату в карман.
— Отчасти, — снисходительно улыбаясь, согласился профессор.
— С Королевым работали? — продолжил допрос Тютюня после первой.
— С Сергеем Павловичем мы встречались в астрале.
— Там жарко, поди, в Австральи-то? — без тени улыбки спросил Тютюня и снова пригубил. — Хоць бы лапьшичьки сварила, а то все щчи, да шчи! — вдруг неожиданно сменил он тему разговора и собеседника.
— Тия сомово сворить! — резко возразила молчавшая до сей поры баба Груня и, ища у гостей сочувствия, быстро выговорила наболевшее: — Пойду, баит, погляжу, бродит ли. Раз поглядел, два поглядел. А мне, дуре, и не в сметку. Зашла в чулан, а уж брага-то вся убряла! — закончила с отчаянием баба Груня, подтверждая произношением последнего слова справедливость филологического открытия профессора белой магии.
Потеряв контроль над происходящим, Валентина сидела, уставившись в стол, и ждала, чем кончится весь этот кошмар.
Заметив, что Тютюня заснул, не дождавшись окончания монолога обиженной супруги, мы с братом подхватили его под руки и уволокли из залы в надворную летнюю спальню, где он уткнулся в душистый матрац, набитый сухим клевером, и обмяк в объятиях с Вакхом и Морфеем.
Все то время, пока мы отсутствовали, профессор тактично не замечал происходящего. Он смотрел в окно и что-то объяснял жене, показывая пальцем на молодые, зажигающиеся в зеленом у горизонта небе звезды. Валентина пришла в себя и посмотрела на нас с благодарностью, отчего мы переглянулись и, заметив друг у друга в глазах явную надежду, враз посуровели.
— Я тут объясняю моему ангелу, — профессор поцеловал аккуратную ручку жены, — что нынче на охоте нас ждет удача, господа!
Мы с братом вновь переглянулись, на сей раз с изумлением. Мы рассчитывали отправиться завтра, а сегодня идти на вечернюю зорьку было уже поздно. Если только немедленно плыть на катере на Капустник.
— Вон видите, — продолжал между тем профессор, — Марс в знаке Стрельца. А что это означает? Это означает, что Козерогу сегодня должно повезти, а я как раз Козерог! — радостно сообщил он.
— Это чувствуется, — еле слышно прошептал брат и вслух добавил: — Тогда пора идти, а то стемнеет того гляди.
— Как, уже? — удивился профессор. — Что ж? Я готов! — произнес он так, будто согласился стреляться с прожженным бретером-дуэлянтом, и окинул печальным взором благоухающий деликатесами стол.
По дороге настроение профессора вновь исполнилось лиризма, и он принялся эмоционально рассуждать о том, что нет ничего зазорного и постыдного в том, что мужчине, если он настоящий мужчина, доставляет удовольствие вид оружия, а держать в руках полированную шейку приклада и вороненую сталь ствола — одно из величайших наслаждений в мире.
В быстро завоевывающей свет тем ноте мотор смолк, и катер ткнулся носом в податливые кусты тальника, полные синей ночной прохлады. Пока я разбирался, к каким бы ветвям привязать катер, профессор, не говоря ни слова, ловко спрыгнул за борт и погрузился по грудь в воду.
— Как тут неожиданно глубоко, — произнес он с ноткой игривости в голосе, пока мы с братом пытались понять, что произошло.
На берегу, стуча от холода зубами и сливая воду из сапог, профессор заверил нас, что с ним все в порядке, все происшедшее — пустяки, обычное дело для охотника, если он настоящий охотник.
На ощупь, по памяти мы добрались до знакомых стоянок в зарослях камышей и зарядили ружья. Свою двустволку я отдал профессору, стараясь ненавязчиво поднимать к небу все время опускающиеся в кусты стволы. Брат ушел шагов на пятьдесят вправо.
Судя по смолкшей канонаде, которая была слышна, пока мы ужинали, собирались и плыли к месту, лет подошел к концу или уже закончился.
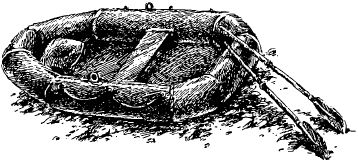
— У Розенбаума мне больше всех песен нравится «Утиная охота», — предался откровениям профессор, пока я старался высмотреть в мутном небе хоть какое-нибудь движение, но кроме козодоя, беспечно кружащего вокруг нас бесшумной тенью, ничего не видел.
— Как это здорово: «Из полета, или как там, возвратятся утки на озера, или что там, с голубой водой», — самозабвенно продекламировал он вполголоса и вдруг вскинул ружье к плечу.
Огонь из правого ствола вспорол ночную тьму, но оглушительный залп позволил тем не менее расслышать, как дробь срезала на своем пути метелки десятков камышей. Профессор слегка отшатнулся. Онемев от такого оборота событий, я потянул руки к ружью, но профессор мягко увильнул, произнося:
— Ничего, ничего. Отдача не сильная. Сейчас я ее доберу.
С этими словами он повел стволами в мою сторону на уровне лица. Я молча упал и, падая, услышал новый выстрел и шум срезаемых дробью камышин.
Если выбросить из последовавшего за этим стремительного пятиминутного словоизлияния брата, скоренько подбежавшего к нам, все непечатные выражения, то кроме предлогов и междометий там останутся только три первые слова: «ты», «что» и «козерожина». Увидев, что профессор пальнул по козодою, которого в конце концов заметил и принял за утку, брат на всякий случай решил схорониться и лег в траву. Второй заряд дроби кучно просвистел над его головой. Зная, что патроны у меня, и догадываясь, что я уже не позволю профессору перезарядить ружье, он решился подняться и нанести нам визит. Во время этого запоздалого инструктажа по правилам безопасности на охоте профессор пытался извиниться, говоря, что и в мыслях не держал причинить кому-либо из нас какой-то вред. Меня это заявление отчасти успокоило, а у брата вызвало обратную реакцию.
— Еще бы ты попытался, козерожина! — завопил он, выкатывая глаза на ссутулившегося профессора белой магии.
На обратной дороге, когда катер поворачивал, чечетка, выбиваемая резцами профессора, заглушала глохнущий мотор. Все сидели нахохлившись, как вороны под дождем, и молчали. Я думал о том, что все мы, вступившие в эту нелепую игру, проиграли, и Валентина никогда не простит нам с братом этого проигрыша.
Так оно и оказалось.
Через пару недель я встретил Тютюню у деда Сани. Старики сидели на лавочке в саду, под раскидистой золотой китайкой, усыпанной полупрозрачными от бродящего уже сока яблоками. В ногах у них спал облезлый кобель, который, завидев меня, сделал попытку пошевелить приветственно хвостом, но это получилось у него лишь отчасти.
— Я, чай, ты и не знашь, как профестора проводили, — обратился ко мне Тютюня, излагавший, по-видимому, деду Сане свою точку зрения на события двухнедельной давности.
Он рассказал, как ночью проснулся и пошел на двор, а вернулся, по привычке, не на духовитый матрац, а на свою кровать, где дочь и жена уложили профессорскую чету. Хорошо, баба Груня услышала, что он встал и долго не возвращается. Она застала Тютюню на коленях перед кроватью, вымаливающего под звонкий храп мага у его жены прощения за то, что он, пьяный дурак, по ошибке пытался улечься с ней рядом.
— Господи, ну хватит же наконец! Ничего страшного не случилось! — пыталась отвязаться от Тютюни женщина.
— Да я бы, если чего и захотел, так уже лет пять, как ничего не выходит! Так что вы, чего не подумайте! — не унимался Тютюня, готовый уже заплакать от случившегося по его вине конфуза.
Баба Груня увела его все еще причитавшего:
— Да кабы я чего мог, так и то не польстился бы на вашу телесность. Вы не думайте, Христа ради. Я не охотник на костях кататься.
А утром, когда по расчетам Тютюни, гости должны были уже уехать, он вошел в залу, позевывая, лохматый, в синей майке и черных семейных трусах, вывернутых так, словно обе ноги одеты в одну штанину, со словами:
— Дочьк! Мне бы похмелиться, а то вчерась, пока я от твово придурка-то этого, завмага из Австралии, прятался, всю организму себе самогоном спортил.
Войдя наконец в залу, он рассмотрел сидевших за столом жену, дочь и двух вчерашних гостей.
— Ничего не вышло у Вальки-то с профестором, — закончил рассказ Тютюня. — Дак, она новых двух подыскала. Петьку сватает с ними на охоту сходить.
Один из новых, судя по всему, был каким-то продюсером, а второй — инвестором, но Тютюня, никогда не утруждавший себя правильным произношением незнакомых слов, называл обоих «продристорами».
Назад: СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ
Дальше: ПЕРВАЯ ЧЕРНОБУРКА

