Книга: Песня синих морей (Роман-легенда)
Назад: Глава 9. КРАЙ МОРЕЙ ПОЛУНОЧНЫХ
Дальше: Глава 11. ТА ДАЛЕКАЯ ОСЕНЬ
Глава 10. РОДНОЕ МОРЕ
Едва эсминец набрал ход, как в каюте резко и требовательно зазвонил телефон. Сергей, разбиравший вещи, удивленно обернулся: кому бы это? Потом подумал, что, быть может, ему самому: ведь его корабельная служба уже началась. Нерешительно снял трубку.
— Лейтенант Топольков слушает.
— Здравствуйте, говорит командир корабля, — раздался в наушнике низкий голос. — Устраиваетесь?
Вмиг позабыв о раскрытом чемодане, Сергей поспешил заверить:
— Уже устроился, товарищ командир.
— Вот как? Тогда поднимайтесь на мостик, будем знакомиться. — Командир немного помедлил и уже тише добавил: — Шинель наденьте, в море сегодня прохладно.
Его последние слова прозвучали так неожиданно, что Сергей растерялся. Не зная, что положено в таких случаях отвечать, торопливо и смущенно отчеканил:
— Есть!
Корабль шел меж угрюмых берегов залива. Они отвесно возникали прямо из водных глубин — молчаливо-насупленные под нечесаной шерстью кустарника. На фоне гранита — враждебного, хмурого — бросались в глаза своей белизной створные знаки. Их отражения лежали на воде, словно прочерченные кем-то пеленги.
Поднимаясь по трапам, Сергей осматривался вокруг. И уже новым, штурманским зрением, развитым за годы учебы, примечал изгибы залива, контуры сопок, навигационные знаки. Матросы, уступая дорогу, пытливо поглядывали на него. «Каков ты, товарищ лейтенант? — казалось, спрашивали они: — Рассудительный или вспыльчивый? Нерешительный или смелый? Радостью будут вахты с тобою или тоской?» «Наверное, есть среди них и рулевые, и штурманские электрики, — невольно подумал Сергей. — Мои подчиненные».
На мостике он сразу же распознал среди офицеров командира. Тот стоял, прислонившись к обвесу, успевая одновременно следить и за фарватером, и за вахтенным офицером, и за полубаком, где крепили по-походному якоря. К его высокой фигуре, к худощавому, немного грубоватому от ветра лицу удивительно шел темно-синий китель с золотыми нашивками капитана третьего ранга на рукавах. Многолетний загар, который за давностью времен превратился в обычную смуглость, видимо, знал солнце не только этих блеклых широт. Карие глаза командира смотрели внимательно пристально, с задумчивой мягкой глубинкой, казалось, чуточку даже устало для его возраста. На вид ему было не больше тридцати пяти. Редкая седина на висках не старила его лица, а лишь придавала ему черточки скрытого мужества и едва уловимой грусти немало пережившего человека… Сочетание воли и твердости с тончайшими, порою далее сентиментальными движениями души — вообще присуще множеству моряков. Быть может, именно оно, угаданное Топольковым, вдруг властно и потянуло лейтенанта к этому человеку. Негромко, боясь нарушить священную тишину мостика, он представился капитану третьего ранга.
— Знакомство на мостике, говорят, — к долгой моряцкой дружбе, — улыбнулся командир. Поинтересовался, доволен ли Сергей назначением, спросил, где тот учился и стажировался. — Черноморец, значит, — тепло взглянул на лейтенанта, и Сергею почему-то додумалось, что эта теплота относится скорей не к нему, Тополькову, а, видимо, к каким-то воспоминаниям командира. Словно подтверждая его догадку, капитан третьего ранга добавил: — Выходит, мы с вами — земляки.
Его то и дело отрывали различными докладами, и командир, в конце концов, рассмеялся.
— Сейчас нам вряд ли удастся поговорить… Что ж, начинайте осваивать новое для вас море. Берега, фарватеры, вешки — ведь скоро придется плавать самостоятельно. Постарайтесь поближе узнать и корабль: на ходу изучение корабля всегда интереснее, чем у пирса.
Это было уже первое приказание, хотя и высказанное в форме совета. И потому Сергей снова ответил коротким и четким: «Есть!» А командир, наклонившись, окликнул кого-то внизу:
— Алексей Николаевич!
На мостике появился старший лейтенант с зажатым меж пальцев карандашом. Одного беглого взгляда на этот карандаш было достаточно, чтобы Сергей безошибочно определил, кто перед ним: оттачивать карандаши так остро умеют только штурманы.
— Знакомьтесь, навигаторы, — промолвил капитан третьего ранга. И, кивнув на Тополькова, шутя пояснил старшему лейтенанту: — Ваш спаситель.
По тому, как крепко пожал старший лейтенант, назвавшийся Сидорчуком, руку Сергея, не трудно было догадаться, что он искренне рад его приезду. С молчаливого согласия командира он тут же предложил Тополькову спуститься в штурманскую рубку.
— Давно на Севере? — спросил Топольков по пути.
— Четвертый год, — отозвался Сидорчук. — Привык, окончу академию — снова буду проситься сюда.
Он влюбленно взглянул на окружные дали, точно уже прощался с ними перед долгими годами учебы… Залив кончался. Сопки впереди расступались все шире, сглаживались и меркли, уходя и теряясь в солнечной дымке моря. Оно открывалось свободно и щедро, словно каким-то размашистым жестом распахивало свои просторы перед эсминцем. За эти просторы, в неизвестность, заваливался сиреневый горизонт.
Слева, в глубине бухты, проплыл и тотчас же скрылся за островом большой многоярусный город. Он показался Сергею уютным и немного таинственным, какими кажутся с моря все незнакомые города.
— Город Полярный, — уточнил Сидорчук. — Последний на земле. Дальше уже — Арктика.
В его словах прозвучало что-то жутковато-захватывающее. Но солнце в этот день светило так ярко, море блистало под ним так радушно, что чувства, заставившие Сергея вздрогнуть, в тот же миг исчезли. Перед ним лежало такое же море, какими были все моря на Земле: светлое и влекущее, с радостью без конца и краю, с легкими облаками над текучим мерцанием вод.
В рубке, в одной из переговорных труб, раздался свисток вызова, и Сидорчук поспешил туда. Вахтенный офицер сообщил с мостика, что ход корабля увеличен до полного. Но об этом можно было и не докладывать. «Зоревой» как-то сразу привстал над водой и, резанув ее острым форштевнем, облизал пересохшие скулы шипящей пеной. Взлетел на высокие ноты гул вентиляторов. В дымогарных трубах билось и клокотало пламя. Заломив набекрень случайную шапку дыма, эсминец рывком скользнул вперед. И тотчас же за его кормой поднялся вровень с палубой горбатый белый бурун. Он стремительно покрывался зеленой накипью ярости.
Словно желая как можно скорее вырваться из плена берегов, «Зоревой» несся в объятия раскрытого моря. Он небрежно отмахнулся пачкой сигнальных флагов от вежливого приветствия острова Кильдина.
Все вызывало сейчас в Сергее восторг: и море, и солнце, и эти флаги, взметнувшиеся по фалам. Он обязательно напишет об этом дне в Ленинград, Зое Каюровой. О дороге в сопках и снежных зарядах, о флотском городке, о замечательных людях — новых своих товарищах! И как обидно, что нельзя написать ей о «Зоревом». О самом быстром и самом красивом корабле!.. Поймал себя на том, что беспричинно улыбается: сам не зная чему. Опасливо покосился по сторонам: не видят ли матросы его мальчишеской радости? Стираясь придать лицу как можно больше серьезности, последовал за Сидорчуком.
В штурманской рубке посвященный глаз сразу же улавливал в кажущемся покое напряженную походную жизнь корабля. Она отражалась, как в биении множества пульсов, в дрожании и движении стрелок на шкалах и циферблатах прибора». Сами приборы располагались глубоко внутри корабля или же были выведены на судовые надстройки и даже на мачты. Оттуда они посылали сюда, на свои шкалы, ритмичные точные импульсы, которые воплощались затем в расчеты и уверенность штурмана. Где-то под эсминцем, в днище его, встречный поток воды безостановочно кружил вертушку лага — и здесь, в рубке, стрелка торопливо отсчитывала мили, пройденные «Зоревым». Черные циферблаты тахометров показывали число оборотов главных двигателей. А в репитере гирокомпаса изредка пощелкивала, перемещаясь на доли градусов, картушка — тогда Сидорчук, не отрываясь от дела, бросал на картушку наметанный взгляд, убеждаясь, что рулевой не отклонился от курса.
Стол перед Сидорчуком занимала путевая карта, где проложен был курс «Зоревого» — ровная линия, уходящая в белый простор. Сергей знал, что через несколько часов эта линия покроется кружками обсерваций, цифрами моментов и отсчетов лага, уточняющими путь корабля. Сейчас же, в начале похода, эсминец еще не изведал ни волновых ударов, ни силы течений и ветров, — и потому расчетная линия курса, прочерченная штурманом, тянулась впереди никем не тронутая, наивно прямая и чистая, как мечта ребенка. Тут же, на карте, лежали штурманские инструменты: параллельная линейка, транспортир, циркуль-измеритель, а меж ними — отточенные карандаши, мягкий и гибкий ластик. Справа, «под рукой» — все, что могло понадобиться штурману в любую минуту: от логарифмической линейки до вынутого из футляра секстана. А слева, уже за картой, Сергей заметил синий томик «Мореходных таблиц», «Астрономический ежегодник», «Лоцию», планшеты для расчета боевых маневров… Лампы над столом излучали ровный рассеянный свет, не оставляющий теней. Чуть слышно постукивали приборы-самописцы. И все это, — вместе с молчаливой фигурой Сидорчука, склоненной над картой, — создавало в рубке настроение какой-то задумчивости и сосредоточенности.
Пока Сидорчук был занят, Сергей рассматривал висевшие над столом таблицы поправок к различным приборам и инструментам. Его приятно обрадовала таблица девиации магнитного компаса, помеченная лишь вчерашним днем… Девиация — это отклонение магнитной стрелки компаса от земного меридиана под влиянием судового железа. На боевых кораблях, где почти все — от бортовой брони до сигнального фонаря на верхушке мачты — сделано из металла, такое влияние бывает весьма велико. К тому же, оно беспрерывно меняется от тысячи разных причин: от поворотов на новые курсы, от качки, от каждой погруженной или выстреленной торпеды, от встряски при орудийных залпах, — разве все перечтешь! Не случайно моряки шутят, что на линкорах магнитные компасы показывают не столько меридиан, сколько разворот орудийных башен. Развернутся пушки на левый борт — вслед за ними катится и картушка. Ищи тогда полюс не где-то на севере, на самой шишке планеты, а в каюте у боцмана, на дне его сундучка, где хранятся керченский самосад и гачки-самоловы на палтуса… Во все века и на всех кораблях — особенно на торговых, где груз изменяется всякий рейс, — перед каждым выходом в море штурмана пытались «уничтожить девиацию». Часами и сутками они колдовали у раскрытых нактоузов, передвигая с места на место всевозможные контр-магниты: продольные и поперечные, вертикальные, шаровые. И во все времена никому из них не удалось хоть однажды свести это «проклятое влияние» к нулю. Тогда навигаторы определяли «остаточную» девиацию, которую и заносили в таблицы, подобные тем, какую видел сейчас перед собой Топольков. Эта «остаточная», сложенная с магнитным склонением, помеченным на карте, — составляла поправку компаса.
Сергея поразила не сложная работа, проделанная Сидорчуком накануне. Обрадовало его другое. На современных кораблях уже давно не пользуются магнитными компасами: на смену им пришли иные — гироскопические. Магнитные же остались только как аварийные: так, на всякий случай. Встречались поэтому штурманы, особенно молодые, которые относились к ним пренебрежительно, выверяли за всю кампанию не чаще одного-двух раз, причем — не столько для пользы дела, сколько для штабных инспекторов. Вот почему свежая таблица девиации на «Зоревом», заполненная ровными, каллиграфическими цифрами лишь вчера, говорила, по мнению Тополькова, не только о профессиональной аккуратности Сидорчука, но и о высокой морской культуре старшего, лейтенанта. Ибо, как все вчерашние курсанты, для которых море пока еще было не нивой труда, а театром истории, славы и честолюбивых надежд, Сергей видел морскую культуру, прежде всего, в сохранении флотских обычаев и традиций.
Он с нескрываемым уважением взглянул на Сидорчука и уже смелее подошел к столу. Увидел на карте изрезанные берега, частые надписи: губа Кислая, губа Долгая, Сайда-губа, Оленья…
— Что, бухты здесь губами называются? — спросил у штурмана.
— Да, — кивнул Сидорчук. Потом, закончив какой-то расчет, добавил, распрямляясь:
— Такие уж здесь края веселые: губ много, а целовать нечего.
Это тоже была шутливость, присущая североморцам. Однако сейчас, как показалось Сергею, в шутке прозвучала грусть. Он удивленно, почти испуганно поднял глаза на штурмана. И, точно боясь разочароваться во всеобщей моряцкой влюбленности в северные края, робко, совсем по-мальчишечьи промолвил:
— Плохо здесь?
— Всяко бывает, — равнодушно ответил Сидорчук. — В плавании как в плавании, сам понимаешь… Для того, кто любит море, что еще надо! А вот у причала временами — тоска зеленая. Семейным еще туда-сюда, а нашему брату-лейтенанту — труба. Для веселья, как говаривал Маяковский, этот берег мало оборудован. Бывает, выйдешь полярной ночью на палубу, а вокруг — тишина. Такая тишина, что до костей пронизывает. Как на Луне. Или на потухших звездах… — Старший лейтенант закурил, поудобнее уселся в глубокое кресло. — Ну, поглядишь на снежные сопки, что белеют вокруг, вздохнешь на далекое зарево Мурманска — и возвращаешься в каюту. А в каюте, сам знаешь: каждая заклепка до того приелась, что и после смерти будет мерещиться. Каждая! А в каюте их — триста восемьдесят четыре.
— Сколько? — рассмеялся Топольков.
— Триста восемьдесят четыре, — улыбнулся и Сидорчук. — Это я во вторую зиму своего пребывания на «Зоревом» сосчитал. Поплаваешь годика полтора — проверишь… В общем, в такие вечера живешь, одними воспоминаниями и мечтами. Полгода — воспоминаниями о минувшем отпуске, полгода — мечтами о новом. Только книгами и спасаешься от тоски.
— Много здесь читают? — зачем-то поинтересовался Топольков. Может быть, лишь затем, чтобы переменить тему разговора. Откровенность штурмана была ему неприятна: она безжалостно нарушала его курсантские представления о блистательной флотской службе, что грезилась впереди бесконечным сиянием доблести и громкой славы в конце пути.
— Много, — подтвердил Сидорчук. — И на каждом корабле — свои любимые книги. У нас, на «Зоревом», зачитываются Тургеневым: «Первой любовью», «Асей», «Вешними водами». На «Зорком» увлекаются Бальзаком, на «Задорном» — Алексеем Толстым, на «Заветном» — Паустовским… И еще здесь любят поэзию. Моряки, сам знаешь, вообще неравнодушны к стихам. А здешние края, ко всему прочему, обостряют в человеке чувственность. Мы ведь живем здесь почти по соседству с Вселенной.
Слушая Сидорчука, Сергей все больше мрачнел. Конечно, он ни в чем не мог упрекнуть старшего лейтенанта: тот наверняка говорил правду. Но его оскорбляла даже сама мысль, что помимо воинского мужества, которое приходит к человеку в минуты боя и подвига, моряку-североморцу необходимо, оказывается, мужество и другое — повседневное и обыденное, незаметное, растянутое на долгие годы, на много безрадостных вечеров… По молодости он не знал, что самое трудное и потому самое высокое мужество, — это скромное мужество осознанного долга.
Видимо, Сидорчук заметил, как изменилось настроение Тополькова. Штурман порывисто поднялся из кресла, добродушно толкнул Сергея в плечо.
— Бодрей, лейтенант! Тоска — это дело случайное, временное: на стоянке. А в плавании — совсем иной коленкор! Моря здесь красивые, броские, влюбляют с первого взгляда! Я вот раньше, бывало, смотрел картины художников-северян — и все возмущался: откуда такие краски? Красные берега. Ультрамариновое море. Бледно-зеленые облака— прозрачные, как подтаявший лед… Не верил. А приехал сюда — убедился: все правда! И море, и берег, и облака. Тогда вот и влюбился в эти края. Крепко влюбился — до самой закатной звездочки.
Он даже порозовел, расхваливая Сергею северные моря. Горячо, словно тот ему в чем-то перечил, доказывал:
— Ты какое место на Черноморье считаешь самым красивым?
— Пожалуй, мыс Пицунду, — признался Топольков.
— Так должен сказать, что на Севере встречаются свои места не похуже. К примеру, Соловецкие острова — знаменитые Соловки, как называли их в тридцатые года. Зелень. Солнце. Воздух — словно кристалл. В других краях такую красоту еще поискать надо!
— Из-за этих красот, наверное, и вернешься сюда после академии? — обронил Сергей.
— Ну, не только, засмеялся, уловив иронию, Сидорчук; — Красоты красотами, но для штурмана, скажу я тебе, здесь работа действительно интересная. Приливы и отливы, а значит, и дополнительные течения, изменчивость глубин — это раз. Частые ветры и штормы, ограниченные и опасные якорные стоянки — два. Зимою — низкие температуры, когда теплые воды Гольфстрима парят и тут же, в воздухе, застывают. В такие дни даже дышать трудно: эту морозную кашу не продохнешь, И видимость, конечно, — нулевая, — загнул Сидорчук на руке третий палец. — А практика мореходной астрономии? Полгода в небе только одно светило: солнце. Ночью же звезды либо закрыты тучами, либо невидимы из-за полярного сияния. К тому же большинство светил с низкими высотами, из-за большой рефракции пользоваться ими сложно. Ну, а сколько других трудностей? Бывает, засветит полярное сияние — и тотчас же все магнитные приборы на корабле начинают играться в «я тебя вижу, а ты меня нет». Рации барахлят, пеленги радиомаяков искажаются… Вот и выходит, что кораблевождение на Севере — дело мудреное, требует от штурмана таланта и смекалки. Не то что на Черном море: вышел из Одессы — и топаешь, как по бульвару, до Севастополя. От Севастополя вдоль бережка — Балаклавочка, Алупочка, Ялточка — карабкаешься к Новороссийску. Добрался до Туапсе, а дальше — веди себе пароход, до самого Батуми, по железнодорожным семафорам: не ошибешься!
— Не любят здесь черноморцев, — заметил Сергей.
— Почему не любят? — пожал плечом Сидорчук. — И там ребята хорошие, братья-моряки. Но у каждого флота — своя гордость. Мы, да еще тихоокеанцы, гордимся моряцкой выучкой. Тут с нами никто сравняться не может: школа не та!
Убежденность Сидорчука вызывала двоякое чувство в Сергее. В глубине души он обижался за Черное море — то море, где он учился, проложил первый самостоятельный курс, взял пеленг первого маяка и измерил высоту первого светила. Помнится, это был Антарес яркая и удобная звезда, словно нарочно созданная для начинающих штурманов. Черное море пока еще было родным: к нему тянулись не только воспоминания, но и юношеская привязанность Тополькова. И в то же время к чувству обиды уже примешивалась невольная гордость: за Северный флот, к морскому братству которого принадлежал с нынешнего дня и он. Эта раздвоенность, которую Сергей ощущал в себе, больше всего сердила его — и потому вызывала мальчишечье желание не соглашаться со старшим лейтенантом, перечить ему во всем, спорить. Сергея удерживала от этого лишь робость нового на «3оревом» человека. А Сидорчук уже рассказывал о толчее течений в горле Белого моря, о ветрах, что прорываются от сибирского побережья Арктики через Карские ворота и Югорский Шар. Как все северяне, он ласково называл этот пролив Ю-шаром.
Стрелка лага безостановочно отсчитывала мили: «Зоревой», гудя турбинами, шел на северо-восток. Берег закатывался за море, как гаснущие рассветные сумерки. Вышедший из рубки Сергей уже не увидел ни силуэтов сопок, ни даже контура горной цепи. Теперь это была лишь даль, сгустившаяся в синюю дымку. Она лежала на краю окоема, как забытая, призрачная волна. А рядом с кораблем, — не обгоняя его и не отставая, — неслось ко воде отраженное солнце. Оно казалось гораздо искристей и ярче, нежели в небе.
Последние очертания сопок наполнили вдруг лейтенанта необъяснимой грустью. Это скрывался не только берег — скрывались материки, Европа и Азия, скрывался земной шар. Там, в этой дымке, оставалась вся беспокойная жизнь планеты. Там оставались ветры пустыни, медвянистые просторы тайги, вскрики перепелов и гул электростанций. Тишина деревенских околиц и небо экватора, вековые снега Памира и запах тропического прибоя. Музыка, шумные перекрестки улиц, улыбки женщин и первый лепет детей — все уходило за горизонт вместе с краем обетованной земли: на севере, куда шел «Зоревой», не ждало ничего. Низкое солнце висело рядом, планета почти вплотную соприкасалась с Космосом — затерявшись в пространстве, корабль стремительно огибал ее и потому казался таким же спутником Земли как и те, что запустила во Вселенную его, Тополькова, Родина. Жизнь воплотилась внезапно лишь в извечном течении времени, которое монотонно и размеренно, словно какой-то космический метроном, отсчитывали турбины эсминца.
Это было неестественно-новым — отрываться от края земли. Видимо, такое нее чувство охватит того космонавта, который первым вырвется к чужим мирозданьям, в черные бездны Космоса. Решился бы он, Сергей Топольков, на подобный подвиг? Один — нет. Вместе с друзьями — наверное. Как все-таки радостно чувствовать рядом товарищей! Перед этим огромным и пустым северным небом, перед обнажившимся солнцем и первозданными морями невольно ощущаешь себя песчинкой. Одиночество в такие минуты жутко: собственное «я» — слишком ничтожно перед бесконечностью мира и времени. Разума не хватает, чтобы познать эту бесконечность, сердца — чтобы объять ее. Не от страха ли и бессилия перед ней человек прошлого уходил в себя, начинал искать в самом себе истины, удобные для его ограниченного «я»? Эти истины, придуманные и уверованные, заставляли затем человека поклоняться звездам и ветру, безмолвию и отблескам океана… Наш разум расширился и окреп, но разве не сохранились в нас приглушенные ощущения дикости? Они обостряются в часы одиночества, возвращая человека к его изначальным ступеням жизни, где поиск в самом себе был самым бесхитростным и не трудным поиском, ибо не требовал ни порыва, ни мужества. Одиночество всегда в чем-то уравнивает человека с его первобытными предками. И как хорошо, что сейчас, даже один на один с этой синей бескрайностью, которой кончается и начинается планета, не чувствуешь себя одиноким: под ногами вибрирует палуба, созданная руками людей, гудят механизмы, а в надстройках, рубках, в отсеках работают сотни друзей, вместе с которыми ты уже не песчинка, вместе с которыми ты и властелин мира, и покоритель Космоса, и преобразователь Земли… С высоты штурманской рубки Сергей невольно окинул взглядом палубу «Зоревого», узкую и летучую: сверкала под солнцем сталь, омытая ветром и волнами, мерно покачивались надстройки и башни, а от раскрытых люков и дымогарных труб тянуло обжитым, почти домашним уютом, пахнущим паром, теплынью матросских кубриков и сытым флотским борщом. Мир корабля был просторным и прочным: он вмещал в себе и частицу земли, и отчий дом, и величие Родины. И потому рядом с растерянностью, овладевшей Сергеем минуту назад, поднялась вдруг озорная, мальчишечья гордость: за себя и за товарищей, за эсминец, который уверенно, даже как-то привычно-буднично шел по самой кромке планеты. «Край морей полуночных», — вспомнил он слова генерала и уже весело решил: «Что ж, давай полуночных!»
Услышал позади себя шаги, обернулся — с мостика спускался командир. Заметив лейтенанта, он задержался у поручней, шутливо-приветливо спросил:
— Запоминаете море в лицо?
В облике командира, — в мягкой улыбке его, в голосе, даже в усталости, — было что-то располагающее, дружеское. Может быть, потому Топольков не удержался: сам не зная зачем, внезапно доверчиво рассказал обо всем, о чем передумал несколько минут назад. Рассказал и тут же спохватился: что подумает о нем капитан третьего ранга? Разве у молодого офицера мало иных разговоров с командиром — о службе, о боевой учебе, о корабле, например? А он!
Первый день на эсминце, а болтает черт знает о чем… Однако командир, казалось, не удивился словам лейтенанта. Ом понимающе кивнул, тихо промолвил:
— Да, это живуче в нас… Люди сами порой не знают, как нужны друг другу. — Долго смотрел на море, бегущее за корму, потом в задумчивости, словно воскрешая какое-то далекое воспоминание, добавил: — Только дорога одиночества не приводит никуда… Всякий рад, когда хотели разъединить людей, ослабить их волю, начинали проповедовать индивидуализм. Монахи, жандармы, черные философы — без устали кричали о пресловутой свободе личности, об ее независимости от общества. «Личность — превыше всего, все, что вне ее — ничто. Субъективизм — начало жизни и конец ее. Значит, жить стоит лишь в себе и для себя». Так создавался закон одиночества — закон джунглей. Человек становился волком и, какими бы громкими фразами затем ни прикрывался, думал только о своей берлоге и своем куске мяса. Это всегда удобно для рабства: бунтарский дух, если он один, легко образумить нагайкой или сжечь на костре. В одиночестве — бессилие человечества. Вот почему первым лозунгом прозревших пролетариев был великий лозунг: «Соединяйтесь!»
— Но разве мы сами не ищем время от времени минут одиночества? — неуверенно заметил Сергей.
— Это совсем другое, лейтенант: мы просто по старинке величаем так минуты сосредоточенности, когда человек остается наедине с собой. Но ведь и тогда мы думаем о людях, для них. Даже разговаривая с ветром, мы говорим от имени людей — да, да, не удивляйтесь, мне это немного знакомо, — усмехнулся командир. — А настоящее одиночество — это равнодушие и презрение ко всему, что не «я», болезненно-пристальный взгляд в самого себя. В мелких душонках он пробуждает самую неблагодарную любовь, какая только существует на земле: любовь к самому себе. От этой любви происходит подлость и трусость, ханжество, ложь, предательство, ибо живет она все той же берлогой и куском мяса. Честного человека одиночество, как правило, убивает: все светлое, что может он обнаружить в себе, — талант, красота, творчество, — раскрывается только среди людей, рядом с ними. Без общества нет человека, как не бывает паруса без мачты и палубы.
— Значит, наши потомки никогда не станут вглядываться в себя? — снова спросил Сергей.
— Нет, — почему же, — возразил капитан третьего ранга. — Но, воспитанные в коллективе, они будут искать в себе только то, что роднит их с другими, а не то, что отличает. Вы представляете, какой жизнеспособной силой они овладеют?.. Эта сила в какой-то мере живет уже в нас. Единство цели сблизило людские сердца, а борьба с разрухой и голодом, с врагами еще больше сроднила их. Человеческое содружество, быть может, это самое высокое, что создал наш народ за четыре десятилетия. — Он умолк, отдаваясь раздумьям, и лишь после долгой паузы, которую лейтенант не решился нарушить, неожиданно поинтересовался: — Вы где жили во время войны?
— В Новосибирске, — ответил Сергей и покраснел, будто был виноват, что в свои восемь лет не мог оказаться поближе к фронту.
— А мне довелось увидеть и дороги отступления, и блокадный город, — просто и немного грустно поведал командир. — Одиночество — чего бы не отдали немцы тогда, в блокаду, чтобы оно закралось в души наших людей! Но ленинградцы дрались, принимали муки и даже умирали сообща. И те, кто остался жив, — победили. Выстояли! Какая ж могучая сила таится в чувстве плеча! «Люби людей — и тогда все сможешь», — сказал мне когда-то хороший друг. Люби людей, — повторил капитан третьего ранга и взглянул в глаза Тополькову. — А любовь к людям, лейтенант, всегда конкретна. Для нас с вами она — в неустанных заботах и думах о корабле, об экипаже, о боевой готовности. О том, чтобы никогда не повторился для нашего народа сорок первый год.
Теперь он говорил о «Зоревом», о предстоящих походах и боевой учебе, и Топольков удивился тому, как легко и естественно он перешел к разговору, который, по убеждению Сергея, и должен был вести командир корабля с молодым штурманом. Лейтенант обрадовался, подтянулся: напоминание о его служебных обязанностях как бы позволяло ему отныне считать себя полноправным членом корабельной семьи, таким же, как Сидорчук, как все офицеры эсминца. И, слушая командира, он отвечал короткими «Есть!», словно уже получал приказания на будущее. А капитан третьего ранга, видимо вспомнив, что спустился с мостика вовсе не для беседы с новым штурманом, внезапно предложил: — Пойдемте обедать, лейтенант. — И улыбнулся: — Выполнение распорядка дня — ведь это тоже забота о боеспособности.
В кают-компании он представил Тополькова офицерам «Зоревого». Сергей присел за свободный стул рядом с доктором и, когда вестовой подал борщ, склонился над тарелкой. Он лишь изредка поднимал голову, окидывал взглядом тесное, но уютное помещение. Здесь все ему нравилось: и раскрытое пианино у переборки, и массивные пепельницы, сработанные из орудийных гильз, и многочисленные снимки эсминца с различных курсовых углов. Нравилось и то, что офицеры, прежде чем прийти сюда, успевали снять рабочие кители и переодеться. Но особенно обрадовала лейтенанта старая флотская традиция, которая не записана ни в одном из современных уставов, но которую и поныне свято хранят на хороших кораблях. Согласно этой традиции, в кают-компании «Зоревого» не существовало ни рангов, ни должностей, все были равны, и потому обращались друг к другу не по званиям, а только по имени и отчеству, всячески избегая за столом служебных разговоров.
Обедали в этот день торопливо: у всех на походе было множество дел, каждый спешил поскорее вернуться к прерванной работе. Кто-то, первым покончивший с густым сливовым компотом, спросил разрешения у командира выйти из-за стола. После этого обращаться к старшему уже не требовалось — офицеры молча поднимались и тотчас же исчезали за дверью. А Сергей думал о том, что в иные дни, когда эсминец стоит у причала, здесь, наверное, подолгу засиживаются моряки — беседуют, спорят, подшучивают друг над другом, вместе радуются и вместе грустят, без конца дымя папиросами и ароматным трубочным табаком. Кают-компания — какой морж не любит ее прокуренных переборок, ее тепла и особенного мужского уюта! Сюда приходят после нудных якорных вахт, чтобы согреться душистым и крепким чаем, здесь собираются долгими корабельными вечерами, чтоб отвести душу в медлительных и необязательных разговорах, которые нередко, вопреки уставным положениям, затягиваются далеко за полночь. О чем только ни говорят здесь: о минувшей войне и возможных будущих битвах, о кораблях и флотах всего мира, об адмиралах и назначениях, о книгах, об урожае, о женщинах, о новых песнях — обо всем, о чем только могут беседовать в своем братском кругу мужчины, надолго оторванные от берега и домашнего очага. Здесь знают почти все друг о друге — надежды, слабости, вкусы, — поэтому каждый вечер хватает поводов для взаимных дружеских розыгрышей и подковырок.
И всегда есть на корабле какой-нибудь капитан-лейтенант, который за словом в карман не лезет, знает тысячу всяких историй и анекдотов, любит проехаться по адресу начальства, весел во всех случаях жизни, любимец и душа кают-компании. Бывает, дежуря по кораблю, засидится такой капитан-лейтенант за столом лишние полчасика, и вдруг влетает перепуганный рассыльный, сбиваясь, выпаливает, что катер командующего подходит к трапу.
— Не мешайте ему, пусть подходит, — небрежно ответит дежурный, катая хлебные шарики. И хоть через секунду он уже несется по палубе, крича на бегу горнисту играть «Захождение» — сигнал, которым встречают и провожают на флоте высокое начальство, — шутка остается шуткой, обретает крылья и нередко переживает на корабле самого капитан-лейтенанта. Без таких людей кают-компания потеряла бы добрую половину своей прелести… Здесь, в бесконечных рассказах и «травлях», воссоздается живая история флота, гораздо более полная, увлекательная и точная, нежели та, которую пишут академики. Она обрастает здесь подробностями и задумчивостью, в моменты и расчеты атак вплетает характеры и черты моряков, воскрешает в течение операций людские усилия и тревоги, порывы и отступления, дальнейшие судьбы живых и память погибших, — и в конце концов наполняется той осязаемой человеческой теплотой, которую никогда не отыщешь в профессорских фолиантах… Кают-компания — робкий кусочек береговой заманчивой жизни в суровом и жестком царстве военных уставов, в неумолкаемом голосе ветра и моря, в наскучившем запахе инея и туманов, холодной стали и краски, — той неведомой и далекой жизни, по которой скрытно, но постоянно тоскуют моряки… Задумавшись, Топольков не заметил, как поднялся и ушел командир. Боясь оказаться за столом последним, он поспешно отодвинул стакан с компотом и заторопился в рубку.
— Заправился? — мельком взглянул на него Сидорчук. — Пожалуй, опущусь и я, забункеруюсь.
Он нехотя встал из кресла, вызвал ходовой мостик и попросил разрешения спуститься в кают-компанию.
— За меня остается лейтенант Топольков, — уточнил он. Сергей услышал в переговорной трубе приглушенное «Добро», узнал низковатый голос командира. Подтверждая ответ начальства, старший лейтенант сказал шутливо: — Давай, впрягайся потихоньку. — И уже серьезно добавил: — Истинный курс — сорок восемь, компасный — copок семь с половиной. Ход — двадцать шесть узлов, поправка лага — минус два процента. Таблицы остальных поправок — перед тобой. Последнее обсервованное место — вот, — указал он на карте, — а счислимое — совсем свеженькое: подогнал к твоему приходу… Что еще? Ветер встречный, норд-остовый — полуношник, как величают его поморы, — четыре балла. Течение постоянное, учтено в прокладке. Приказаний с мостика нет… Have you the questions? — закончил он по-английски.
— No, — машинально ответил Сергей. Он стоял растерянный, взволнованный: минута, о которой так много мечталось, наступила гораздо скорее, нежели он предполагал. К тому же, наступила неожиданно, не дав ему времени не только подготовиться к ней, но даже собраться с мыслями. Отрывистое согласие командира, которому капитан третьего ранга, быть может, не придавал значения, внезапно оставляло его, лейтенанта Тополькова, в штурманской рубке эсминца совсем одного. А у эсминца — двадцать шесть узлов хода, вокруг — незнакомое море, и курс проложен — в еще более незнакомые дали. «Норд-ост — полуношник» — что может поведать поморское меткое слово о том, что ждет корабль впереди? Двадцать шесть узлов! Если разделить их на шестерку, — помнится, учили на первом курсе, — узнаешь, сколько кабельтовых проходит корабль в минуту. А разделить на два — получишь число метров, которые проносится «Зоревой» в секунду. Тринадцать метров в секунду — сорок семь километров в час — это скорость экспресса! Минута — три четверти километра пути, а хватит ли ему, Тополькову, минуты, чтобы рассчитать простой поворот на новый курс? Никто не придет на помощь, не подскажет и не проверит только его собственные знания, да еще тот крошечный опыт, который приобрел он в учебных плаваниях. Знает ли об этом командир? Или нарочно устроил ему испытание?
— Ну, я пошел, — бросил Сидорчук. Он не замечал состояния молодого штурмана или же делал вид, что не догадывается о нем.
Оставшись один, Сергей опасливо покосился на переговорные трубы. Вот эта крайняя — с мостика… Поворот — он, конечно, сможет. Обсервация? Что ж, «Мореходные таблицы» на столе, секстан рядом — его лишь придется выверить по солнцу. Жаль, не спросил о хронометре и о том, какими часами Сидорчук пользуется, когда берет высоты светил. Ну да не беда, в крайнем случае выяснит у старшины рулевых… Сергей довольно посмотрел на свои, подумал о том, что нужно бы купить карманные: они ровнее — и в суточном ходу, и даже в погрешностях. А ручные, конечно, — не для штурмана. Это для свиданий на углу, для тех, для кого время не элемент измерений и формул, а лишь понятие быстротекущей жизни.
Что еще может понадобиться командиру? Маневрирование! Что ж, на таком ходу — задача средней трудности, если все под рукой, если не волноваться. Во время стажировки ему приходилось производить расчеты маневров и на более высоких, форсированных скоростях атак. А двадцать шесть узлов для эсминца, в конце концов, — прогулочный ход… Планшеты — вот они; на полке — на всякий случай — прозрачная калька. Что ж, он готов!
Мало-помалу Сергей успокоился. Взял циркуль-измеритсль, осторожно, чтобы не проколоть карту, уточнил на ней счислимое место «Зоревого». Затем опустился в кресло и облегченно выпрямил ноги — совсем как Сидорчук полчаса назад. «Только бы не надумали постановку дымовых завес», — вяло подумал он… Наверное, во всякой, даже дорогой сердцу профессии бывают свои запятые, свои нелюбимые и потому малоувлекательные дела. Среди многих обязанностей штурмана Сергей терпеть не мог расчетов дымзавес. Он и сам не знал почему. Быть может, по той же необъяснимой причине, по которой каждый штурман любит пользоваться одними звездами и ненавидит другие. «Да, только бы не дымзавесы!»
Но переговорные трубы молчали. И Топольков постепенно вернулся к мысли о командире, о недавней беседе с ним. В его, Тополькова, жизни не было еще борьбы, утрат и страданий — того душевного опыта и закалки, которые позволяют много пережившему человеку воспринять сразу и целиком, почта физически ощутимо, чужие раздумья и чувства. Все, о чем говорил сегодня командир, казалось ему сейчас отвлеченным и нереальным, ибо не воскрешало в нем ни единого воспоминания, не тревожило ни одного рубца.
И потому, как все отвлеченное, непрерывно ускользало, требовало напрягать память, вновь и вновь возвращаться к одному и тому же.
Тогда, перед обедом, Сергей удивительно ясно и просто улавливал мысли командира, понимал их с полуслова, больше того — чувствовал сердцем, Теперь же, как ни старался, но мог пробудить в себе прежнего состояния обостренной восприимчивости. Даже одиночество, о котором он сам заговорил с капитаном третьего ранга, было теперь для него какой-то неуловимой заумью, почти потусторонним понятием, придуманным от безделья и скуки библейскими мудрецами. Эти мудрецы виделись Тополькову в облике мумий… А рядом существовали вещи, обретшие форму и плоть, осязаемость, радостный смысл и доступное разуму назначение, — эсминец и море, турбины, веселые лица матросов, двадцать шесть узлов и робкое пощелкивание гирокомпаса. Они заслоняли собой и минутную грусть, и страх перед окраиной мира, и черных философов, о которых упоминал командир. «Да и кто сказал, что корабль идет по краю планеты? Разве есть у нее конец? Земля наша круглая, а поверхность шара — самая бесконечная бесконечность!»
…Лейтенант был молод. Он не знал, что в молодости раздумья, — так же, как чувства, — зависят от настроения человека. Они похожи на ветры, которые, хоть и достигают порою размаха тайфунов, но то и дело меняют силу и направление. Лишь в зрелые годы эти раздумья приобретают тяжесть и постоянство воды. А она, как известно, течет беспрерывно, течет под песками и подо льдом, пробивает пустыни, камни и скалы, — не успокаиваясь до тех пор, пока не достигнет океана… Сергей поначалу сердился, что не может восстановить в памяти разговор с командиром, но вскоре махнул рукой. Достал с полки «Лоцию» и начал неторопливо листать ее.
С мостика так и не потревожили его. Поэтому вечером, когда Сидорчук ушел в кают-компанию ужинать, он уже уверенно и спокойно остался в рубке. Потом они сидели вдвоем, и старший лейтенант подробно рассказывал о подчиненных — о рулевых, о радиометристах и штурманских электриках. Сергей слушал внимательно: ему предстояло через несколько дней вместе с ответственностью за безопасность плаваний «Зоревого» принять ответственность и этих людей — за их поступки, характеры, выучку, службу.
Для Баренцова моря поход, видимо, выдался на редкость спокойным. Почти от самого Кильдина эсминец шел постоянным курсом, и Сидорчук не был обременен заботами.
Он лишь изредка поглядывал на приборы да каждый час отмечал на карте пройденные двадцать шесть миль.
— Ничего походик, не пыльный, — съязвил Топольков — Не то что на Черном море!
— Это по заказу, ради тебя, — отшутился штурман, — чтобы хоть немного акклиматизировался.
Мерное покачивание, приглушенный гул турбин, который улавливался не слухом, а скорее телом, жужжание приборов убаюкивали. Чтобы приободриться, Сергей выходил из рубки, поворачивал к встречному ветру лицо. Вдыхал вместе со свежестью моря отдаленный запах снегов.
Солнце — холодное и прозрачное — застыло над северным горизонтом. Оно казалось таким же студеным и льдистым, как мерзлое зеленоватое небо, тронутое редким инеем перистых облаков. Тусклые отсветы солнца не согревали, скорей — холодили море. Они тяжело покачивались на зыби, словно обломки белесого мелководного льда. Волны катились размеренно и бесстрастно, надоедливо-ровно, как заведенные. В них не было ни привычной резвости, ни динамики бега. В чередовании их, утомляющем взор, в конце концов, начинала чудиться какая-то внутренняя, скрытая неподвижность. Ни плеска, ни птицы над морем, ни ветра; лишь изредка над водою — темные спины касаток, таких же медлительных и бесшумных, как волны. «Мертвое все-таки море», — с новой тоскою подумал Сергей.
В рубке поделился со старшим лейтенантом, но тот равнодушно ответил:
— Какое там мертвое! Просто — ночь на дворе. Спит море.
Как же он сам не догадался! Конечно же, — ночь. Спят люди на берегу. И рыбы спят. И ветры. До чего же мудра и разумна природа: ночь есть ночь, и даже дневное светило не в силах нарушить извечный закон бытия. Море вовсе не мертвое, оно лишь пустынно, потому что и чайки, и буревестники спят в своих гнездах на скалах Мурмана. И волны бегут совсем не тоскливо, только устало и сонно. Они тоже спят. И может быть, им что-нибудь снится. Интересно — что? Зеленые берега? Теплота солнца? Или раны, нанесенные форштевнями кораблей?.. Наверное, такое же по ночам и Черное море, но его не разглядишь в мерцании звезд.
— Шел бы и ты спать, — посоветовал Сидорчук. Сергей отрицательно качнул головой. Разве он сможет уснуть в свою первую походную ночь? И разве не о ней обещал написать он 3ое Каюровой?
Долго еще думал об удивительном разнообразии мира, ибо впервые видел ночное море при солнце… Уже около полуночи в рубке раздался звонок телефона. Не робкий и вежливый, какие бывают в городских квартирах, а властный, настойчивый, напоминающий рокот колоколов громкого боя. Сидорчук вынул трубку из гнезда, назвал свою фамилию — и тотчас же лицо его нахмурилось. Слушая, он ронял привычное «Есть», нетерпеливо поглядывая на карту.
— Ну, кончилась тихая жизнь, — сказал он затем Сергею. — Получено штормовое предупреждение: из Арктики движется ураган. Будем укрываться — приказано рассчитать курс на бухту Семи островов.
— Ураган? — с сомнением произнес Топольков. — Откуда? Ведь никаких же признаков его близости! Разве что перистых облаков намело…
— А здесь не Черное море, — ухмыльнулся теперь Сидорчук, склоняясь над картой. — Это там любой бычколов за неделю погоду предсказывает. По закату, по кизячному дыму, по ломоте в пояснице. Даже стишки придумали — небось, учил? «Ходят чайки по песку — моряку сулят тоску, и пока не сели в воду — штормовую жди погоду». — На миг он умолк, старательно провел по линейке прямую, соединив место «Зоревого» с бухтой Семи островов. И уже потянувшись за транспортиром, добавил: — К нашим краям такая наука не подходит. Здесь и закаты не предусмотрены, и песка-то для чаек нет: все камни да камни.
Не глядя на Сергея, старший лейтенант доложил командиру на мостик новый курс и предупредил, что до расчетного поворота осталась одна минута.
Он внимательно проследил за секундною стрелкой часов, удовлетворенно кивнул, когда ровно через минуту эсминец резко накренился на правый борт. Дробно защелкала картушка гирокомпаса, весело покатилась влево, отмечая поворот «Зоревого». Потом так же стремительно начала замедлять круговой свой бег: видимо, рулевой одерживал корабль на циркуляции. И, наконец, остановилась совсем. Цифра градусов на картушке, рассчитанная Сидорчуком, прочно замерла под курсовою чертой. «Отличный рулевой», — восторженно подумал Сергей.
«Зоревой» лег на новый курс. С мостика вахтенный офицер сообщил штурману, что ход эсминца увеличен до тридцати двух узлов. Тридцать два узла, почти шестьдесят километров в час — успеют ли они уйти от шторма?
Топольков теперь все чаще выходил из рубки. Матросы под руководством старпома и боцмана крепили по-штормовому шлюпки и стрелы, задраивали люки, обтягивали чехлы дальномеров и пушек. Над палубой, вдоль корабля — от шкафута до самой кормы — растягивались штормовые леера: те, кому придется работать во время бури на верхней палубе, будут пользоваться ими как поручнями, чтобы не смыло за борт. Сергей знал, что такие же приготовления ведутся и внутри корабля, в жилых и служебных помещениях. Все, что может двигаться и качаться, укладывалось, крепилось, привинчивалось. Складные столы и банки в кубриках подвешивались к подволоку, матросские рундучки, от сотворения флота не знающие замков и ключей, наглухо запирались. Старшины — специалисты второго и первого классов — готовились в случае надобности заступить на вахту… И, наблюдая эти приготовления, Сергей с тревогой вглядывался в северную часть горизонта.
Нет, он не боялся шторма. Но и радости от него ожидал мало. Шторм — это тяжкая проза моряцких будней. Это качка, изматывающая душу; нудная, изнуряющая забота о равновесии; спертая духота задраенных помещений. Перегревшиеся механизмы и мигающие лампочки. Карандаши, катящиеся по карте, хаос ветров и течений и невозможность определить ни дрейфа, ни сноса корабля. Это медленно ползущее время, слезящиеся глаза сигнальщиков и пересохшие рты кочегаров. Это тот же привычный труд, только в тысячу раз тяжелее, тошнота от бесчисленных папирос и единственное желание — спать и согреться. Серая мгла из моря и неба, спутанные пути кораблей и гнетущие мысли о береге — том береге, что приносит обычно радость, но в бурю страшней и зловещее всех океанов. Шторм — это бесконечное множество минут, наполненных риском и предельным напряжением сил, минут, которые почти никогда почему-то не сохраняет память… Нет, Сергей не боялся шторма — даже здесь, в Баренцевом море. Он верил и в командира, и в новых своих сослуживцев, и уж, конечно, — в корабль. Но, как многих людей, ожидание опасности волновало его гораздо сильнее и глубже, чем сама опасность затем.
Часа через два солнце медленно начало гаснуть. Оно висело какое-то плоское, удивительно круглое — с резко очерченными краями. Потемневшее море бросило мрачные тени на небо — и небо сразу пожухло, снизилось, утеряв и краски и глубину. На севере, откуда тянулся кильватерный след корабля, дали у горизонта застлало белою пеленой — непроницаемой, дымной, мятущейся.
— Шторм идет, — обронил озабоченно Сидорчук, и Топольков, вздрогнув, подумал: «Белый шторм!»
Первые шквалы нагнали «Зоревого» в милях пятидесяти от Семи островов. Они взметнули повыше палубы волны, срезали закипевшие гребни на них и стеганули жгутами брызг в орудийные башни. И тут же волны приподняли круто корму, запрокидывая ее, — эсминец порывисто рыскнул влево и с ходу зарылся носом в гудящую воду. Заныли в испуге антенны, накренившись над пучиной, им сейчас же откликнулись мачты и снасти — и пошла штормовая мелодия ветра, сверлящая и унылая, как зубная боль.
Вместе с ветром нагрянули космы сухого снега. Они проносились мимо эсминца, обгоняя его, — «Зоревой» погрузился в кромешную белую тьму. Пришлось убавить ход. Предостерегающе взвыла сирена. Нервно зашевелились антенны локаторов, прощупывая путь… Снег колюче и жестко шуршал по броне и отвердевшим чехлам, набивался в закутки, змеился у рымов и даже заклепок шершавыми языками — и тут же снова доверялся ветру, бросался вдогонку ему, чтоб раствориться в разбойничьих посвистах бури. За кормой, в пелене снега, то и дело рождались мутные силуэты, которые, приближаясь к эсминцу, дыбились, нарастали и уже у самого борта превращались внезапно в дремучие дымящиеся валы. Они с гулом обрушивались на палубу, содрогая корабль. На минных дорожках шипела и пузырилась пена. Вода металась между надстройками, не успевая стекать. Леера покрывались матовой коркой наледи.
Эсминец ложился на борт, с трудом, скрипя переборками, возвращался на ровный киль и снова зарывался по клюзы форштевнем в море. Оголяясь, всхрапывали приемные патрубки донок, всасывая жабрами клапанов не забортную воду, а воздух. Давились клокочущим горлом дымовые трубы: ветер вгонял им обратно в глотки мазутную липкую гарь. Сила шторма казалась таинственной и безмерной — быть может, потому, что он вырывался из тьмы и во тьму уходил. Видимый мир кончался сразу же за бортами, и море гремело поэтому всюду: вдалеке и рядом, под эсминцем и в небе над ним. Штормом и ревом сирены были пронизаны башни и палубы, мачты, надстройки, они пронизывали и мысли, не позволяя сосредоточиться, обрести спокойствие, нужное для работы.
Лицо Сидорчука покрылось испариной. Буря была попутной, и «Зоревой» плохо лежал на курсе. Куда его сносят течения, куда гонит ветер — разве учтешь? Каждая волна ударяет в корму, подгоняя эсминец, — каков его истинный ход? А впереди — крутой и скалистый берег, узенький — в несколько кабельтовых — проход в защищенную бухту, который даже на крупной путевой карте — не шире карандаша. Видимости — никакой. И именно в этих условиях штурман не мог, не имел права ошибиться… Сидорчук приказал включить эхолот: видимо, хотел уточнить место корабля по глубинам. А Сергей, забившись в угол рубки, где удобнее было хранить равновесие, с горечью сожалел, что ничем не может помочь старшему лейтенанту.
Качка утомляла. Легче всего она переносится на деревянных парусниках; волны плавно вздымают их, как пробки: вверх — вниз, вверх — вниз… А стальные тяжелые корабли волны поднять не в силах, и потому бьют их, кромсают, болтая, точно в лоханке. Сколько надежд оборвалось в такие вот дни? Сколько дум пронеслось? И наверное, именно в такие минуты международный сигнал отчаяния «sos» — save our ship, — спасите наш корабль — перекрестил матросский жаргон в save our souls: спасите наши души…
— Как место? — запросил с мостика капитан третьего ранга.
— Уточняю по глубинам, — доложил Сидорчук. — До берега, по расчетам, — миль пятнадцать.
— Ясно… А как Топольков?
— Держится, товарищ командир, — улыбнулся штурман, подмигивая Сергею. — Прощается с черноморской экзотикой.
— Если помощь его не нужна, пусть поднимется на мостик.
На мостике Сергею показалось гораздо спокойнее, нежели в рубке. Ветроотводы действовали безотказно — струи отраженного ветра свистели где-то рядом, над ухом, но пробиться сюда не могли. Да и качка на воздухе переносилась легче. И только сирена, приглушенная в рубке слоем брони, ревела здесь в тысячу раз оглушительней, пронзительно и бесновато. Отсюда, с мостика, хорошо было видно, как переваливается с борта на борт «Заревой». Его полубак, подхваченный попутной волной, высоко поднимался над морем, на миг повисал и затем с грохотом проваливался вниз, зарываясь в воду, вздымая и разметывая отвесные глыбы пены. Тогда море закрывало небо впереди, волны проносились вровень с мостиком — и Сергей ощущал за спиной противный, леденящий холодок. Но «Зоревой» снова карабкался вверх, на холмистые гребни валов, и снова устремлялся вперед, пробивая белую мглу. «Красиво, должно быть, — подумал об эсминце лейтенант. — Как жаль, что свой корабль никогда нельзя в море увидеть со стороны».
Чтобы приободрить сигнальщиков, которые до рези в глазах всматривались в сыпучую снежную пелену, командир предупредил:
— Берег здесь высокий, изрезанный — ветер всегда задувает вдоль него… Думаю, хоть немного разгонит снег — Потом, заметив Сергея, сказал: — Приглядывайтесь, лейтенант. Кто знает, когда вам снова удастся побывать в этих местах.
Командир не ошибся: пласты пурги, обгоняющей корабль, вскоре начали уклоняться в сторону и редеть. Включили прожектор — его луч пробился мили на две. Но радиометристы уже доложили: по курсу, в сорока кабельтовых, — берег… Поднялся на мостик и Сидорчук: его, видимо, волновало, насколько точно он вывел эсминец к бухте.
— Как глубины? — поинтересовался капитан третьего ранга.
— Порядка двухсот метров, — ответил штурман.
И тотчас же сигнальщик, повернувшись к вахтенному офицеру, взволнованно и потому чересчур громко крикнул:
— Берег прямо по носу!
Берега еще не было видно — впереди лишь потемнела белая закруть, хотя за нею могли оказаться и скалы, и просто чистое море. Но командир уже, видимо, опознал смутные контуры, потому что внезапно скомандовал рулевому:
— Три градуса влево по компасу! — И одобрительно взглянул на Сидорчука.
Близость берега угадывалась во всем: в громовых перекатах прибоя, что все чаще долетали до эсминца, в остервенелой и хаотической качке. Волны, казалось, набирали злобы перед тем, как броситься на приступ гранитных утесов. Они кружились вокруг «Зоревого», сталкивались и опрокидывались, и вместе с ними дергался и метался корабль, подставляя волнам теперь не только корму, но и оба борта и полубак — все сразу. Когда, наконец, прибрежные заветры разогнали снег, Топольков увидел меж скал проход в бухту. В нем толклись, пританцовывая, неровные, расщепленные обломки валов, не в силах ни вырваться обратно в море, ни соединиться в волну.
На мостике примолкли, выжидающе посматривали на командира: теперь все зависело от него. А капитан третьего ранга прищурил глаза, словно прикидывал расстояние до бурунов. Не отрывая взгляда от берега, связался по телефону с постом движения, предупредил машинистов, чтобы внимательней были на связи и у маневровых клапанов: корабль входит в узкость. Потом подошел к телеграфу и рывком перевел рукоятки на «Вперед полный».
Было что-то жутковато-леденящее в том, как стремительно надвигались на эсминец скалы. Но все понимали: там, в проливе, беснуются течения, ветры и волны, грозя выбросить «Зоревого» на камни. Побороть их силу могло лишь одно: скорость.
Сергей потерял счет времени, оно казалось ему бесконечно долгим, хотя в действительности измерялось теперь секундами. Броские доклады сигнальщиков, короткие команды капитана третьего ранга и отрывистые ответные «Есть!», точные движения рулевого и нервные звонки телеграфа — и эсминец, кренясь и вздрагивая, срезал повороты фарватера, продуманно рыскал в стороны, почти касаясь бортами буев, мигающих синими слезящимися глазами.
Камни, белые от пенящегося прибоя, то возникали перед форштевнем, то оказывались рядом с бортами, то поспешно катились за срезы кормы. Расстояния до них исчислялись десятком саженей. Кильватерная струя «Зоревого», сбиваемая волнами, наползала на них, и тогда особенно зримо угадывалась близость опасности. Скалы гудели в разрывах брызг, воздух, наполненный влагой, казался соленым на вкус. Гонимый ветром, он уже не свистел в антеннах, а как-то плакуче и обиженно всхлипывал, точно стекал обессиленный по надстройкам в голодные рты вентиляторов.
Ветер внезапно угас, волны, притихшие и ручные, заискивающе ластились к «Зоревому» — только тогда Сергей осмотрелся. Эсминец вошел уже в бухту, под защиту скалистого острова, который надежно и твердо стоял на пути урагана. На берегу мирно теплились огни небольшого поселка. Они напомнили как-то вдруг о покое земли, об уюте, о настоящей, а не условной ночи.
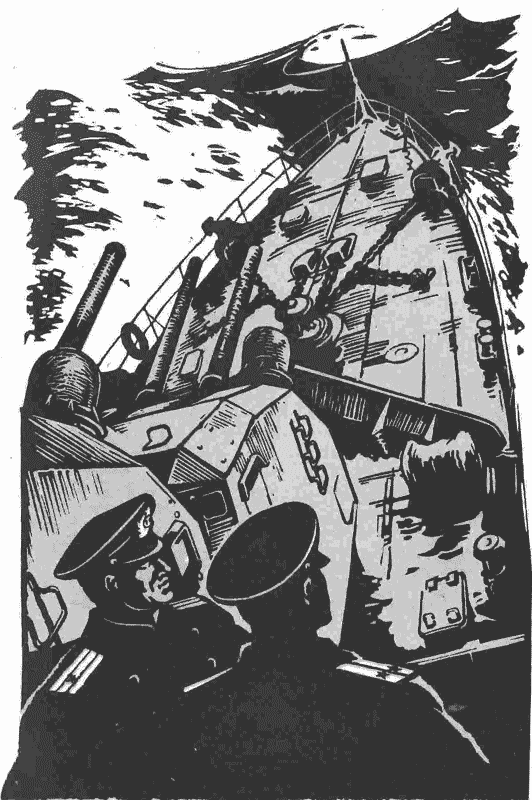
Взметнулся к рее шахматно-клетчатый флаг, означающий букву «3», — по-морскому «Земля». Он предупреждал и берег, и другие суда, если б они оказались рядом, о том, что эсминец дал задний ход. Громыхнул, ринувшись в серую воду, якорь. Поход был окончен.
Якорная вахта заступила по-штормовому: вахтенный офицер находился не на юте, как обычно во время стоянки, а на мостике; второй якорь был изготовлен к отдаче; гирокомпас не останавливался; турбины оставались под нагревом: в готовности. Вместе со старшим лейтенантом Сергей взял пеленги береговых ориентиров — они нанесли на карту точное место эсминца. По этим пеленгам вахтенный офицер сможет проверить, не дрейфует ли «Зоревой». А такая опасность не исключалась: грунт на дне бухты попался скальный, якорь держал плохо и для надежности пришлось вытравить несколько смычек якор-цепи — на клюзе было порядка ста пятидесяти метров.
Покончив со всеми делами, Сергей, наконец, спустился в каюту. Чемодан, который он позабыл вчера утром, сполз во время качки со стула и опрокинулся. Но сейчас было лень заниматься им. Лейтенант расстегнул китель и устало вытянулся на койке.
Уснуть не мог. Впечатления минувших суток беспрерывно воскресали в памяти. Перед глазами — стоило их закрыть — возникала мрачная штормовая вода: бурлящая, грозная, исполосованная плетями ветра. Видения этой воды отодвигали в далекое прошлое самые недавние события, не связанные с морем, Москву и Зою Каюрову, дорогу, генерала Иволгина. От этой каюты их отделяли уже не только сотни миль и снежные стены бури, но, казалось, и сотни дней, наполненных качкой и ревом турбин, тревожными докладами сигнальщиков, ровным и утомительным сиянием штурманских ламп. Позади были многие часы напряжения, а напряжение всегда скрадывает время, невольно превращая его лишь в ощущение силы, порыва или усталости.
Долго ворочался с боку на бок, пытаясь уснуть. В конце концов, не выдержал, оделся и вышел на палубу. Солнце уже давно померкло в буре — полярный день превратился в сумерки. Они, эти сумерки, снова напомнили о далеких ночах — далеких теперь и во времени, в в пространстве. Почти не верилось, что где-то сейчас падают звезды и в темноте, хмелеющей от запаха трав, дремлют разнеженные проселки, шепчутся верболоз и боярышник, млеют в июньской ночной теплыни дозревающие хлеба. Не верилось потому, что все вокруг было заполнено до предела отголосками шторма. Бестолковой зыбью, разведенной в бухте, гулом океанского прибоя по ту сторону острова, низкими косяками снега, летящими в небе. С моря приходил с порывами ветра арктический холод. Спасаясь от него, вахтенные матросы прятались за надстройки и башни, жались к вентиляторам, которые гнали наверх из отсеков горячий воздух.
— Не спится? — услышал Сергей рядом голос командира. Видимо, капитан третьего ранга обходил корабль перед тем, как лечь отдохнуть. Сутки, проведенные на мостике, не дались ему даром: под глазами проступили синеватые тени, а небритые щеки придавали такую же темноту и всему лицу его. Взгляд, уставший от моря, лучился едва заметной и скрытою добротой — той ненавязчивой добротой, что присуща, по сути, лишь сильным и истинно чутким людям.
— Пойдемте ко мне, лейтенант, — пригласил командир. — Хорошим табаком угощу.
У Сергея не хватило смелости признаться, что он не курит.
Каюта командира казалась просторной и светлой в сравнении с лейтенантской. Огромный ковер, закрывающий всю переборку, создавал впечатление прочной обжитости и почти берегового уюта. Глубокое низкое кресло, в котором удобно, наверное, спать во время похода. Чернильный прибор, сделанный корабельными умельцами: на обломке бронзовой мачты — чайка с перебитым крылом. А над столом — он сразу же привлекал внимание — портрет молодой женщины… Портрет был старый, поблекший от времени, и может быть, именно потому на нем особенно ясно выделялись большие, родниковой чистоты глаза. Эти глаза влекли к себе и влюбляли — Сергей никак не мог от них оторваться. Смущаясь, боясь оглянуться, он почти насильно заставил себя отойти к иллюминатору. За ним текли бесконечные волны, однообразно унылые, как потерянное время. Мигали буи неизвестно кому, не зная в своей тоске ни дня, ни ночи. Слоилось белое небо — оно опускалось за крыши поселка, сливая море и тундру и тяжелую мглу. Сергей снова взглянул на портрет и невольно вспомнил Зою Каюрову, встречу с нею в московском парке. Только затем, чтобы заглушить растущее чувство неловкости, поспешно промолвил первое, что воскресила память:
— В такую погоду, наверное, хорошо слушать Песню синих морей.
Даже вздрогнул — так резко обернулся к нему командир.
— Откуда вы знаете об этой Песне? — В его голосе Сергею почудилось что-то неизмеримо большее, чем взволнованность: порывистость и боль, неверие и надежда, изумленность и в то же время — испуг. Это была не любознательность: глаза командира — пристально напряженные, торопящие, — ждали ответа. И Сергей, не выдержав жадно-нетерпеливого взгляда, робко и сбивчиво начал рассказывать о Зое Каюровой, студентке Ленинградской консерватории, о ее возвращении после войны в родной город, в чужую незнакомую комнату. О песне на пожелтевшем нотном листке, забытом на старом рояле, и о предстоящем концерте.
— У вас есть ее адрес? — быстро спросил командир, и лейтенант заметил, как побелели его пальцы, сжимающие незажженную трубку.
— Да, конечно… — растерянно ответил Сергей и полез в боковой карман кителя, где хранилась записная книжка. Но капитан третьего ранга внезапно отвернулся и, пряча глаза, глухо и тяжело промолвил:
— Не надо, лейтенант… Я знаю этот адрес. — Он сломал несколько спичек, разжигая трубку, и уже потом, глубоко затянувшись, не то спросил, не то уточнил: — Лиговский проспект?.. — И назвал номер дома.
Это был адрес Зои Каюровой. Сергей непонимающе смотрел на командира, а тот, как-то сразу осунувшись и постарев, остановился перед портретом и замер в тоскливой задумчивости, позабыв о лейтенанте.
— Я пойду, — тихо сказал Топольков.
— Да, да, — машинально кивнул капитан третьего ранга. И лишь когда Сергей уже взял фуражку, вдруг обернулся и виновато вымолвил: — Простите, лейтенант, мне надо побыть одному. Бывают же такие минуты и у командиров? — попытался он улыбнуться.
За дверью каюты Сергей остановился и перевел дыхание. Он ничего не соображал, мысли путались, не в силах преодолеть смущение и неловкость. И уж совсем растерялся, когда в каюте за дверью, где, кроме командира, не было никого, раздался грудной, наполненный болью голос, обращенный неведомо к кому:
— Вест-тень-зюйд, на нашей дороге люди, кажется, счастливы.
Назад: Глава 9. КРАЙ МОРЕЙ ПОЛУНОЧНЫХ
Дальше: Глава 11. ТА ДАЛЕКАЯ ОСЕНЬ

