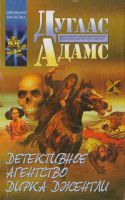Глава 09
— Первое — сделать себе имя, — сказал Дед. — Все остальное приложится потом, главное — имя. Пусть не самое громкое, пусть с оттенком скандала, но имя. И только после этого можно начинать совершать свой подвиг.
Дед никогда не спорил со старцами, молча сидел в стороне, не принимая участия в дискуссиях, а потом, по окончании, когда старцы удалялись откушать чаю и помечтать, садился с Трубецким, который тогда еще не был Трубецким, и часами над картами и книгами прикидывал — какой такой подвиг может себе позволить князь Сергей Петрович Трубецкой-первый.
— Войну объявить Наполеону — хороший ход, — одобрил Дед. — Так хлестко и необычно. Я бы даже сказал — свежо. Вот уж чего никто в то время не делал. Это обратит на тебя внимание, но только тогда, когда этот нелепый фанфаронский поступок ты подкрепишь яркими делами.
— Например — убивать, — угрюмо сказал тогда Трубецкой.
— Да. Но не просто убивать, а так, чтобы на это обратили внимание. Не мне тебя учить…
— Угу, — кивнул Трубецкой, рассматривая свои руки. — Ради светлого будущего чего только не сделаешь…
Дед молча ждал, пока прекратится истерика, потом предложил продолжить.
Они даже набросали списочек возможных подвигов для подпоручика Трубецкого. Вначале записывали все, что приходило в голову, а потом вычеркивали то, что слишком уж зависело от случая.
Например, принять участие в Бородинском сражении и возглавить контратаку, скажем, на Багратионовы флеши. Поступок хороший, яркий, но таящий в себе больше риска, чем это допускал здравый смысл. Картечь и залповый мушкетный огонь не слишком избирательное оружие. И увернуться от пуль при такой атаке… А героически погибнуть или стать инвалидом-орденоносцем в планы Трубецкого не входило. Совсем.
— Мы помним, — сказал Дед, — что ты отправляешься не Отечество защищать, его и без тебя защитят. Есть кому, слава богу. И защитили, как нам указывает учебник истории. Ты отправляешься строить для этого самого Отечества светлое будущее, и никак не меньше. Значит…
— Значит, — сказал Трубецкой, — все средства хороши. А подвиг должен зависеть только от личных действий меня, любимого.
Дед хмыкнул, но спорить не стал. Хотя обоим было понятно, что не бывает такого, чтобы только от одного человека все зависело. Вот хоть тресни — не бывает. Да еще так, чтобы и не рисковать, и совершить поступок яркий и привлекающий внимание.
Можно было, конечно, убить Наполеона.
Нет, серьезно, была такая возможность, но от нее сразу отказались. И не потому, что было слишком рискованно, наоборот. Когда полыхнет Москва и огонь подступит к самому Кремлю, император бросится на выход и двинется по Арбату в безопасное место. И охрана его в этот момент будет не так чтобы надежна, да и все будут слишком взволнованы, чтобы обратить внимание на Трубецкого с егерским штуцером в руках. Одного выстрела хватит, чтобы изменить историю.
Но вот в какую сторону эта самая история потом покатится, не мог предсказать никто. Да и доказать потом, что это именно Трубецкой стрелял, будет ой как непросто. Ну и шанс уйти после выстрела… Нет, не подходит. К тому же — не то время, чтобы цареубийца героем стал.
Когда герой-партизан Фигнер предложил Кутузову убить Наполеона прямо в Кремле, Михаил Илларионович долго кряхтел, не решаясь принять предложение. Пытался свалить решение на своего начальника штаба, но Ермолов, словно не понимая… или все понимая прекрасно, отбояривался: «Как прикажете!» Ничего потом у Фигнера не получилось, но несколько тяжких минут он главнокомандующему доставил.
Значит, убийство Наполеона нам не подходит.
Брать города, как это делали Винцингероде, Бенкендорф, Давыдов и прочие партизаны, Трубецкой не мог, да и не собирался, большой отряд в его планы не входил, большое количество народу скорее мешало бы Трубецкому, так что и этот путь к славе был заказан.
Первым ворваться в Париж? Водрузить флаг на соборе Парижской Богоматери? Так не будет общего штурма. Будет сражение перед городом, будет атака русских войск на Монмартр и судорожные переговоры с французским командованием, которое больше интересовал не столько сам факт сдачи столицы, сколько необходимость соблюсти приличия и не опозориться. Значит, сидят генералы в кафе, спорят, как сдавать Лютецию и куда отойдут французские войска, а тут князь Трубецкой флаг втыкает в пасть горгульи?
Подвиг?
Нет. Чушь и анекдот.
Список возможных подвигов все сокращался и сокращался, получалось, что особых вариантов и нет, что тот путь, который реальный князь Трубецкой прошел в ту войну, от ордена к ордену и от звания к званию, — единственно логичный и возможный. И совершенно не подходит тому, кто завладеет телом князя.
— А что, если… — Трубецкой постучал пальцем по листу бумаги с хронологией той войны. — Если уж я начал с ним общаться, пусть и не напрямую, то будет логичным…
— И где ты планируешь все это провернуть? Прямо там, на месте? Не подходит. Получится небольшая стычка на линии аванпостов, ну да, тебе, может, дадут орденок, и все. Легендами это не обрастет.
И Дед был прав. Но и Трубецкой не собирался лезть напролом, без изыска.
— Вот смотри: то, что это произойдет, мы знаем. Знаем, куда потом его повезут, — так?
— Так.
— И то, что сам Наполеон будет с ним разговаривать, кричать и угрожать расстрелом, мы тоже знаем. То, что его не расстреляют в конце концов, в тот момент не будет знать никто, даже Наполеон. То есть если я все проверну достаточно быстро, то получится, что я его спасу от смерти, да еще утру нос самому французскому императору.
— А если тебя зацепят? — закурив, как бы между прочим поинтересовался Дед. — Свяжут белы рученьки, поставят к стеночке…
— Значит, не судьба, — развел руками Трубецкой. — Если к тому моменту я и вправду приобрету себе имя, то меня, пожалуй, расстреляют прямо там, на месте. И генерала ко мне присовокупят.
— Ну… он и так проживет не особо долго, отдаст богу душу 10 июня тысяча восемьсот восемнадцатого… в сорок восемь лет, от ран и болезней. Ну не примет он участия в сражении при Калише, при Лютцене, не возьмет штурмом Суассона — все это сделает кто-то другой. Не катастрофа. Если тебя убьют — плохо, но… — Дед в задумчивости постучал пальцами по столу. — Но если получится его спасти, то… Красиво может получиться. Полагаешь, ты к тому времени группу уже сколотишь?
Группу к началу октября Трубецкой уже сколотил. Неплохая получилась группа. Не из суперменов, но ребята были толковые. И не брезгливые.
Крестьян к тому моменту Трубецкой уже распустил по домам. После посещения Москвы и в результате регулярных нападений на обозы мужики, в общем, разбогатели. Да и вопрос теперь стоял не столько о нападении на французские войска, сколько о защите своих сел и деревень от мародеров. Трубецкой своим все так и объяснил. Не забыл напомнить, что убивать теперь нужно французов аккуратно, так, чтобы потом в избах ничего такого нельзя было найти. Убили и закопали. Или утопили в болоте.
Еще можно было брать в плен и отводить к армейским, там еще и денежку на этом можно было заработать, начинали приплачивать мужичкам за пленных, чтобы хоть кого-то пейзане приводили в русский лагерь живым.
— И никому не рассказывайте, что были в моем отряде. Вы вообще ничего не слышали о князе Трубецком. Не слышали ведь?
Мужики и не слышали. А чего там слышать? Они привыкли Сергею Петровичу верить, сколько вон с ними прошел и ни разу слова не нарушил. И если обещал после войны приехать и выкупить, то и приедет, и выкупит. А не сможет — сами решат. Денежки есть. И на всякий случай оружие будет в лесу спрятано.
А ту службу, что князь попросил исполнить к декабрю, мужики обещали сделать. Для Сергея Петровича можно будет и еще раз повоевать, чего уж там. И сами придут, и приведут кого-нибудь еще… Вот передохнут по домам малость, и…
Так что к началу октября у Трубецкого осталось всего три десятка человек. Пятеро гусар Чуева, десяток солдат из разных полков, которые согласно рапортам ротмистра входили в его особую команду, Томаш Бочанек, Кашка с Антипом — отказались сорванцы уходить по домам, да Трубецкой их особо не гнал — и интернациональный взвод, как про себя называл Трубецкой иностранцев, тем или иным способом прибившихся к нему.
Четыре испанца, два вестфальца, баварец, три итальянца, один саксонец и два корсиканца, которые напрочь отказывались называть себя французами и отчего-то не любили Наполеона больше, чем все остальные интернационалисты… ну разве что кроме испанцев. Еще восемь иностранцев погибли в стычках с французами. Всего отряд Трубецкого с июня по октябрь потерял убитыми двадцать три человека. Совсем немного, если сравнивать с тем, какие потери они нанесли Великой Армии и сколько беспокойства причинили.
Наверное, такая арифметика должна была Трубецкого успокаивать.
За каждого погибшего — русского или иностранца — Чуев ставил свечку, заказывал молебен, Трубецкой не возражал. Если погибшие были семейными, то отправлял вдовам и сиротам деньги, заработанные кормильцем. Иностранцам… Семьям иностранцев тоже обещал при первой возможности переправить немного денег.
Отечественная война близилась к завершению, с подвигом нужно было решать… То есть решать-то как раз было и нечего, нужно было его совершить.
Закончив свои дела возле Засижья, что в Смоленской губернии, Трубецкой с отрядом вернулся по Старой Смоленской дороге к Можайску. Кашку с Антипом оставил у Засижья, указав фронт земляных работ. Странно, но доверять — полностью доверять — он мог только этим двоим мальчишкам. Кто-то из отряда мог сломаться на жадности, кто-то стал бы рассуждать на темы допустимости-недопустимости каких-либо действий, а ребята просто делали то, о чем их просил Сергей Петрович.
Самому князю вместе с остатками отряда неделю пришлось провести в деревеньке со смешным названием Козлики неподалеку от Вереи, потом наступил назначенный день.
— Я тебя в последний раз прошу: откажись от этой безумной мысли, — отведя Трубецкого в сторону, попросил ротмистр Чуев. — Откуда ты можешь знать, что именно сегодня генерала привезут в Верею? И мало что в Верею, а сюда, в чисто поле, да еще что он будет встречаться с самим Наполеоном…
— У меня предчувствие такое, — засмеялся Трубецкой. — Вот кажется мне. И сон приснился, будто выходит генерал из дома, а там его я жду… Ты же сам видел записку от отца Иоанна — прибыл отряд Мортье.
— Тьфу ты! — Ротмистр покачал головой. — Если тут будет Наполеон, то народу всякого нагрянет, и старая гвардия, и молодая, какая там еще? Средняя? Все будут тут. Вон глянь на дорогу: сплошным потоком идут, тысячи и тысячи — конные, пешие…
— Так если народу много, так и затеряться можно, правда? Ты вот, Алексей Платонович, в Москву ездил? И как я тебя ни уговаривал — все равно поехал, да еще ни в чем не повинных гусар своих с собой потащил… Нет? — Трубецкой, поддерживая беседу, не сводил взгляда с дороги от Вереи. Уже почти полчаса как несколько всадников топчут поле, заросшее травой, подтянулось несколько повозок, и даже вроде как разожгли костер.
Очередной посыльный от верейского протоиерея, по совместительству командовавшего отрядом вооруженных крестьян, сообщил, что у дома, в котором остановился Наполеон, — суета. Съезжаются военачальники и вроде как собираются выезжать. Искали проводника, им умудрились подсунуть мужика из отряда отца Иоанна, и куда-то в эту сторону ехать собирались.
Если судить по суете на поле, тут точно ожидают Императора, правильно рассчитал Трубецкой. Как там писали в воспоминаниях? В полулье от Вереи встреча с отрядом Мортье.
— Так в Москве были мои родственники… — виноватым голосом оправдывался в который раз Чуев. — Племянница моего кузена… Дальние родственники. А тут… Что, один этот генерал в плену у супостата? Тучкова вон когда полонили… — Чуев оглянулся на своих солдат, расположившихся недалеко от опушки в глубине леса, и понизил голос. — Я давно хотел с тобой поговорить…
— Так поговори, — так же тихо ответил Трубецкой. — О чем? Об Александре? Так ее я уже отправил в безопасное место…
— И слава богу! — Ротмистр перекрестился. — Я на ваши эти игры уже смотреть не мог. Как же так можно друг друга мучить?
— Ты же знаешь, я пытался…
— Пытался он… Ну да ладно, пристроил в монастырь, так пристроил. Спасибо тому же отцу Иоанну, великий человек. К Новому году, ты сам говорил, что все закончится, вот и ее сможешь забрать, если захочешь. Сама-то она там не останется, монастырь православный, она католичка… все равно что-то нужно будет придумать.
— Придумаем. Это все, что ты хотел мне сказать, Алексей Платонович?
— Нет, не все. — Лицо Чуева стало серьезным. — Я вот смотрю на тебя… Вот вроде живой человек, чувства имеешь, состраданием к своим ближним наделен. За Родину воюешь… как можешь, но воюешь же…
— Благодарю за комплимент, — улыбнулся Трубецкой.
— Воюешь, только вот взгляд у тебя… как в театре. Будто сидишь ты на балконе, смотришь пьеску, которую заезжие актеры представляют. В программке все прочитал, кто жив останется, кто помрет к последнему действию… И скучно тебе, скучно неимоверно. Будто и аплодируешь вместе со всеми, за билет заплатил, опять же цветы на сцену бросил, когда актеры на поклон вышли, а все одно — скучно, вроде как ты номер отбываешь. Даже не по служебной надобности, а так, чтобы время убить… — Ротмистр достал из кармана снаряженную трубку, зажег ее, щелкнув несколько раз кресалом, затянулся. — Даже горящая Москва тебя не поразила, не вызвала никаких чувств…
— Мне было не до того, — попытался возразить Трубецкой. — Мне голову чуть не прострелили, сам ведь видел, каким я вернулся из Первопрестольной…
— Видел. И как ты на французов смотришь — видел. Ты же их вроде как ненавидишь, вон как страшно казнишь пленных! Только и убиваешь ты будто через силу. Вот кровожадность демонстрируешь, а в глазах — скука и тоска… и ничего более. Мальчишек вроде привечаешь, можно сказать — любишь. Они от тебя не отходят, на смерть за тебя пойдут не задумываясь… Но ведь и убьют любого, глазом не моргнув, по твоему приказу или даже без него. Ты как-то сказал, что хочешь их выучить, людьми сделать… Убийцами ты их уже сделал. Душегубами. Меня воротит, немолодого уже человека, а они… Им даже нравится это — чужую жизнь отнять.
— Может, и мне нравится?
— Тебе — нет. Душу могу заложить — не нравится тебе кровь лить, только льешь ведь, Сергей Петрович. Жизнь надоела? Так ты и не рискуешь напрасно, не лезешь в огонь очертя голову. Только вот с Москвой так получилось, но там Александра…
— Не будем о ней, — быстро сказал Трубецкой.
— Не будем, а только на нее ты смотришь живым взглядом. Без скуки… Как побитая, извиняюсь, собака смотришь…
— Скажи, Алексей Платонович, тебя никогда по лицу за душевность твою и ласковость не били? Так, чтобы зубы веером разлетелись? Не били? — очень серьезно спросил Трубецкой.
Чуев вздохнул.
— Вот и не будем до этого доводить. Нехорошо старшего по званию по щекам хлестать. Не вводи в соблазн, Христом-богом прошу… — Трубецкой посмотрел на небо, поежился. — Скоро морозы ударят. И начнут бедные французики насмерть мерзнуть.
— С чего бы это морозы в такую рань? — удивился Чуев.
— А хочешь — поспорим? — Трубецкой протянул руку. — Давай на пять рубликов об заклад побьемся… И недели не пройдет, как ударят морозы.
— Не буду я с тобой спорить, вот еще чего удумал. Ты лучше мысль эту свою — генерала вызволят — брось.
— Как же бросить? А если мне скучно? Да и парни мои давно французов не убивали… Они как услышали, что самому Наполеону можно нос утереть… В общем, ты как хочешь, а я… Кстати, смотри. — Трубецкой указал рукой в сторону дороги. — Если я не ошибаюсь — гвардейские конные егеря. Нет?
Чуев прищурился, разглядывая конный отряд, вынырнувший из-за березовой рощи.
— Точно — егеря. — Трубецкой оглянулся на стоявшего неподалеку Васю Филимонова, махнул рукой. — Василий, не принесешь ли мне из седельной сумки подзорную трубу?
— И мою захвати, — крикнул Чуев. — Все-таки думаешь, что сам Наполеон…
— И Наполеон, и Мюрат, и Бертье… Коленкур, Лористон и Рапп, не считая всякой-разной мелочи и прочей штабной суеты.
— Вот, Сергей Петрович. — Корнет протянул трубу. — Я…
— Что мнешься, Василий? — засмеялся Трубецкой, прикладывая трубу к глазу. — Хочешь взглянуть на императора? Когда он появится — я тебя позову. Честное благородное слово!
— Спасибо, Сергей Петрович! — просиял корнет, но далеко отходить не стал, присел на пенек в нескольких шагах.
— Точно, егеря… — Трубецкой перевел трубу с егерей, которые как раз съезжали с дороги, на угол дальней березовой рощи. — И еще… еще… так, жандармы, кареты и повозки… Видишь, Алексей Платонович? И что это, как не штаб и свита Его Императорского Величества Наполеона? Нужно было тебя на спор уговорить. Хоть на щелчки… Вот он — спектакль. А мы с тобой — на райке, но с театральными подзорными трубами.
— Ну да… На щелчки… И у тебя бы рука поднялась на старшего по званию?
— А ежели долг чести? — осведомился Трубецкой с серьезным видом.
— Ну… разве что долг чести.
Поток войск, идущих от Вереи, прервался. Видимо, кто-то приказал остановить людей и обозы, чтобы не мешать следованию Императора и сопровождающих его лиц. Теперь упряжка с пушкой и две крытые повозки, стоявшие на обочине неподалеку от опушки леса, стали очень заметны.
— Сейчас кого-то пришлют поинтересоваться, кто такие, — сказал Трубецкой и громко добавил: — Всем затихнуть и не шевелиться!
От группы конных на поле отделился жандарм и направился к пушке и артиллеристам, суетящимся возле нее. Сломанная ось — это сломанная ось, тут так с ходу ничего исправить не получится. Вестфальцы-артиллеристы сняли пушку с передка, оперли о ящик и, перекликаясь, с руганью выясняли — кто все это устроил и как теперь это преодолевать?
Вестфальцы так увлеклись руганью, что не заметили подъехавшего. Собственно, вестфальцев среди артиллеристов было всего четверо, испанцы и итальянцы, переодетые в вестфальские мундиры, делали вид, что очень заняты, и молчали, а ругались друг с другом Рольф Ротбауэр и Фердинанд Кляйн, прозванный Малышкой.
И ругались за всех, причем предпочитая нижненемецкий язык, который саксонец Михаэль Дунке, единственный настоящий артиллерист из компании, например, понимал плохо.
Жандарм почти минуту с видимым удовольствием слушал затейливую вязь словес, которую плел Ротбауэр, потом все-таки вмешался и потребовал сказать: какого черта вы, идиоты, тут делаете?
Ротбауэр перешел на французский и сообщил, что слепой от рождения Малышка загнал лошадей в яму, пушка сломала ось, колесо отлетело, а Кляйн с обидой стал рассказывать, что эти проклятые русские дороги все состоят из сплошных ям, а он не волшебник, чтобы направлять эту дерьмовую упряжку дерьмовых лошадей по этой дерьмовой дороге этой дерьмовой страны…
Жандарм сказал, чтобы идиоты убирались отсюда подальше. Сейчас сюда приедет Император.
— Прямо сюда? — спросил Ротбауэр. — Вот прямо-таки сюда, к этой ублюдочной пушке?
— Нет, вряд ли. — Жандарм покачал головой. — Но он может заинтересоваться…
— Мы-то уберемся отсюда, — Ротбауэр пнул уцелевшее пушечное колесо, — а вот пушку придется бросить. Ты сам будешь рассказывать Его Величеству, какого дерьмового дьявола тут делает совсем новая пушка? Так хоть все это выглядит более-менее прилично. Когда я учился в Гейдельберге, нам профессор говорил, что все должно иметь смысл. Вот в нас возле чертовой пушки смысл есть. А в брошенной пушке — нет никакого смысла, согласись, приятель. И своему начальнику скажи. Мы же тут никого не трогаем и никому не мешаем. Нам тут еще, может, час нужен.
Жандарм с сомнением оглянулся — кавалькада карет, повозок и кавалеристов уже остановилась. Все это скопище важных людей было не так уж и близко к пушке и этим тупым вестфальцам, и вряд ли кто-то из маршалов заинтересуется происходящим здесь.
— Я скажу, — принял решение наконец жандарм. — Час, не больше. Но если меня там не послушают…
— Тебя и не послушать? — искренне удивился Малышка с восхитительным немецким акцентом. — Такого представительного парня? Да начальство от тебя должно быть в восторге. То, что ты до сих пор не офицер, — самая большая несправедливость на свете. После той, что придурка Ротбауэра сделали старшим в нашей команде…
Жандарм уехал, Ротбауэр посмотрел в сторону леса и с усмешкой кивнул.
— Ну вот, а ты, Алексей Платонович, опасался. Я же тебе говорил: люди, занимающиеся делом, внимания не привлекают. Лишь бы все выглядело естественно, уместно в данном случае… — пробормотал Трубецкой, внимательно глядя в подзорную трубу. — Вот, кажется, и Император. Точно, он. Верхом приехал, как положено воину и завоевателю…
— Где? — вскинулся корнет Вася Филимонов. — Приехал?
— Ладно. — Трубецкой вздохнул и протянул трубу корнету. — Смотри, наслаждайся. Во-он дорога поворачивает к березовой роще, видишь?
— Вижу, — сказал Василий.
— Почти на самом повороте несколько повозок, карета, куча конников…
— Да-да…
— И на серой лошади — в сером же сюртуке… Видишь? Такой небольшой и с брюшком…
— Наполеон? С брюшком? — переспросил недоверчиво корнет.
— Представь себе. А как грянут морозы, а они скоро грянут, — добавил Трубецкой, покосившись на Чуева, — то император будет разъезжать в дамском лисьем салопе.
Ротмистр хмыкнул.
— В салопе, в салопе, не сомневайся, Алексей Платонович, можем, если хочешь, побиться об заклад…
— Всадник из Наполеона так себе, — оценил ротмистр. — Какой из артиллериста может быть кавалерист? А вот конь у него неплохой, араб, кажется…
— Зовется Визирь. Хотя, может, сегодня император и на Маренго, бог его знает. — Трубецкой похлопал корнета по плечу. — Отдавай, Василий, трубу, мне врага высматривать нужно…
До Наполеона было не больше километра. Ну — метров восемьсот. Труба не позволяла разглядеть детали, было видно, как всадники медленно передвигаются по полю, словно что-то высматривая. Из-за березовой рощи выехала еще одна карета, сопровождаемая жандармами.
— А вот, кажется, и наши герои… — Трубецкой тронул ротмистра за локоть. — Вот, четверка с парой жандармов… видишь?
— Вижу. А это точно они? Может, какая-нибудь дама…
— Сейчас остановится, жандарм отправится к офицерам, наверное, к Мортье, раз уж тот привез генерала с собой. Мортье спросит Наполеона… Тот прикажет привести, но сразу не подойдет к пленным. Нет, он сначала сделает вид, что никого не видит, потом… потом спешится, еще некоторое время походит, и только после этого…
— Тебе бы, Сергей Петрович, на ярмарках бы выступать, — через несколько минут сказал Чуев. — Откуда ты…
— А чего тут угадывать? Наполеон собрался покричать на генерала, пригрозить расстрелом, если тот его подданный и воюет против него… Сидя в седле кричать на пешего неудобно. Еще конь дернется от крика… Ты слышал, как Наполеон перед Неманом упал? С коня свалился, был бы посуевернее — войну бы не начал. А так… Генерала только сегодня привезли, значит, нужно поговорить немедленно. Сразу к ним бросаться — нехорошо, некрасиво… Так что… Вот, гляди, началось…
Крохотная серая фигурка Наполеона перед зеленой фигуркой русского генерала. Стояла, двигалась, снова двигалась. Император, кажется, изволил жестикулировать…
— Что, интересно, он говорит? — спросил Чуев.
— Что говорит… Возмущается изо всех сил его императорское величество. Говорит, что это генерал виноват в том, что началась война… полагает, что раз генерал уроженец Германии, то сейчас является подданным Наполеона, является предателем и должен быть расстрелян…
— Как расстрелян? — Чуев даже опустил подзорную трубу. — Генерал? В плену? Расстрелян?
— Не бойтесь, генерал родился в Пруссии, значит, не является подданным Наполеона и формально — не предатель. Так что… Хотя чего только Наполеон сгоряча не может натворить. Вот… А теперь император решил пообщаться с адъютантом генерала… Видишь, Алексей Платонович? Генерала повели к дороге, а второго пленного оставили рядом с императором.
— А кто ж адъютант? Раз уж ты все про всех знаешь — кто адъютантом сейчас у генерала?
— А Лев Александрович Нарышкин, ротмистр Изюмского гусарского.
— Лева?! Вот ведь оказия, если ты, конечно, не врешь… Его тоже расстрелять грозятся? Бедняга…
— Почему бедняга? Он очень даже понравился императору. Вот, говорит император, какого дьявола ты немцу служишь? Даже в плен за ним пошел, чтобы одного не бросать… русским генералам служи, а немцев нужно гнать из вашей армии…
— Прям так и говорит?
— Ну почти так. И в конце беседы пригласит ротмистра к обеду…
— К обеду? Ротмистра? Наполеон? Ну ты ври, брат, да не завирайся…
— Хорошо, не буду. Тем более что обеда здесь у Наполеона не будет. Мы обед сорвем… Так ведь, Алексей Платонович? У нас ведь все готово?
— В последний раз тебя прошу, Сергей Петрович…
— А я тебе говорю — пустое. Как решил, так и сделаю. А ты разве не хочешь своего однополчанина, можно сказать, приятеля из плена вызволить? — Трубецкой отдал Василию Филимонову трубу, свистнул в два пальца, и Доминик Агостини, один из корсиканцев, подвел к нему коня. — Значит, как договорились — быть в готовности и ждать. Не подведи, Алексей Платонович, мне сегодня с утра так жить хочется…
Трубецкой засмеялся и вскочил в седло.
— Командуйте, ротмистр! — крикнул он, направляя коня к дороге.
Следом за ним двинулись корсиканцы. Доминик Агостини улыбался, скаля белоснежные зубы, Энцо Колонна, как обычно перед боем, дымил трубкой.
Император как раз успел пригласить русского ротмистра принять участие в обеде, когда раздался взрыв. Клубы черного дыма поднялись над лесом. Ударило несколько мушкетных выстрелов. Не очень близко, может, с пол-лье, может, чуть ближе.
Все посмотрели в ту сторону.
Начальник конвоя отдал приказ, егеря стали проверять оружие.
После недавнего случая возле Малоярославца, когда казаки чуть не пленили Наполеона, в свите императора к разного рода неожиданностям стали относиться очень настороженно, справедливо полагая, что раз уж сам император не расстается теперь со склянкой яду, то и всем остальным нужно проявлять максимальную осторожность.
Бой за лесом, судя по всему, завязался нешуточный, мушкеты били то залпами, то россыпью, несколько артиллеристов, возившихся с пушкой возле леса, бросили орудие и вместе с двумя повозками быстро припустили по дороге прочь от выстрелов.
— Да пошлите же кого-нибудь проверить! — не выдержал Наполеон. — Что там происходит?
Мюрат хотел было отправиться лично, но тут кто-то заметил, что по дороге из-за леса галопом несутся три всадника. Когда они приблизились, оказалось, что это польский офицер и два французских драгуна.
— Ко мне его! — крикнул Наполеон.
— Лейтенант первого батальона третьего полка шестнадцатой дивизии Зигмунд Пшимановский, — отрапортовал офицер, когда его подтолкнули к императору.
— Что там случилось? — Наполеон указал на лес, за которым все еще гремели выстрелы.
— Московиты атаковали обоз, — доложил поляк.
— Казаки?
— Возможно, что и казаки, но видел пеших егерей. По-моему, их полный лес… Обоз пока держится, но… — Лейтенант вздохнул, оглянулся через плечо в сторону выстрелов.
Было понятно, что он сейчас с удовольствием продолжил бы свою скачку подальше от проклятых московитов.
— Нужно уезжать, сир… — сказал тихо кто-то из маршалов. — Не исключено, что это только провокация, а основной удар…
— Не смейте мне указывать! — вспылил Наполеон. — Пошлите кого-нибудь за войсками и очистите лес, это ведь меньше лье от Вереи! Мы собирались ночевать в этом городе…
Польский лейтенант попятился, стараясь убраться с глаз императора, как на его месте поступил бы любой офицер или солдат Великой Армии.
Маршалы и придворные уговаривали Наполеона ехать в Верею. Мюрат, правда, предложил атаковать силами конвоя, но его слушать никто не стал. Все приводили неотразимые аргументы, связанные с ответственностью императора перед Францией и Европой, указывали на то, что такая ерунда, как атака просочившихся егерей, недостойна внимания самого Наполеона, что вот прямо сейчас прибудут войска и ударят… Да и стрельба, кажется, стихает, русские уходят…
Наконец Наполеон позволил себя уговорить. Он нащупал в кармане своего сюртука склянку с ядом и сказал:
— Да, пусть этим займутся солдаты. Мой штаб…
Польский лейтенант не стал дослушивать, что именно должен делать штаб, по мнению Наполеона. Он подошел к ротмистру Нарышкину, который с немного растерянным видом стоял в стороне. В общей суматохе о нем забыли.
— Господин ротмистр! — официальным тоном, не терпящим возражения, произнес поляк. — Пройдите, пожалуйста, к карете, в которой вас сюда привезли. И немедленно!
Ротмистр хотел что-то возразить, сказать о недопустимости такого тона, но взгляд его натолкнулся на пистолет, который держал в руке поляк.
— Или я буду стрелять, — предупредил лейтенант.
Нарышкин дернул щекой и молча прошел к карете.
Генерал уже был внутри, два жандарма сидели на козлах, трое стояли возле открытой дверцы.
— Нам приказано ехать, господа, — сказал польский лейтенант, подталкивая к дверце Нарышкина. — Немедленно!
Один жандарм помог Нарышкину подняться в карету, затем вошел следом и закрыл дверцу. Двое других обернулись к своим лошадям, привязанным к карете.
Дорогу им как бы случайно преградили два французских драгуна, прискакавших вместе с поляком.
— Привет! — сказал один драгун и широко улыбнулся.
Второй кивнул, не выпуская трубки изо рта.
— С дороги! — сказал жандарм.
— Да, конечно! — Драгуны отступили в стороны. — Извини, товарищ.
Но лошадей жандармы отвязать не успели: один умер сразу, когда нож Трубецкого ударил его в спину, под левую лопатку, второй дернулся в сторону, и Доминику Агостини его пришлось ударить еще дважды, прежде чем он замер. Энцо Колонна легко вскочил на козлы и воткнул нож в печень сидевшего там жандарма.
— Трогай! — приказал князь громко, потом распахнул дверцу кареты и со словами «Не помешаю?» вскочил внутрь. Дверца захлопнулась.
Карета тронулась с места, Агостини вскочил в седло своего коня и повел за собой двух других лошадей за уздечки.
В общей суете никто сразу не обратил внимания ни на то, что карета, развернувшись, двинулась не к Верее, а в противоположную сторону, в которой еще недавно гремели выстрелы, ни на два мертвых тела, лежащих на земле в лужах крови. А когда кто-то из жандармов из свиты императора увидел наконец убитых, карета уже успела проделать почти половину пути до брошенной вестфальскими артиллеристами пушки.
Сбежавшая карета поравнялась с двумя крытыми повозками, в которых артиллеристы ехали, повозки остановились и почему-то стали поворачивать, располагаясь поперек дороги. Солдаты из повозок выпрыгнули — их было четыре человека, двое вскочили на запятки кареты, а еще двое — в седла лошадей, которых вел Агостини.
Это было похоже на предательство. А когда адъютант Мортье осознал, что это карета, в которой привезли пленников, и что самих пленников нигде не видно, ни генерала, ни его адъютанта, то сразу же отдал команду догнать и вернуть беглецов.
Десятка два кавалеристов, гусары и драгуны, бросились вдогонку.
Кто-то из них выстрелил, но прицелиться мешали повозки артиллеристов. Обогнув препятствие, французы снова выстрелили несколько раз, один из солдат, стоявших на запятках кареты, взмахнул руками и упал, но быстро вскочил и побежал вслед за каретой.
Французы быстро сокращали расстояние до беглецов, а те, кажется, не особенно и спешили, проехав мимо пушки, стоявшей на одном колесе и ящике, карета вообще остановилась.
Всадники погони обнажили сабли, полагая, что беглецы собираются защищаться. Отреагировать на то, что возле пушки вдруг появился человек, никто из французских кавалеристов не успел, зашипел запальник пушки, грянул выстрел, и картечь с дистанции в двадцать шагов ударила в плотную группу гусар и драгун.
Визг, крики ярости и вопли боли.
Лошади поднимались на дыбы и падали как подкошенные, сбрасывая своих седоков — живых, раненых и мертвых — на землю. Шестеро уцелевших кавалеристов продолжили атаку, но из-за деревьев леса выступили несколько стрелков в русских мундирах, вскинули мушкеты и мушкетоны, по команде выстрелили.
Свита Наполеона видела все происходящее. Сам император смотрел на то, как погибли его люди. Когда посланный к лесу полуэскадрон прискакал к месту боя, из живых там оставалось несколько лошадей и десяток раненых кавалеристов.
В карете был обнаружен перепуганный жандарм, который на вопрос, что именно произошло, смог пробормотать только одно: «Трубецкой», и протянул небольшой запечатанный конверт, в которых обычно отправляют амурные послания.
«Его Величеству» — значилось на конверте.
«Очень рад был лично познакомиться с Вашим Величеством, — значилось в письме. — Надеюсь, я не причинил Вам особого беспокойства, но нельзя угрожать русским генералам расстрелом. Даже если генерал — немец по происхождению. До встречи во Франции. Искренне Ваш, князь Трубецкой».
Наполеон был в ярости, он требовал отправить погоню, обыскать весь этот проклятый лес, вырубить его, сжечь! Потом немного успокоился, но, обнаружив неподалеку чудом уцелевшее поместье, приказал спалить его дотла. Они сами жгут свои города, сказал Наполеон. Почему же мы не должны…
Если бы Трубецкой узнал об этом приказе, то не очень бы сильно огорчился. Поместья, наверное, жалко, но ведь его Наполеон все равно, хоть так, хоть так, приказал бы сжечь. Этот факт был зафиксирован в истории. Можно было бы даже расценить это как проявление эластичности времени.
Так или иначе, дом сгорел, несмотря на вмешательство Трубецкого. Время старательно затягивает появившиеся прорехи? Сводит эффект от вмешательства к минимуму?
Наверное, это могло бы как-то успокоить Трубецкого. Но…
Он, трясясь в карете, сразу и не понял, что пуля пробила ее стенку. Да и бог с ней, со стенкой, пуля ударила в спину ротмистра Нарышкина. Только что ротмистр смеялся, все еще не веря чуду своего освобождения, потом вдруг замолчал, поднес руку к груди, потер ладонью и оглянулся назад… попытался оглянуться. Из уголка рта у него появилась алая струйка.
Нарышкин попытался что-то сказать, открыл рот. Попытался вздохнуть, захрипел и стал клониться набок, к дверце. Трубецкой и генерал подхватили его, но тело ротмистра безвольно обвисло. Пульс еще некоторое время был слышен, но через пять минут, когда Трубецкой и гусары Чуева перенесли Нарышкина в лес, сердце перестало биться.
— Как же так? — пробормотал Трубецкой, глядя в глаза умершего ротмистра. — Как же так?..
Все ведь получилось. Все вышло, Трубецкой смог совершить свой запланированный и такой полезный в будущем подвиг. Даже боя толком не получилось, произошло простое избиение погони, все как в учебнике. И уйти можно беспрепятственно, готовы и телеги, и запасные кони… Но тот, кто написал… должен был написать свои воспоминания о плене, о разговоре с Наполеоном… он ведь теперь не сможет ничего написать.
— Как же так, — растерянно повторил Трубецкой, повернувшись к генералу. — Как же так, Фердинанд Федорович?..
Винцингероде молча снял шляпу.
— Это война, — сказал, помолчав, генерал.
— Я знаю, что это война. — Трубецкой расстегнул доломан на груди Нарышкина, сердце не билось. — Но ведь он… он же должен был выжить… должен был…
В четырнадцать лет стал камергером, потом сам, по своей воле, ушел поручиком в армию, был ранен при Бородино… потом… через несколько недель должен был получить звание майора… не выпрошенное во дворце, а честно заслуженное в бою. Потом, еще через месяц, — подполковник. В феврале тринадцатого года — полковник, в январе четырнадцатого — генерал-майор… Воевал, и как воевал… Во главе летучего отряда прошел почти всю Европу, брал города… Двенадцать русских и иностранных орденов… Должен был получить. Не получить — заслужить. А вместо этого…
Ротмистр Чуев, ничего не говоря, закрыл глаза Нарышкину, вытер грязным платком кровь у него с подбородка. Приказал положить его на телегу и быстро, как можно быстрее уходить.
— Да, — кивнул Трубецкой. — Конечно…
— А вы — Сергей Петрович Трубецкой? — спросил генерал Винцингероде.
— Да.
— Мне о вас рассказывал Александр Христофорович, — сказал генерал. — И я читал вашу записку. О тактике малых команд, если не ошибаюсь. То, как вы меня освободили, — это и есть…
— Да, тактика малых команд, — кивнул Трубецкой. — В жизни она выглядит так.
— Я должен вас поблагодарить…
— Будем считать, что уже поблагодарили. Пустое!
— Но меня собирались расстрелять…
— А ротмистра пригласили на обед к Наполеону, — сказал Трубецкой. — И что из всего этого вышло?
— У меня складывается такое впечатление, что мое спасение вас не слишком радует?
— Меня огорчает… меня бесит смерть Нарышкина. Все… Все получилось, как было задумано. Мы ведь прекрасно ушли, четко, с фейерверком, а тут… пуля, выпущенная наугад…
И время, вся история, которая сейчас рушится и складывается, будто карточный домик.
Этого Трубецкой, естественно, вслух не произнес.
Он всего лишь собирался проверить, как время… как вселенная отреагирует на попытку немного изменить положение вещей. Генерал Винцингероде, попавший в плен в почти уже оставленной французами Москве, все равно был бы спасен из плена отрядом Чернышева, лично урядником Дудкиным, через месяц. И его верный адъютант тоже был бы спасен, неоднократно потом ранен, но дожил бы до шестидесяти одного года… А так… даже жениться не успел. Должен был жениться только в двадцать четвертом… Дети… Его дети… Стоп, у него была только одна дочь — вычеркнули из списка живших. Внуки… Трубецкой не помнил, сколько именно внуков было у Льва Александровича Нарышкина, но помнил, что много… много… и теперь их не будет. Никогда не будет…
Он хотел только переставить кирпичик, но вместо этого выбил из стены здания истории целый кусок. И теперь…
Ты смотришь на все как зритель, сказал ему сегодня утром добрейший Алексей Платонович. Будто сидишь в первом ряду… Даже горящая Москва тебя не впечатлила…
Не впечатлила! Нет, не впечатлила! И гибель сотен людей от его руки — тоже не впечатлила. И смерть тысяч на его глазах — тоже, потому что все эти люди и так погибли. Все равно погибли — хочет этого Трубецкой или нет. Они погибли больше чем за полторы сотни лет до его рождения, они обречены были погибнуть… Независимо от действий и желаний Трубецкого.
Он был в стороне, смотрел на реку… ручей времени… и прикидывал, где именно можно сделать запруду… перегородить русло, чтобы сместить поток в сторону… Он даже не задумывался — зачем собирается все это делать, ему сказали, что это нужно, ему сообщили, что это его долг и он просто обязан… а иначе… ему не оставили выбора.
Хотя… Собственно, выбор ему как раз оставили. Он мог… Мог ведь, и никто не помешал бы ему просто выкроить себе уголок в этом мире… Без пенициллина, без туалетной бумаги, без много еще каких удобств… Поселиться в спокойном месте, он ведь знает… помнит историю и может выбрать себе и своей будущей семье спокойное место… ну или относительно спокойное, ведь абсолютно застрахованным от болезни, или стихийного бедствия, или просто разбоя быть невозможно…
У него есть титул. Он принадлежит к одной из самых богатых семей России. Деньги… У него есть деньги, если он будет просто жить, и есть возможность добыть денег, если он все-таки надумает чудить…
Ему говорили, что он может и должен менять историю во славу Отечества… Но разве те, кто ему это говорил, сами были уверены в возможности этого? Да, они почти гарантировали ему перенос в это тело и в это время. Но потом… потом они рассказывали о декабристах, о будущем диктаторе, о том, как история послушно повернется… Но ведь никто не знал и не мог знать, как именно отзовется эта самая история, какие водовороты и завихрения появятся в этой реке…
И на самом деле выходило, что никто не мог предвидеть, что именно у него получится. Догадывались, что именно хотят разрушить, чего именно не допустить, а вот что из этого должно возникнуть… Великая Россия? Это с каких таких перцев она должна вдруг возникнуть и стать непобедимой? Потому что старцы этого хотели? Потому что вселили нужного человека в тело русского дворянина? Потому что… Потому что — что?
Какая чушь… Какая безысходная, беспросветная чушь…
Он всего лишь попытался передвинуть фигуру на доске. С одной клетки на другую, а оказалось, что…
И будущего уже нет?
Вот прямо сейчас мир… вся Вселенная заново проживает тысяча восемьсот двенадцатый год, и нет никакого двадцать первого века… пока еще нет. И никто не знает, что именно будет происходить через десять лет… через двадцать… сохранится хоть что-нибудь из того, что знал, что заучивал Трубецкой, готовясь проникнуть в прошлое и захватить…
Стоп! Забудь это «захватить». Просто выкинь из головы, потому что это твое тело, только твое… Тебя нет в будущем. Возможно, конечно, что ты все-таки каким-то чудом родишься и вырастешь, но велика возможность… нет предопределения. Есть ты — и громада истории.
— И все-таки я вам благодарен, — сказал Винцингероде на привале, когда сидели они возле костра, похоронив ротмистра Нарышкина на берегу реки. — Александр Христофорович рассказывал о вас… как об очень необычном человеке рассказывал… О человеке с принципами и целью в жизни… Признаться, я не слишком в это поверил. Я солдат, и рассуждения на тему воспитания общества мне чужды и странны. Но вы… Такие люди, как вы, наверное, могут преобразить этот мир. Может быть, даже так, что мы, солдаты, не понадобимся… Я ваш должник, Сергей Петрович.
— Должник? — переспросил Трубецкой. — Я могу вас просить позаботиться о дальнейшей судьбе корнета Филимонова? Василий, подойди сюда.
— Корнета Филимонова? — Генерал осмотрел тощую фигурку корнета и улыбнулся. — Конечно. Он ведь тоже принял участие в моем освобождении… Поедет вместе со мной…
— Господин генерал! Ваше превосходительство!.. — тонким голосом выкрикнул корнет Филимонов, пытаясь стать навытяжку. — Я прошу вас: оставьте меня в отряде. Я не могу уехать… бросить Сергея Петровича, Кашку, Антипа… Я должен… Я ведь…
— Корнет Филимонов! — серьезным голосом произнес Винцингероде. — Я приказываю вам сопровождать меня в расположение русских войск.
— Но… Слушаюсь… — прошептал Васька. — Слушаюсь.
— И еще — ротмистр Чуев… — сказал тихо, так, чтобы сам Алексей Платонович, сидевший поодаль, не услышал. — Хватит ему партизанить со мной. Не его это война… Вы же знаете, наверное, как я предпочитаю воевать…
— Слышал.
— Для него это сплошное мучение. А я… скоро, наверное, тоже присоединюсь к армии, если вы меня примете в свой отряд. Или уйду в отставку по болезни. В общем — у меня осталась пара дел, исполнив которые я смогу уже свободно распоряжаться собой.
— Примете капитуляцию от Бонапарта? — улыбнулся Винцингероде.
— Нет. Не желаю марать об него руки, — серьезно ответил Трубецкой. — Ему и так осталось не так много времени… Европа справится и без меня. Когда он покинет пределы России — я не буду иметь к нему претензий.
— Значит, забрать и Чуева…
— Да. Негоже генералу без конвоя по французским тылам путешествовать. В Москве вы уже один раз попробовали. А один корнет Филимонов не справится, если что… Кстати, слышали, что Бенкендорф Александр Христофорович в тот же вечер объявил французам через трубача, что все французские генералы в русском плену ответят, если к вам будут относиться плохо. А наш государь так даже назначил французского генерала Ферриера ответственным за вашу жизнь. И если бы, упаси бог, вас расстреляли, то и Ферриера ожидала бы та же участь, прямо перед французскими аванпостами.
— Выходит, вы сегодня спасли две жизни. При встрече — передам Ферриеру.
Приказ сопровождать Винцингероде в русский лагерь Чуев воспринял спокойно. Не стал спорить или что-то доказывать, он уже успел выучить, что если Трубецкой что-то решил, то так это и будет. И переубеждать его совершенно бесполезно.
— Бог даст — свидимся, — сказал Чуев, протягивая руку.
— Тридцать первого декабря в Вильно, — сказал Трубецкой, отвечая на рукопожатие. — Если бог даст.
Трубецкой задумался.
— Пожалуй, что вы можете мне понадобиться и раньше. Не хочу портить вам карьеру на новом месте…
Чуев отмахнулся.
— Тогда так… — Трубецкой наклонился к самому уху ротмистра и прошептал, будто прощаясь, инструкции.
Чуев удивленно глянул на князя, потом усмехнулся и кивнул.
Они обнялись, потом князь обнял Васю Филимонова, обошел короткий строй гусар и солдат, каждому пожал руку и обнял.
— Спасибо, братцы, — сказал Трубецкой. — Берегите себя, после войны всех вас найду и постараюсь из армии вызволить… Держитесь ротмистра Чуева, с ним не пропадете.
— Я горд знакомством с вами, — сказал на прощание Винцингероде.
— Передайте мой поклон Александру Христофоровичу, — ответил Трубецкой. — Мы еще увидимся.
Он долго стоял на вершине холма, глядя, как удаляется отряд.
— Такие дела, — сказал Трубецкой вслух, не боясь, что услышат его интернационалисты. Никто из них не знал русского. И воевали они не за Россию. Поначалу они дрались против Наполеона, а потом… потом, похоже, за Трубецкого.
Так себе лозунг, подумал Трубецкой, но другого пока нет.
Значит, будущего пока нет. Значит, вот со вчерашнего дня он начал вместе со всеми это будущее строить. Как-то обыденно все получилось.
Хотя…
Черт! Трубецкой оглянулся назад, хотя отряд Чуева уже давно скрылся за деревьями. Не вчера. И не смертью Нарышкина закончилась история. Нет. Как же он забыл?
Ротмистра Чуева везли на верную смерть тогда, в телеге, миллион лет назад, возле Вильно. Его допросил бы капитан Люмьер, а потом… потом отдал бы полякам, братьям Комарницким. И шансов выжить у гусара не было никаких. И только появление Трубецкого, только это спасло жизнь Алексею Платоновичу.
Не смертью он обрушил здание истории, а жизнью.
Трубецкому вдруг захотелось, чтобы это было именно так, чтобы он смог… смог и в самом деле принести хоть немного чего-то хорошего в этот мир. Банально? Да. Может быть, даже где-то пошло, но сейчас, в это мгновение, он искренне верит в это, надеется… нет, уверен, что у него получится… все получился.
Сейчас он поедет к монастырю, в котором осталась Александра, станет перед ней на колени и будет просить прощения. А потом… Нет, он ничего не будет загадывать, что будет потом.
Просить прощения. Не получить прощение, а просить — это большая разница. Александра вольна его не простить, но просить прощения она запретить ему не может.
Весь день по пути к монастырю Трубецкой перебирал в уме слова, пытаясь придумать хоть какой-то аргумент, составить фразу, которая позволит — нет, не убедить Александру, но хотя бы… хотя бы…
Монастырь был пуст.
Деревянные пристройки были сожжены, двери выбиты, церковь рядом с монастырской оградой — разграблена. Иконы с ободранными окладами валялись на полу. Некоторые были сломаны.
В трапезной Трубецкой нашел мертвых монахинь. Он не смог их посчитать, хотя внимательно вглядывался в лицо каждой.
Александры среди них не было.
В ближней деревне крестьяне долго мялись, с опаской поглядывая на мундиры людей Трубецкого, потом одна старуха сказала, что вчера к вечеру к монастырю пришли французы. Вначале они выволокли всех из деревни, а потом пошли к монастырю. Люди туда не ходили, боялись. Что-то там горело, были выстрелы и крики.
— Будто силовали кого, — сказала старуха. — А потом, к утру, уехали. Мы не ходили, страшно…
— Сходите, — сказал Трубецкой. — Там нужно похоронить…
Он полез в седельную сумку, достал, не считая, деньги.
— Вот, возьмите.
Старушка перекрестилась.
— Без меня похороните, — сказал Трубецкой. — А мне некогда. Мне воевать нужно.
Не за имя, не ради подвига. Он просто хотел убивать.
Это — личное.
Назад: Глава 08
На главную: Предисловие