Книга: Если б мы не любили так нежно
Назад: Часть I ПОТОМОК ВЕЛИКОГО БАРДА ЛЕРМОНТА
Дальше: Часть III ПРЕДОК ВЕЛИКОГО РУССКОГО БАРДА
Часть II
ДЖОРДЖ ЛЕРМОНТ — РУССКИЙ ДВОРЯНИН
Первая пожалованная поручику Лермонту всемилостивейшим Государем Михаилом Федоровичем, а вернее, Святейшим Филаретом деревнишка об осьмидесяти полунищих душах находилась довольно далеко от Москвы — за Волгой, за Костромой, но она сделала его русским дворянином и помещиком. Истребляя закоснелое, замшелое боярство, Иван Грозный раздавал землю и деревни Подмосковья дворянам-опричникам. Еще в 1550 году Иван Васильевич пожаловал подмосковные земли избранной тысяче лучших царских слуг из дворян и детей боярских, а также новым боярам и окольничим, «обязанным быть готовыми к посылкам», но не имеющим жалованных поместий и вотчин ближе шестидесяти поприщ от столицы. Вот почему досталось Лермонту поместье довольно далеко от Москвы.
К 1612 году московское правительство воссоздало ямской строй, построенный Борисом Годуновым и пришедший в полный упадок в Смуту. Теперь можно было государевым людям по подорожным грамотам мчаться на перекладных из Москвы до самой Костромы. Перегоны по тридцать — сорок поприщ. Ямщики и подводы казенные. Ямской гоньбой вскоре стали пользоваться духовенство в сане иерархов, посольские люди и даже «гости» — купцы-большаки, ну и, конечно, князья-бояре. Ямской строй ввели и на больших реках, заведя суда, гребцов, кормчих. Не получал подорожных скоро лишь простой народ, обязанный выставлять к «ямам» охотников с лошадьми и подводами, судов с гребцами и суднами. С сохи брали по два таких охотника. Появились слободы с вытями, с лошадьми и «охотничьим снарядом». Строились на государевой земле с царской подмогою на постройку двора и первое обзаведение. Казна стала платить жалованье охотникам-ямщикам, чего не делалось при Годунове, — при нем собирали с мира. Пускаться в путь по этим дорогам можно было, разумеется, только зимой и летом. Содержание дорог возлагалось на население, которое всеми средствами увиливало от платежей работ и «мирских отпусков» — дорожных повинностей. Всю эту махину держала в своей карающей деснице Москва.
На глазах у Лермонта росли слободы, люднели большие дороги. Немало сделал для ямской гоньбы Святейший патриарх Филарет. И еще больше — начальник Ямского приказа князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Столь благодатные перемены позволили Лермонту и его сотоварищам по полку уже в 1619–1620 годах начать вывозить семьи на лето в поместья.
Князь Пожарский воевал и с ворами, и с разбойниками, грабившими и убивавшими путников, и с боярами, дворянами, боярскими детьми, облагавшими их на своих землях произвольными поборами. Благодаря трудам, подъятым князем, на дорогах появились заставы, в слободах — вооруженная охрана. Спрятали свои загребущие руки помещики. Пожарский и Шеин понимали: как сердце не может работать без кровяных жил, так Москва не может, собрав русские земли, быть для них сердцем без дорог. И для войны нужны дороги, ибо там, где кончаются дороги, кончается война.
Но только в 1654 году Царь Алексей Михайлович наконец-то запретит повсюду в государстве драть мыта и проезжие пошлины, заламывать втридорога плату на речных перевозах, мостах, мельничных плотинах.
И только Петр Великий позаботится о трактирах, о новых прямых дорогах, о починке дорог, о дорожных указателях.
Джордж ехал с оруженосцем через знакомый Сергиев Посад, Ростов, Ярославль, Вологду. Это была сама оживленная дорога во всем государстве.
В те времена тайга, подходившая прежде к самой Москве, еще не отошла дальше Переславля-Залесского, этого изумительной красоты города, на берегу реки Трубеж и живописнейшего Плещеева озера. Дорога дальше тянулась по тайге без осека, без просека, почти без сворота направо или налево. Тут и там торчали старые двухсаиные Кресты деревянные. На сотни поприщ вокруг тянулись чарусы — гиблые болота, местами обожженные.
Из Вологды дорога шла на Архангельск, а он свернул на Кострому. Вот где началась настоящая глухомань, захолустье.
Никто ни в Москве, ни в Заволжье не знал точно, сколько поприщ от московских золотых маковок до Костромы, — кто говорил двести, кто двести пятьдесят. Вещь на Руси обычная. По прикидке Лермонта по прямой дороге туда не более ста пятидесяти поприщ. Лесу конца-края нет, и весь он почти не тронутый человеком. Дорога варварская, совершенно не ухоженная, не просыхающая и в жару, только в самых гиблых местах попадаются полусгнившие гати и гребли. Такими, верно, были леса в Шотландии и Англии, когда не было между ними, Британией и Францией пролива. Приходилось тащиться зыбучими песками, объезжать бесконечные болота, поросшие чахлой осокой с тучами комарья, вонючие ржавые бочаги, чистые окна с изящными кувшинками. Больше всего боялся Лермонт, что конь его ногу сломает или утонет в болоте: без коня он совсем пропадет, Бог весть когда домой вернется — к Рождеству, наверное!
Заброшенных в дебри и болота Заволжья людей, полностью отрезанных от мира во время долгой распутицы, называют в тех краях «короедами» и «лягушатниками». Волжане смотрят на эту мелкую сошку свысока, — издревле самые сильные хватали наиболее ценные угодья на речных берегах. По воде передвигаться на лодках и кораблях куда легче, чем на лошадях по бездорожью.
Уже по дороге из Костромы в поместье угодил Лермонт в страшный лесной пал, едва не сгинул в адском пожаре. Спас его только внезапно изменивший направление ветер. Лес гнил на корню. Мрачно стояли целые урочища сухостоя. Всюду завалы буйного валежника и бурелома. Судя по огромным гарям, палы в нем — обычное дело. Редкие деревеньки в полсотни, сотню душ, из серых невзрачных халуп. Одетые в затрапез поселяне прибитого, навсегда испуганного вида, с грязными, землистого цвета лицами. На одном поле поп и дьячок, забрав полы ряс, пахали вместе с мужиками.
От Костромы до Галича и деревенек Лермонта по-прежнему простиралось до Петра I почти полное девственное бездорожье с запустевшими вокруг землями. «А за кем были те пустоши, — писали писцы-дозорщики, — и про то никто не ведает».
И все-таки так тяжелы были двадцатые годы того века для небогатых помещиков, что офицеры-шкоты, высочайше жалованные поместьями и вотчинами, пожалуй, бросили бы их, как бросали свои поместья и даже вотчины многие и многие русские помещики, если бы ямская гоньба не приблизила к Москве Кострому и их деревни. Хотя за последние пять-шесть лет после Смуты многие беглые крестьяне вернулись, земледелие все еще было в ужасающем упадке. Порожнюю землю продавали по цене три чети за рубль, чтобы «изпуста в живущее выходило» (полторы десятины за рубль). Преобладало паровое зерновое земледелие с трехпольем. Почва худая, удобрения только навозные.
Всего ехали тридцать часов с тремя остановками в городах до Костромы довольно быстро, а от Костромы со скоростью пять поприщ в час.
Встретили барина в его малоземельном поместье будто татарина. Из осьмидесяти реестровых душ насчитал Лермонт сорок. Все были пьяны по случаю престольного дня. Три дня пьянствовали, а затем с неделю похмелялись самогонной водкой и бражкой, хотя жниво не кончили. На горбатой суглинистой пашне гибли несжатые овсы. Кругом наступал темнохвощный бор. Скотина, какая есть, чуть живая. Новые пашни никто и не думал поднимать, луга не расчищали. Разорение было полным. Жили людишки впроголодь. Совсем бы давно все вымерли, ежели бы не река и озера с рыбой да лес с медом, грибами и ягодами. Угол медвежий, и люди словно медведи, дикари дикарями. Ломали, черти, шапки, а глядели зверем.
Чудно повел себя новый барин, вельми чудно! Вышел он на пашню, снял немного землицы мечом своим, переложил в платок, а затем, вернувшись в деревню, процедил сквозь эту землю, завернутую в платок, колодезную воду и попробовал на вкус.
— Ничего земля! — сказал он. — Не кислит.
Уж не колдуна ли прислала барином Москва!
Деревня не знала, что именно такой способ определения качества почвы советовал в своем наставлении земледельцам римлянин Марк Порций Катон Старший примерно в 200 году до Рождества Христова. О, это был великий мудрец, Марк Порций Катон Старший, непримиримый враг Карфагена, заключавший все свои речи в сенате одной и той же фразой: «Кроме того, полагаю, что должен быть разрушен Карфаген». Это был его главный совет Риму. Кстати, сей мудрец советовал с похмелья вкусить шесть листов свежей капусты…
Побывал Лермонт в ближайшем городишке — Галиче Мерьском. Полтысячи лет был в нем удельный стол. Даже в этой глухомани далеко от Москвы побывал Батый — налетел ураганом из Приамурья, разметал древнюю крепость князей Галицких. А были они в старину соперниками Москвы. Теперь в Галиче страшились не татар, а своего же русского — костромского воеводу.
Господский сад приносил яблоки разных сортов — налив, бель можайскую, аркат, кузьминские, малеты белые и малеты красные. На огородах собирали лук, чеснок, капусту, свеклу, бобы, тыкву, репу. Рогатого скота у крестьян почти не было, зато много было всякой дичи — зайцев, гусей и уток, тетеревов. Корову тогда — один стяг — приравнивали к десяти баранам, двадцати гусям или зайцам, тридцати поросятам, курам или уткам. Из пушнины на первом месте были соболя и лисицы. Соболья шуба тогда стоила до пятидесяти рублей, шуба из черной лисицы — до шестидесяти. Однако уже тогда пушной промысел начал уменьшаться.
Походил Лермонт по своему поместью, повздыхал. Наверняка рыцарю Лермонту король Мальком пожаловал бы пощедрее замок и землю, норманнскому предку Лермонтов. Ведь и он, Джордж Лермонт, пролил не меньше крови за Царя Романова, чем тот рыцарь за короля Малькома. Но ничего не поделаешь…
Костромское Заволжье — дикий лесной край, сильно смахивающий на смоленский или московский, только тут островерхих елок больше, дремучих и непролазных. В глухолесье текут тихие справные речки. Рядом с деревней — Галичское озеро, красивое до жути, с сетями рыбарей, развешанными у берега для просушки, и душегубками-долбленками. В соседних деревнях вдоль реки Костромы жили скорняки, кожемяки, сапожники, седельники. Глушь невообразимая. Недаром рукой подать до Пошехонья и Чухломы — до самых медвежьих углов. В Костроме Лермонт ходил по зараставшим бурьяном, лебедой и чертополохом пепелищам. Десять лет назад — в 1608 году — поляки подвергли город безжалостной осаде. Последние защитники крепости взорвали себя и ляхов вместе с пороховым погребом по безотказному велению никому не известной за пределами этого дикого края боярыни Образцово-Хабаровой. Странная страна эта Московия! Страна рабства и презирающего смерть свободолюбия, покорности перед тиранией, лишь была бы она своей, русской, и нетерпимости к деспотии иноземной. Страна держиморд, мучеников и невоспетых героев…
Пахло пыльной крапивой на пустырях, согретых июльской жарой, а отовсюду доносились до ушей стук топориков, двухтактная разноголосица пил, и стлался над Волгой, над святыми храмами, над благоухавшими свежей древесиной срубами ядреный, отчаянный мат.
На обратном пути, пробираясь на лошадях по непроезжим дорогам, через реки без мостов и бродов, поручик Лермонт и его стремянный едва сумели отбиться от лихих людей из суздальско-костромской шайки, вооруженных луками и стрелами, топорами, копьями и всяким дрекольем. Вожаком этой шайки Толстым костромичи и суздальцы пугали детей. И путь этот показался новопожалованному помещику длиннее хорошо проторенной дороги из Эдинбурга в Лондон. Нечего было и думать о том, чтобы перевезти Наташу с сыновьями из Москвы в это поместье.
Вот наконец и свежерубленый домик близ Никольского подворья у Арбатских ворот с черно-золотыми подсолнухами в палисаднике. Его дом — home sweet home… И когда Наташа, теряя на ходу шлепанцы, выбежала в красном сарафане встречать его из бревенчатого домика близ Арбатских ворот и нетерпеливо забросала вопросами, он только рукой махнул. Стоит та деревнишка, живут там черные людишки, да неблизкий свет…
Наташа так возликовала при виде мужа, что, накормив его ужином, немедля побежала отслужить благодарственный молебен в приходской церквушке Николы Явленного, построенной о двух луковках, большой и малой, уже при ее жизни на Арбате.
Вечером зашел Крис Галловей, нескладное чучело, желавшее узнать, нет ли вестей от поручика Лермонта, и зело обрадовался, застав дома своего молодого друга — поместного русского дворянина.
В умелых руках каменных дел мастера торчал свиток планов и чертежей, — он помогал строить церковь Покрова, что в Медведкове, в усадьбе князя Димитрия Пожарского, спасителя Руси, коего Крис хвалил до небес как истого «джентльмена». Купец Никитников, ворочавший громадными денежными мешками, приглашал его строить храм Троицы в Китай-городе, Царю угодно было, чтобы он наблюдал за возведением его теремного дворца в Кремле. Но Крис отказывался, — его неудержимо тянуло на родину, и Лермонту стало грустно оттого, что скоро он потеряет своего драгоценного друга и единственного ученого земляка в Москве.
— Не горюй, Джорди, — утешал новопожалованного помещика Крис Галловей, с неимоверной быстротой поглощая кружку за кружкой пенистого пива. — Смутное время еще по-настоящему не кончилось, а кончится — уберут к черту воевод, этих кровососов. У Ярославля большое будущее. Недаром основал его князь Ярослав Мудрый из Ростова Великого. Он уже существует шесть столетий, и я предсказываю ему блестящий расцвет уже в наше время. Это же важнейшая торговая пристань на Волге, на пути из Москвы через Северную Двину в Европу. Корабли оттуда будут ходить прямо в твой Абердин! Ярославль подчинит себе Кострому и наведет там порядок. По реке пойдут лес, лен, конопля, пушнина. Буду приезжать к тебе охотиться, — там водятся лось, росомаха, рысь. Город вовсю строится — выгорел в Смуту. Мастера там отменные: один Спасо-Преображенский монастырь — полтысячи лет ему — поди чего стоит.
Одним духом осушил он еще одну пузатую кружку, развязал зелено-белый шарф на шее.
— Московия будет расти и расти. Слишком долго держали татары в ярме этот сильный и смелый русский народ. Только я бы на твоем месте не становился землевладельцем, отцом основателем отчины.
— Это почему? — сдвигая темные брови, удивился его молодой друг.
— А святого Амвросия ты не читал? Нет? Великий был мудрец! Не любят вспоминать его церковники, но мы, студенты Эдинбургского университета, тайно зачитывались им, спорили о его учении, попивая наш славный шотландский эль. Амвросий считал себя учеником святого Василия и жил в четвертом веке среди римлян, с 340-го по 397 год. Он был ярым противником частной собственности, называл ее корнем всяческого зла и даже первого грехопадения. Наши прародители, дескать, присвоили в райских садах то, что им не принадлежало, — стащили и слопали по дьявольскому наущению казенное яблоко! С тех пор и пошла гулять алчба по свету. А ведь Бог создал все для всех, и Господу противны златолюбцы, стяжатели, захватчики чужих земель, угнетатели ближних. Правда, Амвросий, правитель, а затем епископ Милана, не верил, что можно было покончить с частной собственностью в его время…
— А в наше разве можно? — спросил Лермонт.
— Увы, и в наше не сможем мы построить рай на земле, но жить по правде должен каждый. Человек должен уподобиться земле, коя равно награждает людей плодами своими. Даже слово homo — человек, учит он, произошло от слова humus — земля. Все мы рождаемся равно голыми, без злата и серебра. И равно умираем мы все, ложась в землю без богатств. А в жизни богатство лишь губит богатых, делая их все жаднее и жаднее. Нажива лишь воспламеняет жадность, а не утоляет ее. Земля, вода, воздух, звери, рыбы и птицы должны принадлежать всем. Всяк обязан трудиться ради хлеба насущного. Все подати и оброки надо отменить. Не может того быть, говорил святой Амвросий, что ангелы на небесах устанавливают границы своих владений. Это был человек бесстрашного духа. История помнит, что он восемь месяцев не пускал на порог своего храма в Милане императора Феодосия, пока тот не покаялся в учиненных им смертных казнях. О, как этот святой обличал погоню за барышами, но он не звал бедных к мятежу, а уговаривал богатых поделиться по справедливости со своими братьями и сестрами…
— Где же выход? — недоумевал поручик Лермонт.
— Избегать как богатства, так и бедности. Так учил святой Амвросий, но паписты давно сошли с пути истинного и замалчивают его заветы… А впрочем, верно говорят московиты: с умом жить — век мучиться, без ума жить — тешиться!.. Выпьем лучше, Джорди!
И он хлопнул пустой кружкой о дубовый стол, а по Москве поплыл малиновый звон. Лермонт прислушался, безошибочно узнавая знакомые голоса колоколов. Звонили ко всенощной.
Безбожник Галловей преспокойно дул пиво, закусывал скоромно, не глядя на пост.
— У нас в Эдинбургском университете студиозусы говорили, что святой Амвросий и Христос — защитники голодных и сирых, а их противники не только среди епископов и пресвитеров — антихристы. Где у тебя Библия короля Иакова? Вот смотри! Амвросий повторял слова Христа: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах… И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное…»
А еще равное Соломон советовал: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои». И: «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня хлебом насущным». Но церковники предали забвенно эти заветы. Из Первого послания Тимофею святого апостола Павла: «…Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынесть из него. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие…» Яснее не скажешь. И вот еще, из Второго послания: «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». У апостола Павла удивительно правда схвачена в емком девизе: «Кто не хочет трудиться, тот не ешь». Ибо Писание гласит: «Не заграждай рта у вола молотящего» и «трудящийся достоин награды своей».
— Я видел в Милане мощи святого Амвросия. Лежит открытый и словно ждет тысячу двести лет, когда сбудется на земле его мечта о земном рае. Смотрю я — и вдруг задрожал: вдруг спящий проснется, вдруг глянет ярым оком — оком гневным и огненным… Помнишь ту икону в Кремле… А пиво ничего… — Он кинул в рот пупырчатый соленый огурец. — Но мечта его не умерла с ним. Лет восемьдесят назад король Генрих Восьмой Английский казнил своего лорд-канцлера Томаса Мора. Великий гуманист, он тоже придерживался того же образа мыслей. Мор был прекрасным писателем и написал «Утопию». Все граждане этой будто бы открытой путешественниками на Дальнем Западе страны равны и свободны, у них все общее, все работают как могут, а получают на каждую семью с общественных складов по потребности. Все правители избираются… Какая голова была у этого Томаса Мора, а голову эту отрубил английской король!.. Приходи ко мне домой, Джорди, я дам тебе «Утопию» — завет самого лорд-канцлера! Это хорошо, что к чтению книг ты прилежен. Живешь не одной своей маленькой жизнью, а жизнью всечеловечества. Может, ты поймешь, что незачем привязывать себя к русскому поместью, ежели ты стремишься вернуться в нашу родную Шотландию…
Идти домой Галловею было поздно — он заночевал у Лермонтов. Укладываясь спать в горенке, Крис сказал:
— Слышал ли ты о последователе святого Амвросия — монахе доминиканского ордена Томасе Кампанелле? Он наш современник. Тоже грандиозный ум! Сейчас ему пятьдесят лет. Двадцать семь из них он отсидел в тюрьме за то, что устроил заговор, чтобы освободить свою родную Калабрию от испанского владычества. В тюрьме создал утопию в духе Томаса Мора: «Государство Солнца». В этом государстве нет частной собственности, все граждане честно трудятся, как пчелы, причем каждый получает все, что ему требуется. Нет брака, нет семьи, нет денег, все общее…
— Так ведь это утопия, — вздохнул Лермонт. — А человек хочет хорошо жить сегодня, а не в раю!
Выслушав своего удивительного друга, Лермонт помолчал, раздумывая, а затем посмотрел своими карими глазами в голубые глаза земляка и сказал:
— Спасибо тебе, Крис, за науку. А я всю дорогу ехал и думал: стоит или не стоит пожаловаться в Москве на дикий произвол местных начальных людей. Теперь вижу, что нужно, необходимо, чего бы это ни стоило и к чему бы ни привело.
И он стал с жаром рассказывать товарищу о том, что творилось на костромской земле, в Заволжье.
Государь по особенной царской милости жаловал своим слугам для «кормления» поместья, и каждый кормился как мог, деря семь шкур с простого народа. Воеводы взяли власть в Смутные времена, с «расстригина прихода», сиречь с царствования Лжедимитрия I — с 1605 года, сели тяжкими задами своими на такие «замосковные», как тогда говорили, города под Москвой, как Переславль-Залесский, Владимир, Ростов, Белозерск. По царскому указу надлежало им поступать, «как пригоже, смотря по тамошнему делу, как Бог вразумит». Воевода судил и рядил в «съезжей», или «приказной избе», позднее получившей наименовение губернского правления. Подчиненные ему губные старосты заправляли делами в «губной избе» — уездной управе. Подобно средневековым драконам, воеводы кормились со своими дьяками и подьячими, женами и приживалками за счет земского мира, деря с этого мира денежные и натуральные кормы сверх всякой меры.
Сидел такой воевода из ближних бояр и в Костроме. Лет десять тому назад этот мироед отправил написанную грамотеем дьяком челобитную Царю: отпусти, мол, Царь-батюшка, в Кострому кормиться. Москва посылала кормиться на два-три года, но удачливый челобитчик вцепился в Костромщину, аки клещ, правил по своему рассмотрению, по Божию вразумлению. Для народа он был почти такой же напастью, как война, как нашествие ляхов или татар. Какой воевода откажется от дарованной ему власти! Ни Царю, ни патриарху, ни московским приказам не удавалось ограничить пределы этой власти. Засев в уцелевшем от пожара и набега белокаменном Ипатьевском монастыре в устье реки Костромы, воевода вел себя, словно удельный князь. Напрасно пытался подмять его старший ярославский воевода, чтобы попользоваться небедным костромским округом. На побегушках у хозяина костромской земли были свои товарищи, городские приказчики, посильно грабившие бесправных костромичей.
Не зная и чураясь грамоты, сей муж во всем полагался на алчных дьяков, влезал во все дела, даже духовные, вершил суд и расправу, командовал стрельцами, пушкарями и ополчением, начальствовал над губными и земскими старостами. Первым делом драл он подати. И то правда, что за недобор, за убыток царской казне грозила ему опала. Посему драл он для Царя и для себя, сердечного. Особое внимание уделял кабакам. Лично назначал он для прибыльнейшего питейного сбора кабацких голов и целовальников. За богатый сбор получал из Москвы милостивое слово или даже царский подарок.
Заведовал воевода и всеми поместными делами. На этом поприще и столкнулся с ним поручик Лермонт, приехавший жаловаться на то, что люди воеводы начисто обобрали пожалованное ему, Лермонту, поместье, вырубили лес, увезли семенной хлеб и сено и трех молодых женок вдобавок. Поселяне питались колбасами из еловых шишек с салатом из лебеды. С этой жалобой и предстал он перед очами воеводы. Тот нахамил и прогнал его с глаз долой, да еще грозился собак на него спустить. Говорили, что он на жалобщиков и медведя из клетки науськивал.
Убедился Лермонт, что многое в русском правительстве было донельзя запутанным, бессмысленным, безнадзорным. Дикость, и варварство, и произвол процветали в Чухломе и Пошехонье, во всем Заволжье, как, верно, и во всех городах и весях Московии. Еще не было законов — были только наказы и повеления. Местные помещики боялись воеводу-самодура как огня. Челобитные на него, посланные в московские приказы, попадали в долгий ящик. Над страдниками стояло по десять и более начальных людей, кончая воеводой, и были они не столько пастырями, сколько волками. Половина поселян и холопев Лермонта давно бежали от лютой власти к башкирцам и в раскол… Нет, надо подать челобитную прямо Царю. Или лучше — патриарху…
Долго слушал Галловей Лермонта, а потом покачал головой и сказал:
— У русских есть хорошая пословица: не лезь в чужой монастырь со своим уставом. Ничего ты, шкот несчастный, не добьешься своей челобитной. И что за манера такая! С родины драпу дал из-за великого беспорядка в этой Богом забытой стране и решил наводить порядок в полудикой Московии!.. Мой совет тебе — продать это поместье и вернуться на вырученные деньги в свой родной Абердин. Ты же об этом только и мечтаешь. Помяни мое слово: татарское ярмо на Руси было деревянным, романовское будет железным. Мы с тобой чужие в этой стране…
Лермонт промолчал. Галловей и впрямь тут чужой, хотя живет в Московии дольше, чем он. А он, Джордж, кровь свою за эту землю, за этот народ пролил, через жену и сына с Русью породнился. Небезразличны ему их беды и чаяния…
И снова звала в поход боевая рейтарская труба, снова прощалась с мужем Наташа, невыносимо страдавшая в разлуке.
Когда полковник Евтихий Петрович Федоров возвращался, бывало, из похода, соблюдался строго старинный устав. Служки кидались зажигать лампады, лучины и, если дело было затемно, свечи в передней, в горнице, разжигали каганец под сбитнем за неимением в те дикие времена самовара. Перво-наперво молился хозяин чин чином на образа в красном углу, крестился и кланялся святым угодникам. Затем он говорил всей семье: «Здравствуйте» — и кланялся им, а родные откликались на приветствие и тоже много и часто кланялись. Теперь вся семья — а было у Натальи в те времена два брата и еще одна сестра, средненькая, да Бог потом всех прибрал — принималась раздевать полковника. Мать всегда отстраняла детей и слуг и сама снимала мужу сапоги. Скинув верхнюю одежду, надев домашний архалук и шлепанцы, полковник поочередно целовал всех близких по старшинству, начиная с жены, кивал дворовым, заводил с обычных вопросов степенную беседу, пока накрывали стол. И за столом все шло чин чином.
Иное дело бельский немчина Лермонт. Что с нехристя-иноземца взять. Ворвется, ровно татарин за ясырем, на святые образа и не взглянет, кинется к Наталье, зацелует, затормошит, затискает при всех, сына хватает, кидает под потолок, щиплет дворовых девок за мягкое место, а то и за цицку. Раскидывает по всем углам оружие и одежду. И никакого тебе ни чину, ни уставу, ни благолепия. И весь день коромыслом. Но обвыкла Наталья и полюбила, так полюбила эти мужнины приезды, что расцветала сердцем, всегда в разлуке стесненным страхом за мужа. Знала: до утра спать не станет муженек, соскучился по любви. Ой, нет в нем, слава Господи, остуды. Придется ей потом замаливать ночные грехи, как пить дать, придется. Бывало, подхватит на руки жену и — пост, не пост — в спальню бегом унесет…
Редко приезжал Юрий Андреевич без подарков жене и сыновьям. И прежде чем в спальню жену тащить, раздавал он свои небогатые подарки ей и детям. Случалось, были и богатые военные прибытки, отбитые у татар, свеев и ляхов.
Почти двадцать лет, не считая частых отлучек по военной надобности, суждено было прожить Джорджу Лермонту на Москве, больше даже, чем в родном Абердине. Москва, или «Mosco», как называли столицу Московского государства англосаксонцы, стала тогда больше Лондона с его пригородами, самой богатой столицы самого богатого на свете королевства. Правда, большая часть ее домов были деревянными, грубой постройки.
Порядки в Московии были отсталыми, варварскими, зато ни одна страна мира не выставляла такую армию с началом войны — триста тысяч пеших и конных воинов! Половину из них Государь посылал против неприятеля, а половину держал в крепостях и городах. Офицерами служили дворяне, солдатами — не крестьяне и купцы, а токмо их сыны. Одних саперов и конников в русской армии насчитывалось тридцать тысяч, и первым во всей кавалерии был Московский рейтарский полк. Иноземные офицеры получали жалованье намного больше, чем русские дворяне. Тем часто вообще не платили, а жаловали участки завоеванной земли. Михаил Романов стремился сделать из шкотов и всех прочих немцев свою личную гвардию, как окружали себя шотландскими, а позднее швейцарскими стрелками Государи французские.
Почти вся царская конница, за исключением рейтаров с их мушкетами, была вооружена луками и стрелами. Кони большей частью были башкирские или турецкие. И седла и стремена тоже были турецкие. А вместо шпор употреблялись барабанчики. Рейтары еще носили кованые доспехи и кольчуги.
Предполагалось, что иноземцы должны учить русских ратному делу. На самом же деле русские учили войне иноземных наставников. Они понятия не имели о шагистике, зато умели жить впроголодь, проводить всю кампанию на снегу, когда земля промерзала на целый ярд, ночуя без палатки или шалаша у костра, а то и без оного. Русский воин держался на воде из ручья и овсянкой. Его конь чудом существовал, летом пожирая лесную зелень, а зимой — заболонь и кору деревьев, постоянно находясь не в конюшне, а под открытым небом, на семи ветрах, порой в костоломный мороз и кромешную метель.
Желая все же сделаться благопопечительным помещиком, Лермонт всюду совал свой нос, попадая во время боевых походов в деревню. Картина всюду была безотрадная. По совету Филарета, последовавшего примеру Вильгельма Завоевателя в Англии, провел в своей Doomsday Book всенародную перепись, Собор принял указ о рассылке писцовых книг. Писцы брали на государственный учет все земли и их богатства, помещиков и крепостных, страдников и холопев. И Лермонт видел, что переписчики эти, безжалостно притесняя убогих, хапают с богатых, взятки, чтобы показать у них меньшее количество деревень и душ и тем сократить их подати. Снова неправда, опять неслыханный произвол. Казна ввела новые налоги. Облагали налогами все, что можно было и нельзя: мытье портов и сподней, водопой скотины. Душило крестьян крепостное ярмо. В Москве и других городах всех служилых людей, опричь иноземцев, обложили общим посадским тяглом. Всячески спаивали народ в городах и весях, только бы набить казну. Свой народ угнетали до последней крайности, а англиянам, у коих взяли в займ много денег, дали право беспошлинной торговли на Руси.
И это все по ночам записывал Лермонт, веря, что кому-нибудь когда-нибудь пригодится горькая правда.
На своих полях сеял Лермонт овес и рожь. Мечтал о пшенице, ячмене, горохе, гречихе, льне. Завел плугов больше, чем сох, и не деревянных, а железных. Бороны, верно, деревянные. При посеве ржи около Ильина дня трех с половиной четвертей получал умолот двадцать пять четвертей.
Лермонт часто бывал в гостях у Галловея, который жил сначала на Посольском дворе в Китай-городе, а позднее перебрался на квартиру в Гавриловской слободе, рядом с деревянной церквушкой архангела Гавриила, что на Поганом пруду. Галловей любил рассказывать об Эдинбурге, о королевском замке на зеленой Замковой горе с его неприступными стенами, о «королевской миле», ведущей по средневековому городу к дворцу Холируд-хаус. Тянули Лермонта к нему не только всегда содержательные беседы с архитектором за кружкой пива, но и книги, валявшиеся всюду в большой каменной горнице.
Со жгучим вниманием прочитал Лермонт не попадавшуюся ему прежде книгу Джона Нокса, написанную в начале второй половины прошлого (XVI) века и озаглавленную «История реформации религии в королевстве Шотландском». Это была мудрая книга, чуждая фанатизма, сдобренная щедро сатирой и юмором. В это время появлялось много книг о мучениках и жертвах папской церкви и инквизиции и чужих святых, прославлявших свои чудеса и подвиги своих святых и поносивших чужие чудеса. Лермонт относился к своей религии по примеру отца и матери спокойно, не впадая в кликушество, более того, склоняясь к здоровому скептицизму. Чувствуя в нем это отношение к Богу, видя, что его в церковь не тянет, богомольная Наташа приходила в великую печаль и ужас и прибегала к наивным увещеваниям и ухищрениям, дабы наставить его на путь истинный, но Лермонт не поддавался на все ее происки. В полку он знал весьма набожных рыцарей — взять хотя бы бывших братьев Ливонского ордена, это не мешало им быть буянами, разбойниками, пропойцами. А вот Галловей — явный безбожник, а во всем ему позавидуешь!.. Не желая идти на постыдные сделки с собственной совестью, он наотрез отказался не только принять православное греческое вероисповедание, но и крестить своего сына, а когда узнал, что Наташа без его ведома, за его спиной, тайно крестила Вилима в церкви Николы Явленного, только махнул рукой.
Книгу Джона Нокса, шотландского Кальвина, нельзя было купить ни за какие деньги ни в одной католической стране. А в Москве жаловали еретиков-протестантов. Сюда пока как будто не доставали когтистые щупальца воинствующих инквизиторов-иезуитов, утверждавших абсолютную непогрешимость папы. Еще Папа Павел III ввел железную цензуру, огульно смел все книги инакомыслящих в свой «Индекс запретных книг». На кострах горели не только подозрительные еретики, но и подозрительные книги. Еретики эти свободно гуляли по Москве, покупали любые книги. Папа Пий V, причисленный к лику святых, посылал на каторгу, на галеры трижды прогулявших воскресную службу. Большинство рейтаров вообще не ходили в церковь, предпочитая кабак и веселый дом. Крис Галловей любил цитировать самого себя: если божественных учений много, тьма тьмущая, то все они липовые!
Залечивая раны, Лермонт читал и перечитывал книги из своей скромной библиотеки. Книги в Москве были все еще редкостью, да и денег на них не хватало, и потому волей-неволей приходилось ему по многу раз перечитывать одни и те же книги. Но это были отборные книги. И открылась Лермонту святая истина: что лучше читать не вширь, множа количество прочитанных книг, а вглубь, штудируя самые ценные книги, открывая в них все новые и новые великие достоинства. Так читал он «Дон-Кишоте», «Жизнеописания знаменитых людей» Плутарха во французском переводе мессира Жака Амио, епископа Оксеррского.
— Прискорбно все-таки коротка наша жизнь, — как-то сказал ему Крис Галловей, гуляя с ним по берегу Поганого пруда, — и нет лучшего способа удлинить ее, чем чтение книг. Но и о чарке забывать нельзя!
Учась читать по-итальянски, Лермонт прочитал изданную в 1568 году изумительную книгу Джиорджио Васари под названием «Жития величайших живописцев, художников и архитекторов», первую историю искусства, поразительно живую, искреннюю и полнокровную автобиографию Бенвенуто Челлини, умершего после завидно плодотворной жизни лет за двадцать пять до появления на свет Лермонта. На английском он, почти не отрываясь, прочел «Историю мира» сэра Вальтера Ролли, с коим некогда плавал отец Джорджа — Эндрю Лермонт. Как историк этот бывший сэр Вальтер, корсар, чье имя гремело на всех морях и океанах, находился под влиянием Плутарха. Отец, великий правдолюбец, и своего бывшего капитана упрекал в чрезмерном вымысле и разгуле фантазии в своей книге о путешествии к берегам Южной Америки. Но, трудясь на протяжении двенадцати лет над мировой историей в лондонском Тауэре, куда заточил его Иаков I после смерти Елизаветы, сэр Вальтер стал с возрастом трезвее смотреть на жизнь за решеткой. Когда Иаков выпустил его на волю в 1617 году, этому несокрушимому человеку было уже шестьдесят пять лет, но он не думал о покое. Он снарядил экспедицию в Южную Америку. Он вновь отправился искать золотую страну Эльдорадо. Однако Лермонт знал от отца, что на самом деле, как Колумб не верил в то, что Америка — это Индия, но скрывал это, чтобы соблазнить Изабеллу и Филиппа, так и Ролли, отложив в сторону книги, использовал выдуманный испанскими конкистадорами миф об Эльдорадо, чтобы жадный Иаков развязал свою мошну и дал ему денег на экспедицию. Разгромив испанцев, сэр Вальтер сжег их форт Сан-Томе. Слава о корсаре, вернувшемся с того света, снова побежала по волнам.
А в 1618 году Галловей, знавший все новости посольского двора в Москве, сказал Лермонту:
— Этот мизерабельный Иаков, даром что наш земляк и Король, совершенно обезумел! Как только вернулся в Англию сэр Вальтер Ролли, не обнаруживший Эльдорадо, враги пуритан, подстрекаемые Мадридским двором, снова обвинили его в заговоре против короля, и Иаков сначала снова посадил его в Тауэр, а недавно, в конце октября, отрубил голову этому замечательному человеку! Ну времена, ну нравы!..
С 1618 года гремели пушки не только на Руси: с этого года между католиками и протестантами в Европе бушевала жестокая война. Началась она в Богемии, а затем в нее ввязались Дания, Швеция, Франция, Испания, германские князья. Протестантская уния сражалась не на жизнь, а насмерть со Священной лигой. Это была страшная, сумасшедшая, истребительная война. В некоторых местностях Германии население уменьшилось в десять раз. Голодные люди ели человечину, разрывали на части только что повешенных. В истории эту войну назвали Тридцатилетней, потому что она шла с 1618-го по 1648 год, но Джорджу Лермонту это не суждено было узнать…
Загрустил московский пленник Джордж Лермонт, вопреки всему еще надеявшийся вернуться на свою шкотскую родину. Наташа прежде не противилась воле мужа — в Шкотию так в Шкотию, а тут, как родила она Вильку, заявила как отрезала — никуда они с Вилькой не поедут. На всем свете война идет, да и в Шкотии вашей несладко. В 1625 году, когда Вильке стукнуло семь лет, в Англии скончался ненавистный Иаков, которого Лермонт называл Джеймсом. Королем Англии и Шотландии стал Карл, или Чарльз I.
В том же году Джордж Лермонт взял почитать у капеллана аглицкого посольства, Барнаби Блейка, изданное двумя годами раньше первое издание — «фолио» — пьес Шекспира. Тридцать шесть пьес! Этого издания так и не дождался капитан Эндрю Лермонт, а как он его ждал!..
С новым капелланом он познакомился у Посольского приказа, где иноземцы фехтовали и играли в кегли. Нелегко было пересилить свою нелюбовь к англиянам, Стерпевшим короля — сына королевы Шотландии Марии, но капеллан показался ему добрым малым.
В следующую встречу он неохотно отдал Шекспира и взял книгу Гаклуйта о путешествиях английских мореплавателей. Видя, как загорелись глаза у молодого рейтара, преподобный Ричард Джеймс, выпускник Оксфордского университета, прежде служивший капелланом у английского посланника сэра Дадлея Диггса в Холмогорах, стал увлекательнейшим образом рассказывать о том, как англичане открыли северный торговый путь в Московию — в загадочную и страшноватую страну. Один Иван Грозный, безумный и кровавый, был опаснее всех красных индейцев.
Неудавшегося морехода Джорджа Лермонта так заинтересовала история «открытия» России англичанами, что он решил записать эту историю по документам английского посольства в Москве. Позднее он пополнил свою запись и сведениями из русских хроник.
Английские купцы-мореходы, как и все европейские купцы, издавна мечтали открыть новые пути в Индию, помимо старых путей, проложенных итальянскими и португальскими моряками. Английские капитаны, изучая несовершенные карты XVI века, наметили фантастический путь в Индию через Россию: через Ледовитый океан в Белое море (с III века по XVI этот путь был известен только скандинавам, а затем и русским), из Белого моря рекой Северной Двиной, потом по сухопутному перешейку к Волге, потом Волгой до Каспийского моря, а далее по реке Оксус (Амударья). На старинных картах река Оксус впадала в Каспийское море.
Англияне образовали общество «Мистерия» во главе со знаменитым путешественником Себастьяном Каботом для отыскания этого пути.
И вот 20 мая 1533 года флотилия из трех кораблей, снаряженных этим обществом, под главенством испытанного адмирала Гюга Виллоуби и Ричарда Ченслера пустилась в долгий и опасный путь, взяв с собой провиант на восемнадцать месяцев.
Но как стало известно англиянам о возможности прохода из Ледовитого океана в Белое море? Ведь на протяжении около тринадцати столетий хранили хитрые варяги этот секрет, тайну северных ворот России. Варяги, норманны (мурманы) и другие скандинавы, древние предки Лермонтов, и Бальмонты ходили этим путем в Биармию (так они называли Пермскую землю). Уже в XV веке плавали друг к другу скандинавские и русские послы. Известен был этот путь и рыбакам и китобоям. От них и могли прослышать любопытные и предприимчивые моряки-англияне о тайном пути в Россию. Кроме того, послы Англии в Москве почитали святой обязанностью раскрывать подобные тайны на благо собственного королевства.
С большим опозданием миновала флотилия Шетландские острова шкотов. Кстати, и в командах кораблей было немало отличных моряков из Шкотии. В начале осени флотилия попала в тяжкую бурю. 18 сентября, потеряв из виду один из своих кораблей, адмирал вошел в неведомую бухту и, затертый льдами, решил в ней перезимовать. Все на борту погибали от холода. Из бумаг адмирала позднее стало известно, что осенью он выслал три партии в разных направлениях, которые, пройдя по заснеженной земле три-четыре дня и ночи, так и не обнаружили следов человека. Последняя запись адмирала была сделана в январе…
Третьим кораблем командовал навигатор флотилии Ричард Чанселор (по русским документам — Чанселор). С тяжелым сердцем, прождав семь суток в условленной гавани в Финмарке (Финляндии), Чанселор принял решение продолжать путешествие. Он плыл в северных широтах, где днем и ночью светило солнце. Огибая Скандинавский полуостров, его «Бонавенчюр» лавировал между льдинами и айсбергами в водах Ледовитого океана. Наконец вошел он в большой залив Белого моря, носивший, как он вскоре узнал, имя святого Николая. В устье Северной Двины повстречал он людей, которые никогда еще не видели таких больших кораблей. Они сказались русскими, подданными Царя Иоанна Грозного. Чанселор отправил Царю срочную депешу, надеясь, что император, как назвал Царя аглицкий моряк, немедленно по получении сей депеши пришлет за незваными гостями своих почтовых лошадей. Но Царь медлил с приглашением. Чанселор, как и большинство аглицких первооткрывателей, был человеком весьма решительным и скорым в своих решениях. Пока архангельский воевода ждал из Москвы указаний, как быть с непрошеным гостем из неведомой Англии, он поехал в канун осенней распутицы в столицу Московии.
С немалыми трудностями преодолел Чанселор со своим эскортом тысячу пятьсот миль на царских санях до Москвы. Страна оказалась густонаселенной, процветающей. За полдня Чанселор насчитал на дороге за Вологдой до восьмисот саней, груженных соленой рыбой или хлебом.
За несколько поприщ от Москвы англиян остановили в какой-то деревне, — Царь-де назначит день для их въезда в столицу. Томительное ожидание царской милости тянулось двенадцать дней. У стен стольного града высоких гостей встречали московские приставы. Тут же начинались бесконечные споры о дипломатическом этикете, пока вдоль всей дороги в Кремль скучали москвичи, выгнанные из своих домов для торжественной и «стихийной» встречи, а также конные служилые люди, стрельцы и пушкари с пушками и знаменами.
Не слишком чопорные, уверенные в себе аглицкие гости, всесветные купцы, немало дивились азиатским порядкам. Князья и бояре драли носы перед чужеземцами, цепко следя, кто раньше снимет головной убор, слезет с коня или выйдет из кареты, кто первым шагнет навстречу и займет место одесную, высокую руку, сиречь с правой стороны.
При Иване Грозном еще не было Посольского приказа на Ильинке. Крымских, ногайских и польско-литовских послов, чаще прочих приезжающих в Москву, везли в особые подворья. Остальных устраивали в боярских хоромах. Аглицких гостей также поместили в чьи-то хоромы и тут же окружили сильным нарядом стрельцов — якобы для охраны, а на самом деле для того, чтобы никого не выпускать на улицу и не допускать общения с не обученным этикету и политесу московским людом.
Однако же русские оказались щедрыми хозяевами: они словно задались целью споить англиян. На каждого питока прислали они на день в расчете по семь чарок двойного зеленого, по две кружки ренского и романеи, по ведру пива, по полведра и четыре кружки разного меду, не считая браги и квасу. Приставы вельми беспокоились: хватит ли напитков дорогим гостям? Заодно они неуклюже шпионили за дорогими гостями, имея наказ, что выведать об их намерениях и вообще об их царстве-государстве.
Лермонту нетрудно было представить себе шествия гостей в Кремль, ведь он столько раз сопровождал с рейтарами иноземных послов. Ехали послы в царской карете. На улицы снова выгоняли послушный народ. Впереди шли стрельцы, а за ними на лошадях с царской конюшни везли подарки Царю — Цари их, невзирая на ветхозаветные предупреждения Государям против принятия любительных поминок, страсть как любили, особливо всякие заморские диковинки. Какой-то посольский чин, сидя на коне, вез «верующую» (верительную) грамоту, высоко подняв ее над головой для всенародного обозрения. Послов эскортировали приставы и придворные. Послы выходили из кареты, не доехав до Красного крыльца. Вдоль лестницы и шпалерами в покоях стояли дворяне и приказные люди, блистая «золотным платьем», выданным под расписку на сей токмо случай из царских кладовых со строгим предупреждением: коли заблюешь казенный наряд или порвешь его, выдерут тебя нещадно батожьем! Как видно, «показуха» вошла в русский обиход по крайней мере при Иване Грозном.
Бессчетное число раз стоял Лермонт во время приема послов в Столовой или в одной из Золотых подписных, иногда и в Грановитой палате. Примелькались ему и шапка Мономаха, и скипетр, и «царское яблоко».
Чанселора принял Иван Грозный.
Аглицкий гость, раздраженный тем, что при входе у него отобрали шпагу по обычаю татарских ханов, остолбенел, когда Царь, протянув ему правую руку для целования, затем деловито обмыл руку из особого серебряного рукомойника.
Ивану IV было тогда двадцать три года. В семнадцать лет, будучи великим князем с трехлетнего возраста, объявил себя Царем (цезарем, кесарем) всея Руси. Русские Цари утверждали, безо всякого на то, впрочем, основания, что они были не только помазанниками Божиими и происходили от варяжского князя Рюрика, но и от римского императора Августа Цезаря. Их не смущало, что в Европе никто этого всерьез не принимал, — в России заставляли верить. В 1550 году, ведя подкоп под бояр во имя утверждения самодержавия, он провел собор, добился реформы в пользу служилых помещиков-дворян, исправил «Судебник», через год ввел «Стоглав» — сборник церковных правил. Год назад он завоевал Казанское царство и зарился теперь на царство Астраханское и земли Ливонского ордена. Он еще не основал опричнину. Человек громадного политического таланта, он полагал себя не сыном, а отцом отечества, разврат соединял с религиозным экстазом, все более отравляясь неограниченной властью, упиваясь кровью поверженных врагов…
Иван, видимо, понял, что с помощью англиян он прорубит если не окно, то форточку, фрамугу в Европу. Он придавал большое значение прямым сношениям с Англией через Белое море. Этим он разрывал блокаду, в коей держали Московскую Русь Польша, Литва и Ливонский орден. К его великому сожалению, беломорский путь, условия плавания по Ледовитому океану не обеспечивали непрерывные, круглогодичные сношения.
Чанселор увидел державшейшего великого Государя восседающим на великолепном престоле в «большом наряде» — с золотым венцом на челе, в ризе из золотой парчи до щиколоток, в бармах, с хрустальным скипетром, унизанным драгоценными каменьями. На шее висел большой и тяжелый золотой крест. На перстах — ожерелье с финифтевыми изображениями небожителей. Был он высок, худощав, плечист. За ним стояли также в золотом облачении «главный секретарь» и «начальник молчания». В роскошных кафтанах восседало вокруг сто пятьдесят царедворцев — бояр и дворян. Несмотря на жару и духоту, в тронной палате бояре сидели, проливая пот, в высоченных меховых шапках.
Являл-представлял Чанселора окольничий Царя. Царь всея Руси пробежал глазами верительную грамоту Чанселора и справился о здоровье короля Эдварда VI Аглицкого. «Король здоров», — отвечал Чанселор, хотя Эдуард, который из-за смертельной болезни не мог присоединиться ко всему двору, провожавшему в путь флотилию Уилоуби в Гринвиче, к тому времени уже скончался. В грамоте, писанной на латинском языке, король Эдуард VI просил коронованных братьев своих во всех странах на пути мореходов «Мистерии» открыть им вольный торг.
Иоанн отвечал англиянам, что их купеческие суда могут приходить в его государство когда угодно, «с благонадежностью, что им не будет учинено зла».
Его Величество пригласил Чанселора и его людей отобедать с ним, и, прождав два часа, они вошли в обширную Грановитую палату, полную всяческого благолепия, где Царь восседал уже в одеянии из серебра, с золотой короной на голове, вселяя ужас хищным взглядом из-под сдвинутых мохнатых бровей. Он в недоумении поглядывал на англиян. Следуя своим обычаям, они не снимали шляп перед иностранным самодержцем, не стояли перед ним с непокровенной головой. Это недоумение переросло позднее в невольное уважение, и когда он впоследствии решил жениться, то готов был взять в жены леди Гастингс, камер-фрейлину королевы Аглицкой, и когда он вознамерился, мучимый манией преследования и изводившим его извечным подозрительством, бежать из России, то подумывал именно о царстве Аглицком как возможном убежище. В планы свои он посвятил любимца своего Богдана Бельского и его родича Малюту Скуратова, обещая взять их с собой.
Чанселора поразила откровенность Царя. То набивался он в женихи к Елизавете I или леди Гастингс, то начинал смачно рассказывать о том, как он лишил невинности всех красивых девиц Москвы!
Перед обедом Царь едва не уморил заморских гостей длиннейшей молитвой. Во время обеда, на коем присутствовало двести знатнейших особ в государстве, прислуживали кравчий, шесть стольников, сто сорок слуг в казенных золотых кафтанах. Горели в трапезной тысячи свечей белого воска. Невиданные яства подавали на золотой посуде, и несть им было числа, хотя народ русский голодал и изнывал под ярмом крепостного права.
От щедрот своих Царь всея Руси посылал самым почетным гостям, включая и англиян, хлеб, отборные блюда, включая жареных лебедей, павлинов и другие отменные блюда, порой, впрочем, и смертельный яд. Поднимая бокалы, все вставали, и вставать пришлось раз шестьдесят — семьдесят. За время обеда Царь дважды менял корону, а прислужники трижды переодевались в новые шитые золотом бархатные кафтаны и парчовые доломаны.
Пили за здоровье его Царского величества с полным титлом, пили за счастливое его государствование. Русские пили столь безмерно, что наконец валились под стол. Англияне осторожничали, но тоже еле держались на ногах.
Переждав зиму, Чанселор отплыл весной обратным путем в Англию. Его сообщения о Московии наделали много шуму при дворе. Общество «Мистерия» получило право исключительного торга с русскими по Белому морю и присоединилось к Купеческому обществу для открытия неведомых стран.
Зимой 1554 года карелы стали вестниками полярной трагедии: нашли-де они на Мурманском море два корабля, донесли они в Москву. Стоят они на якорях в становищах. Люди на них мертвы, а товаров на кораблях много. Так погиб Биллоуби с экипажами двух кораблей «Мистерии».
В 1555 году Царь Иоанн Грозный пожаловал льготную грамоту двадцати трем аглицким купцам Русской компании «на повальный торг всякими товарами по всей России».
В 1555 году Чанселор совершил еще одно путешествие в Московию, но, возвращаясь в Англию, потерпел кораблекрушение и утонул в одном из заливов Шкотии.
Великий Северный путь из Англи в Россы был открыт. Распахнулась форточка в Европу. В 1557 году в Московию приплыл с четырьмя судами Антони Дженкинсон. На этот раз в теремном дворце за одним столом с Царем Иваном сидел сын побежденного им в 1556 году казанского хана. Гостей уже было не менее шестисот. Вслед за еще более длинною молитвой Царь потчевал гостей рассольными петухами с инбирем, журавлями, ухой разных сортов в сопровождении рябчиков и тетерок. Пили княжий и боярский меды, мальвазию и прочие заморские вина. Потом приплыли на громадных подносах исполинские стерляди, караси с бараниной, горы икры всех видов. В соседнем зале пировали две тысячи татар, присягнувших биться за белого Царя. Царь преподнес заморским гостям богатые дары.
В 1557 году русский посол в Лондоне получил от короля грамоту о привилегиях русским купцам. Как и аглицкие, они освобождались от уплаты сборов и пошлин. Царь пошел еще дальше, в том же году даровав Русской компании еще одну грамоту, запрещавшую всем прочим иноземцам и даже англиянам, не принадлежавшим к Русской компании, приезжать к устьям Двины, в Мезень и Колу.
Англияне построили собственные торговые дома в Архангельске (в год смерти Ивана Грозного), в Холмогорах, Вологде, в Москве на Варварке и во многих других русских городах, а также по всем путям на Шемаху, Бухару, Самарканд и Китай.
Царь Иоанн Грозный стремился заключить с королевой Елизаветой не только брачный союз, но и наступательный и оборонительный союз. Когда королева Англии ответила оскорбительным отказом, Царь дважды прерывал доброжелательные торговые отношения, но все же продержались они до смерти Грозного Царя.
Англияне привозили сукна, шерстяные ткани, шелк, галантерею, сахар, бумагу, медь, свинец и другие металлы. Русские поставляли им мягкую рухлядь, лен, пеньку, говяжье сало, кожу и юфть, ворвань, смолу и деготь. В 1560 году аглицкие купцы открыли для себя короткий путь из Варяжского моря по реке Нарве в Ливонии в Ревель и Ригу, прежде державшийся их конкурентами, датчанами и немцами из Любека, в строжайшем секрете. Новый рейс был осуществлен в 1561 году.
Вскоре царские чашники углядели, что, когда Царь на отпуске угощал медом аглицких гостей, те клали за пазуху золотые кубки. Их примеру следовали даже послы. «Для таких бессовестных послов деланы нарочно в аглицской земле сосуды медные, посеребренные и позолоченные». Не отсюда ли пошли разговоры о русском коварстве!
С 1566 года англияне покрывали путь из Лондона в залив Святого Николая в Студеном море протяженностью в семьсот пятьдесят лье с попутными ветрами за месяц, В 1568 году посол королевы Аглицкой Елизаветы прибыл в Москву тем же путем, полюбовавшись по дороге в полярных водах случкой огромного стада китов. В 1571 году капитану Антони Дженкинсону не повезло: сначала он застрял в Холмогорах близ Архангельска из-за чумы, затем под Переславлем был принят Царем, разгневанным неудачей своей войны против шведов и сожжением Москвы крымскими татарами, причем вместе с тысячами москвичей погибли и англияне, жившие в столице.
На сей раз Царь Иван Грозный показался англиянам безумным старцем, вампиром, пьяным от крови. «Мужем крови» назвал его князь Андрей Михайлович Курбский, бежавший в Литву. Слухи о страшных казнях, о разгуле царской опричнины давно дошли до Лондона. С годами Иван становился все лютее и подозрительней. Презрев благие библейские заповеди, он ни на волос не менял своих кровавых правил и обычаев, но, делаясь все более суеверным, тратил огромные деньги на церковь, на пуды свечей, на постоянные молебны, чтобы успокоить свою преступную совесть, заглушить муки раскания. Истово считывая земные поклоны, он в кровь разбивал лоб, ходил с синяками и язвами.
В 1574 году Царь заставил англиян платить пошлины на ввозимые товары, правда, эти пошлины были вдвое ниже обычных и иноземные гости по-прежнему наживались, покупая, скажем, русское дерево за 25 копеек, а продавая его у себя за 5 рублей.
При Иоанне Грозном в Холмогоры приходило ежегодно по девяти аглицких кораблей.
Вслед за аглицкими купцами в Москву к Ивану Грозному прибыл из Англии чернокнижник и звездочет по имени Бомелия, по совместительству лекарь и математик, а по призванию — шпион, оплачиваемый министром королевы Елизаветы лордом Берли. Царь использовал сего многоталантливого иноземца главным образом для приготовления ядов, с помощью коих он убрал немало врагов. Нарушая Божии заповеди против ведунов и гадателей, крепко уверовал Иван в предсказания матушки Шиптон, ставшей известной еще в XVI веке. Подобно этой вещунье, Бомелия, вооруженный ее книгой, доказывал Ивану совершенно неопровержимо, что конец света настанет в 1881 году по европейскому счислению.
Можно представить себе волнение Лермонта, когда в шкотской лавке Макгума на Варварке он обнаружил затрепанную книгу XVI века со следующим завлекательным фронтисписом:
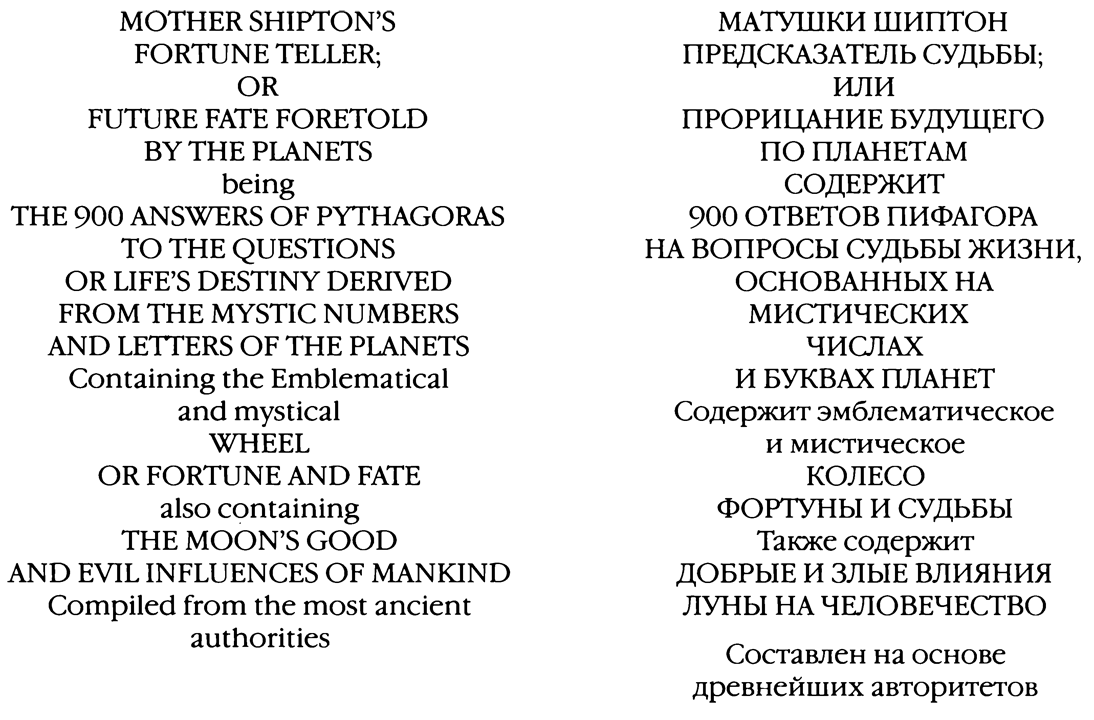
Эту книгу отцовской библиотеки в Абердине он читал вместе с Шарон!..
Лермонта затрясло от непередаваемого трепета, ведомого лишь самым истым библиофилам, подлинным книголюбам. Ведь можно было вполне предположить, что этот волюм держал в своих руках колдун и астролог Бомелия, стоя перед Иваном Грозным, и сам Царь листал эти желтые страницы, разглядывая «Колесо судьбы, таблицы мистических чисел». Бомелия предсказывал судьбу, а его собственная судьба сокрылась во мгле. Не отравил ли Иван астролога его собственным ядом? Ведь Государи нередко предавали смерти своих астрологов.
Кроме матушки Шиптон, Бомелия был, конечно, вооружен еще «Пророчествами господина Нострадамуса», славного французского астролога, чья звезда лишь начинала тогда всходить. Прочитав эти «пророчества», Лермонт убедился в никчемности оккультных наук и людском легковерии. Нет, не мог, не хотел он верить в абракадабру господина Нострадамуса, матушки Шиптон и прочих шарлатанов от черной и белой магии.
Бомелия жил и творил свои художества и чудеса в век, когда в астрологию верили положительно все. Как писал Вальтер Скотт в романе «Гай Маннеринг, или Астролог», престиж ее поколебался лишь к концу XVII века.
Об астрологии Лермонту многое рассказывал чернокнижник сэр Джеймс Дуглас, его командир. По просьбе племянника он составил ему гороскоп: начертил звездный небосвод, разделенный на двенадцать домов, расположил планеты в соответствии с днем и часом рождения Джорджа.
— Бог войны Марс, — мрачно нахмурившись, поведал он Джорджу, — угрожал тебе пленом или гибелью в семнадцатый твой год. Это год твоего опасного путешествия по морю из Англии в Польшу, год Варшавы, Смоленской и Белой. Далее грозит тебе Марс год за годом, но особенно в двадцать второй твой год — это год сражения под Москвой с королевичем Владиславом…
Джордж Лермонт подавил улыбку: не так уж трудно дяде Джеймсу вспоминать пережитые опасности, но что посулит он в будущем?
— И смерть сулит он тебе, когда тебе будет уже тридцать семь лет — это значит, в тысяча шестьсот тридцать третьем году. Причем зависеть все будет от твоей собственной воли.
Год 1633-й. До него жить да жить. Целых пятнадцать лет! Что ж, запомним…
Обладая феноменальной памятью, Бомелия наизусть помнил труды древних греков Пифагора и Птолемея, арабов Хейли и Заэля, иудея Мессагалу Маза Аллана, итальянцев Гвидо Боната и Жана Антуана Магинуса, француза Клода Дариота. Царь Иоанн Грозный диву давался, слушая непонятные рассуждения своего астролога, пересыпанные такими словечками, как альмоходен, альмутен, анабибизон, катабибизон.
В 1583 году в Москву морем прибыл посол Елизаветы сэр Джером Боуз. Иван Грозный принял его в Мономаховой шапке, поглаживая взглядом четыре короны, красовавшиеся у трона, — Московии, Казани, Астрахани и Сибири. По правую руку Царя стоял невзрачный царевич Федор, по левую — бывший рында (оруженосец) Борис Годунов. За ними в серебристо-белых кафтанах застыли рынды с огромными золотыми секирами на плечах. Теперь уже вокруг сидело, блистая парчой и каменьями, до восьми вельмож. Царь пил с аглицким послом ренское за здоровье королевы, а вслед, испытывая его, затеял спор, кто более велик, королева Аглицкая, или король Франции, или испанский король, или германский император. На это аглицкий посол заявил, что Аглицкая королева не уступит ни одному из королей, а что касаемо императора, так он жил на деньги ее отца. Царь Иван заметил, что вышвырнул бы сэра Боуза за дверь за такие слова и за то, что не низко поклонился, не будь он послом с дипломатическим иммунитетом, а одумавшись, признал, что он желал бы, чтобы его послы так же крепко стояли за своих Государей и так же смело разговаривали с иноземными Государями, и что он, пожалуй, наведается в Англию.
Был пост, и потому гостей угощали лишь постным рыбным на миндальном масле. Блюда тем не менее подавали в невероятном изобилии. Стол ломился от яств. Хитрый Царь ел рыбу приправленную в скоромном масле.
Через год в возрасте пятидесяти четырех лет Иван Грозный «переселился в вечное блаженство от временного сего жития».
В год смерти Царя, в 1584 году, в устье Северной Двины был заложен город Новые Холмогоры, переименованный в 1637 году в Архангельск. В Архангельск позднее перейдет вся холмогорская торговля.
В 1584 году на коронации Царя Федора агент британского правительства Джером Хореи устроил дипломатический скандал, настаивая на том, чтобы Царь принял сначала его, а потом голландца — подданного Испании. Иначе он не явится с гостинцами, пусть хоть отрежут у него ноги по колено! Борис Годунов решил этот спор в пользу аглицкой короны.
После смерти «англомана» Ивана Грозного голландцы и немцы добились отмены царских льгот англиянам и восстановления выгодной им — да и русским купцам тоже — свободной конкуренции.
В 1588 году в Москву к Царю Феодору прибыл новый посол королевы — сэр Джайлс Флетчер. Королева Елизавета Английская, ставшая после разгрома испанской Непобедимой Армады могущественнейшим монархом мира, добивалась, чтобы Царь Феодор Иоаннович вновь запретил торговлю с Россией всем иноземцам и английским купцам, не принадлежавшим Русской компании, но Царь по наущению Бориса Годунова отвечал так: «Пределы России открыты для вольной торговли всех народов сухим путем и морем. К нам ездят купцы султановцы, цесарские, гишпанские, немецкие, французские, литовские, персидские, бухарские, хивинские, шемахинские и многие другие, так что можем обойтись и без англиян и в угодность им не затворим дороги в свою землю». Так могущественнейшей Елизавете, стремившейся поставить Московское государство на положение британской колонии, был дан решительный поворот от ворот.
Борис Годунов подтвердил привилегии голландским купцам, разрешил торговлю в России шведским купцам и ганзейским городам.
В 1604 году король Иаков прислал к Царю Борису нового посла, сэра Томаса Смита, встреченного Борисом с небывалой помпой и невиданными дарами. Во время приема и обеда Борис своими драгоценностями и одеждами посрамил, переплюнул Ивана Грозного. И самый пир был намного роскошнее. И прислуживали за обедом двести дворян в кунтушах из золотой парчи. И если при Иване вносили витиевато отлитый из сахара Кремль весом в пять пудов, то тот Кремль, что вкатили по знаку Бориса, весил вдвое больше и был точным слепком всех башен и стен, церквей и дворцов Кремля. Тут и там виднелись фигурки московитов — бояр, стрельцов, монахов. В чарах и братинах пенились еще более редкие и дорогие меды и вина.
Царь Борис Годунов не смог изжить последствий разрушительных перехлестов в правлении Иоанна Грозного и под конец его жизни и сам изрядно наломал дров при всем своем уме и стремлении всемерно укрепить Русское государство. Эти Цари восстановили народ против власти. Началась Смута, коей немедля воспользовались враги России. Успокоению государства много содействовали, преследуя свою очевидную выгоду, аглицкие и голландские купцы.
Когда воцарился Михаил Федорович, Шереметев научил его подтвердить привилегии этим купцам, за что Царь получил от Иакова I Аглицкого и VI Шотландского небольшой займ.
Однако никто даром займы не дает. Англияне снова потребовали, чтобы Москва открыла им путь в Персию. По совету Шереметева Царь вернул займ королю, в просьбе отказал и, сохраняя торговые привилегии англиянам, указал, чтобы сукна и прочие рукоделия доставлялись в его казну по заморским ценам, чтобы англияне не ввозили в Московское государство чужих товаров и не вывозили бы за границу шелку и не привозили табаку.
(Лермонт с любопытством отметил, что король Иаков, воевавший мечом и паром против курильщиков, тем не менее не препятствовал ввозу «отвратного зелья» в чужие страны.)
Из истории торговли русских с иноземцами наглядно видно, что Московское правительство блюло, как правило, собственную, русскую выгоду и тем не менее на деле русская торговля была отдана на откуп иноземцам, не исполнявшим никакие царские указы и заламывавшим цены на свои товары не по царскому велению, а по своему хотению в ущерб государству русскому. Правом беспошлинной торговли, данным двадцати трем аглицким купцам, незаконно пользовались сорок семь купцов! Иноземцы повсюду в стране открывали свои конторы, всюду закупали по дешевке русские товары. Орудовали они взяткой и подкупом в кремлевских приказах, закабаляли мелких и средних купцов и даже гостей денежными ссудами, гостям закрывали доступ на свой рынок тем, что сговаривались между собой и с купцами других земель и ганзейских городов ничего у русских не покупать или покупать лишь по самым низким ценам.
Русские купцы, боровшиеся против засилья иноземных купцов, в бессчетных челобитных жаловались на них, приводя разительные примеры. Антон Лаптев, к примеру, ярославец, торговый человек, ездил с соболями, лисицами и белками, «проехал он их немецкия три земли, а сговорившись заодно, немцы ничего не купили, ни на один рубль. И поехал он на их немецких кораблях с ними, немцами, к Архангельскому городу, и как скоро он сюда приехал, то у него те же немцы скупили все его товары большой ценой…».
Так Джордж Лермонт подвел свою хронику к правлению Царя Михаила Федоровича, которого он так часто лицезрел во время кремлевских пиров и застолий в роскошных зальных трапезных. И рейтар Лермонт вдруг понял, что сбылась юношеская его мечта об открытии нового мира, только открывал он новый свет не на западе, а на востоке, столь же новом и загадочном. И написано об этом государстве на востоке было, оказывается, гораздо меньше, чем о Мексике, Бразилии и Перу! И сознание это снова будило в нем тягу к перу, беспокойное, как чесоточный зуд, желание свидетеля истории рассказать современникам и потомкам о бурной, красочной и значительной эпохе, совпавшей с его жизнью.
Придя домой, он впервые просидел за столом всю ночь, писал и рвал, писал и рвал, пока не догорела свеча и не пошел он в потемках, разжижженных первым светом утра, к кровати, на которой, свернувшись клубочком и тихо посапывая во сне полуоткрытым ртом, давно спала Наташа…
Зачем-то зажег он новую свечу и долго смотрел на спящую жену. Набожная Наташа всегда огорчалась, что у нее не иконописный лик, а живой, плотский, с васильковыми веселыми глазами, опущенными темно-золотистыми ресницами, задорным носиком и сочными, как земляника, губами. Ресницы под высокими дугами бровей трепетали, шевелились — Наташа смотрела сон. Как ни постилась она усердно, а все никак не походила на мученицу, страстотерпицу. Он любил жену, но любил какой-то покойной, невозмутимой любовью, и ему все казалось, что настоящая и не временная, преходящая любовь где-то впереди, в туманном будущем. К тому же он вовсе не разлюбил еще Шарон, хотя давний образ ее тускнел, как тускнеет пламя свечи с восходом солнца.
Все эти годы его неодолимо тянуло к перу. К перу, к которому он был не очень привычен. Ему хотелось как-то на бумаге отразить перелом во всей жизни своей после крепости Белой, после встречи с Наташей, свадьбы, рождения сына. Нет, он не надеялся на публикацию, а мечтал, чтобы записки эти прочитал его сын, может быть, внуки, правнуки… Через десятилетия, даже века…
Много разноречивых воспоминаний и суждений о Смуте слышал он от старых рейтаров и русских стрельцов и пушкарей, от людей посадских. Для них она была делом вчерашнего дня, они собственными глазами видели Бориса Годунова, Василия Шуйского и обоих «Димитриев», сражались против или за них. Страсти продолжали бушевать вовсю. В кабаках не утихала междоусобица. Ходили слухи о новых заговорах, новых ворах, новых самозванцах. Воскресали сыновья Царя Федора: лжецаревичи Федор, Савелий, Клементий, Семен, Василий, Ерошка, Гаврилка, Мартынка. Несть им было числа. Уверяли, что и Болотников жив и скоро приедет в Москву с живым своим соратником лже-Горчаковым. Многое понятнее стало Лермонту, но он чувствовал, что ему не хватает знаний вообще и знания Руси в частности, что хроника его холодна и чересчур бегла, поверхностна, что не разобрался он в подводных течениях русской жизни, не постиг всей сложности противоречий между боярами, дворянами, купцами и простым людом и, главное, плохо знал поселян и холопов, кои шли вразброд и против своих бояр и дворян, и против иноземных завоевателей. Все-таки был он родовитым дворянином, помнящим двадцать поколений Лермонтов, и не мог он избавиться от дворянских шор. В Шотландии и Англии многое походило на то, что творилось на Руси, но еще больше было в Московии своего, самобытного, варварского.
Во всем этом, решил Лермонт, надобно досконально разобраться, а нет лучшего способа к этому, чем прислушиваться к людям, впитывать в себя их рассказы о прошлом, изучать их жизнь, нравы, чаяния, писать и дополнять написанное. И, конечно, надо читать, как можно больше читать. Пожалуй, самой ценной находкой его были бумаги южника Гильберта, капитана шкотской стражи Бориса Годунова, капитана француза Маржерета, Василия Шуйского и первого самозванца… И, разумеется, нужно больше ездить, дабы ближе узнать эту великую страну, раскинувшуюся от Пскова, Смоленска и Чернигова до Иртыша и от Кольского полуострова до Кубани и Терека, до Дагестана.
Следы Смуты еще долго поражали глаз в Московии: Лермонт видел всюду на земле русской великую мерзость запустения, обглоданные волками и вороньем кости павших ратников на полях и в лесах, опустелые деревни с неубранными разложившимися трупами поселян, убитых неизвестно кем, брошенные пашни вокруг пепелищ. И все-таки «Царство внове строитеся начат», как строят заново сожженный врагом дом.
В великое разорение пришла вся земля Русская. Новые самозванцы лезли тараканами из всех щелей расколовшегося Московского государства. Владислав в отчаянии хотел отказаться от московской короны. Часть бояр из страха перед народом звала на царствие аглицкого и шкотского короля Иакова, чему рьяно способствовали аглицкие послы на Москве.
Темное время, страшное время. И среди всего этого бушующего на Русской земле хаоса твердыней стояла Смоленская крепость во главе с твердостоятелем воеводой Михаилом Борисовичем Шеиным, который до Минина и Пожарского светил маяком в черном мраке лихолетья. Считая себя обязанным жизнью Шеину, Лермонт пристально приглядывался к этому человеку и скоро, поглощая одну летопись за другой, распознал в нем истинного героя своего времени и замечательнейшего человека. Он стал собирать по крупице все, что мог почерпнуть о Шеине в летописях и хронографах, в разговорах с рейтарами старых выездов, со своим тестем Евтихием Федоровым и другими русскими родственниками, — а их было немало, — со знакомыми стрельцами и, конечно, с летописцем Пименом, который горячо соглашался с Лермонтом, что Шеин — это человек века у себя на родине. Лермонт словно предвидел, предчувствовал, что будущее свяжет в тугой узел его судьбу с судьбой Шеина и что узел этот разрубит только смерть.
Никому не известный летописец, он же поручик рейтарского полка, по своей охоте Джордж Лермонт строчил заметки «Гиштории» Московии. Ему самому необходимо было понять время, в которое он жил…
Своею кровавой секирой Иоанн Грозный срубил с помощью Скуратова и Бельского все древнейшие княжеско-боярские роды, оставив лишь десяток верных ему княжеских фамилий во главе с князем Вяземским и горсть нетитулованных бояр во главе с Шереметевыми, Шеиными и их сродниками Морозовыми. Иоанну служили три брата Шеина — Юрий, Василий и Иван. Отец их, боярин Дмитрий Васильевич Шеин, был старшим из двух сыновей боярина Василия Михайловича Морозова, известного по прозвищу Шея. Этот Шея был потомком в седьмом колене Михаила Прушанина, мужа честна, выехавшего в XIII веке из Пруссии в Великий Новгород. По мнению Лермонта, изучавшего род Шеиных по древним родословцам в кремлевском подземелье, этот рыцарь, вышедший почти четыре столетия назад на русскую службу, был не немцем-прусскаком, а пруссом, когда его народ, литовское племя пруссов, искони обитавшее в Восточной Пруссии, подпал под власть Тевтонского духовно-рыцарского ордена. В 1234 году Папа Григорий IX признал Пруссию вечным владением ордена. Бежав в Новгород, Михаил Прушанин встал под хоругви великого князя Александра Невского, громил с ним шведов на Неве, чтобы отстоять для Новгорода побережье Финского залива, а в 1242 году отомстил немецким рыцарям, помогая Александру Невскому и новгородскому воинству разбить их в исторической битве на Чудском озере.
Лермонт, разумеется, обратил особое внимание на то, что Михайло Борисович Шеин, оказывается, был потомком в десятом колене иноземца, пришельца. Не потому ли сохранил боярин жизнь бельским немчинам?
У Шеина был особый, личный счет к ляхам.
Отец Михаилы Борисовича, Борис Васильевич, старший сын Василия Дмитриевича, будучи окольничим и главным воеводой в крепости Сокол, что под Полоцком, во время долгой и несчастной для Москвы Ливонской войны достойно сражался против польского короля Стефана Батория и был убит ляхами в сентябре в 1579 году. Мстя мертвому за тяжкие свои потери, ляхи обезобразили труп.
О дворцовой службе Михаилы Борисовича в его юношеские годы, в царствование Царя Феодора Иоанновича, Лермонт собрал не много сведений. В 1598 году Шеин подписал вместе с сорока пятью другими лучшими людьми грамоту об избрании на царство Бориса Годунова после смерти слабоумного Феодора. Родовитые бояре не очень хотели видеть на царском троне потомка татарского выходца XIV века, хотя он и был свояком покойного Царя через сестру Ирину. В грамоте подпись Шеина стояла на двадцатом месте и ниже его подписались семнадцать князей, что убедительно говорило о его близости к Борису, несмотря на молодость.
В 1589 году еще безбородый Шеин заметно выделялся среди тех деятелей Земского собора, что выступили против Романовых и других охотников на московский престол и провозгласили Бориса Царем после смерти его зятя, мужа его дочери Ирины Годуновой, скудоумного Царя Феодора, сына Грозного. К тому времени Борис Годунов уже пять лет правил царством за Федора. Злопамятные Романовы не прощали своим врагам, притаились до поры до времени.
Возложив на себя шапку Мономаха, Борис среди прочих пожаловал Михаила Шеина чашником и поместил его в богатом имении на Смоленской земле. Но новоиспеченный виночерпий Царя не собирался командовать чарочниками и распивать вино и водку из кремлевских погребов, — его смолоду прельщало ратное дело.
В 1598 году новопомазанный Царь Борис взял юного Шеина, бывшего тогда рындой, с собой в поход против крымского хана Казыгирея. Шеин с блеском отличился в этом походе, и Царь Борис уже в 1600 году назначил его полковым воеводой в украинных городах Пронске и Мценске. Был он затем воеводой полка правой руки у боярина князя Тимофея Романовича Трубецкого, воеводой большого полка, но уже к 1604 году он выдвинулся, став воеводой передового полка.
Борис Годунов полюбил его за ум, храбрость и бескорыстную любовь к Руси великой. Мудрый, хоть и не безгрешный правитель умел находить и отличать нужных государству людей. Шеин быстро сделался одним из самых блестящих и подающих надежды молодых вожаков служилого дворянства и посадских людей, бросавших вызов изжившим себя князьям-боярам.
Поначалу набивал руку на разгроме разбойных ватаг, но смело говорил Царю, что поселян негоже угнетать, надобно урезать подати, установить в неделю токмо два дня работы на барина. Борис и сам желал поднять крестьянство, облегчить крепостное ярмо, и тут многие дворяне вслед за боярами отшатнулись от него. Только не Шеин.
С 1598 года — года воцарения Бориса Годунова — полыхала в царстве крестьянская революция, прозванная перепуганными князьями и попами Смутным временем. Началась, собственно, Смута сразу после смерти Ивана Грозного, в 1584 году. Помещики-дворяне восстали против бояр, захватывали их вотчины. Разоренные крестьяне — смерды, сябры, страдники — стремились разорвать оковы крепостного права, покончить с барщиной и оброком. Терпя поражение в борьбе с царским войском, они бежали на окраину царства, в Польшу и Литву, к шведам, на Запорожье. Гнали их туда голод и бесхлебица.
В народе прослыл Шеин честным и справедливым начальником во время страшного голода в первые три-четыре года нового, шестнадцатого, века, когда Царь доверил ему раздачу хлеба голодающим в Пронске, Мценске и других городах, куда был послан воеводой. Шеин оставался «без лести предан» Борису до самой его смерти в 1605 году. Никогда не верил он в выдуманную боярами легенду об убийстве по приказу Бориса в Угличе царевича Димитрия и подхваченную ими польскую сказку о живом Димитрии.
В 1605 году он выступил с полком против названого Димитрия. При Добрыничах царское войско под предводительством князя Василия Ивановича Шуйского разбило поляков, шедших с Самозванцем, и Шуйский послал Шеина к Царю, находившемуся тогда в Троицком монастыре, с известием об этой важной победе русского оружия. Обрадованный Борис пожаловал Шеина в окольничие.
После смерти Бориса в том же году Шеин, будучи воеводой в Новгороде-Северском, долго медлил с признанием названого Димитрия, хотя смолоду связал свою судьбу с судьбой служилого дворянства, сделавшего Самозванца своим ставленником, и присягнул ему в числе последних. Новый Царь, решив заменить Боярскую думу на польский манер Сенатом, или, точнее, «Советом его царской милости», состоявшим из совета духовных, совета бояр, совета окольничих, совета дворян, назначил Шеина главой совета окольничих.
После убийства названого Димитрия боярами в мае 1607 года в Кремле Василий IV Шуйский, став Царем, вспомнил о храбрости Шеина при Добрыничах, пожаловал его в 1607 году боярином, а в следующем году послал его воеводой в Смоленск, а старинный град этот был важнейшей крепостью самого опасного тогда грозного польско-литовского рубежа.
Смоленский воевода хорошо видел, что трон под боярским Царем шатается: бояре перессорились с торговыми и посадскими людьми. Трон раскачивало и могучее движение крестьян во главе с беглым холопом Иваном Болотниковым, изрядно повидавшим свет, — он томился в плену у татар, жил в Венеции, скитался по Руси. В своих «прелестных листах» прельщал простой люд, призывал побивать лихих бояр, дворян, купцов, забирать нажитые чужим трудом богатства и земли. Осенью 1606 года Болотников смерчем ворвался в Москву. Пользуясь предательством тульских и рязанских дворян, поначалу примкнувших было к Болотникову, но потом в страхе перед возмущенным народом переметнувшихся на сторону бояр, воевода Скопин-Шуйский разбил болотниковское войско. В октябре 1607 года Болотников был добит в Туле. Сам он был взят в полон, ослеплен и утоплен вместе с лже-Горчаковым. Никогда еще не видала Русь стольких казненных…
Мучительно трудно, а быть может, и просто невозможно было писать по-русски за сто — сто двадцать лет до Ломоносова, положившего начало русской словесности своими стихами, за двести — двести двадцать лет до появления прозы Пушкина. И все-таки не на пустыре поднимались первые побеги русской словесности. Муки творчества осложнялись родовыми муками языка с еще не сложившимися грамматикой и правописанием, — русская словесность еще, увы, не продрала глаза. Все было темно и нескладно. Лермонт тщился написать очерк русской истории, но не судила судьба ему закончить свой труд. Такой очерк, первую русскую учебную книгу истории Руси, создал архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель. Называлась она «Синопсис». Поначалу Лермонт верил, что есть, существует русский литературный язык, и ревностно учился ему, памятуя русскую пословицу: не учась грамоте, в попы не ставят. Но потом он с превеликим огорчением вынужден был признать: нет еще русской словесности, нет! «Не у прииде час!» И это в век Шекспира, через четыре с половиной столетия после Томаса Лермонта!
Крис Галловей всячески поощрял Лермонта-летописца:
— Мир совершенно не знает Руси, считает русских варварами, язычниками, даже медведями. Подумай только, в двадцатом году один шведский ученый защитил ученую диссертацию на тему «Христиане ли Московиты?» Само собой разумеется, что он отвечал на свой вопрос отрицательно.
Крис смог через капеллана аглицкого посольства и других своих друзей и знакомых в аглицкой колонии в Москве раздобыть для потомка великого Томаса Рифмотворца немало прелюбопытнейших иноземческих свидетельств, проливающих свет на события недавней русской истории. Что и говорить, в свидетельствах этих было немало выдумок, пересказов слухов и сплетен, чего всегда вдоволь хватает в любых посольских репортах и реляциях, но были воистину бесценные бумаги. Лермонт ажно затрясся, когда Крис, лукаво подмигивая, вручил ему однажды вечером в домике у Николы Явленного копию письма Царя Василия Шуйского королю Англии и Шкотии Иакову, автору демонологии.
Шуйский писал это послание вскоре после низложения первого названого Димитрия, сообщая, что Лжедимитрий истинно является Гришкой сыном Богдана Отрепьевым. Спасаясь от грехов и злодейств своих, постригся в монахи, но занялся блудом и чернокнижием. Опасаясь гнева Митрополита, бежал изменнически в Литву, за что против него возбудили сыскное изменное дело. На чужбине по коварному вразумлению Сигизмунда III, окаянного паписта, короля Польши, объявил себя Demetrius Ouglitts — Димитрием Угличским, о чем и лгал безбожно в прелестных письмах. Против такого предерзновения Царь Борис и патриарх всея Руси слали много эпистолей королю Сигизмунду III, но король токмо сильнее вооружал самозванца и больше давал ему польского золота и наконец натравил его на Московское царство, подкрепив палладином Сандомирским и царевичем Крынским. И не было самозванцу счастья, да несчастье помогло: слух о смерти Бориса, кой отравился, привел русское войско в великое замешательство, и предалось оно, отъехало почти целиком к Гришке.
Гришка же, уверовав в престол московский, оженился на дочери палладина Сандомирского и, понуждаемый иезуитами в свите своей, изготовился насадить на Руси богопротивную веру римскую, угрожая всем несогласным лютой смертью. Повинуясь воле народной, он, Василий Шуйский, поддержанный всей знатью и с благословения святой православной церкви, собрал силы великие и разбил в 1606 году самозванца и взял у него собственноручные бумаги, где содержались все его козни злодейские, а также письма от папы Римского и кардиналов его, о том же толкующие.
В этом письме Василий Шуйский, уже воцарившись на московском троне, не сообщал, как был убит Лжедимитрий. В народе уверяли, что ему срубил голову его писарь, ставший во главе заговора в Кремле. Случилось это на рассвете шестого дня после свадьбы Гришки. (Лермонт завязал узелок на память: самое опасное время в Кремле — предутренний час, вот когда надобно обходить караул.) С ним был убит и годуновский воевода Петр Федорович Басманов, перекинувшийся к нему под Кромами. Почти все москвичи помнили, что уже утром их голые изувеченные тела лежали на лобном месте, причем срамота была прикрыта рогожей.
Невезучему Царю Шуйскому пришлось защищать царство и от второго названого Димитрия. Дважды осаждали восставшие Москву: в 1608-м и 1610 году.
Этот второй Лжедимитрий был так ловок, что его пустила на свое ложе вдова первого Лжедимитрия, хотя он ни капли не был похож на Гришку Отрепьева.
Тем временем, стремясь избежать войны с сильнейшим противником и «унять христианскую кровь и жить в тишине и покое», Шеин вел переписку с Андреем Сапегой, оршинским старостой, и Александром Гонсевским, старостой Белижа, улаживая бесконечные пограничные споры. Одновременно он умело вел напряженную разведку Пограничья, засылал в Оршу, Велиж, Могилев, даже в Варшаву своих соглядатаев. Один из его верных помощников, Юрий Буланин, направленный с листом Шеина к пану Гонсевскому, выведал в Велиже, что король Жигимонт собирается отправить из Вильны королевича Владислава на Москву будто бы с посольством к Царю Василию Шуйскому, а на Москве королевич свергнет Царя и сядет на его место, на Московское государство. Гонсевский засылает своих лазутчиков в Смоленск, склоняя смолян к измене и передаче Смоленска польскому королю.
Разведкой у Шеина ведал товарищ воеводы, молодой, да бывалый князь Горчаков. Вдвоем Шеин и Горчаков доносили Царю, что лазутчики-крестьяне, русские и белорусы, из Орши, Мстиславля, Дубровны, Копыси и их «сходники», то есть платные и тайные подручные, которые сходились с лазутчиками в условленных местах и передавали им добытые сведения о польско-литовских делах и замыслах против Смоленска и Москвы, сообщили тревожные вести о сборе по всей Речи Посполитой денег для похода на Москву.
В 1609 году Симон Гонсевский, брат велижского старосты, вторгся в пограничные смоленские волости, Шучейскую и Порецкую, вместе с именитыми польскими панами, ворачи и государевыми изменниками Хрипуновыми. Ляхи и предатели жгли деревни, грабили и убивали крестьян, объявили, что захваченные области отведены к велижскому рубежу. Вновь Шеин слал Александру Гонсевскому листы, жалуясь на нарушение перемирных условий и требуя, чтобы тот вывел своих людей из Московского государства.
В ответном листе велижский староста писал:
«Ты хочешь, чтоб польских и литовских людей вывести из Москвы, а я спрошу у тебя: каким способом? Если грамотами королевскими, то таковые уже были им посланы; король хотел послать еще гонца и приказал мне переговорить с тобою о том и обо всем добром деле на съезде. И вы сами от того бегаете, держась своего московского обычая: брат брату, отец сыну, сын отцу не верите; и тот обычай привел Московское царство к теперешней великой погибели. А потому я к тебе о том пишу, что сам знаю все московские обычаи: в нашем народе не так…
…Зная, что у вас от ваших Государей и от народа нет такой доверенности, какая есть у нас, и что ты сам по себе по обычаю московскому не можешь выслать на съезд со мной, я писал тебе, чтобы ты объявил об этом архиепископу (смоленскому) и другим смольнянам и с их ведома устроил съезд; но и это не помогло. Припоминая себе дела московские, к которым, будучи в Москве, пригляделся и прислушался, также и нынешнее ваше поведение видя, я дивлюсь тому: что ни делаете, все только на большее кровопролитие и пагубу своего государства…»
Этот и другие листы из переписки Шеина и Горчакова с Гонсевским и Сапегой Лермонт тщательнейшим образом переписал для своей истории. Среди донесений Царю Василию Шуйскому были письма лета 1609 года о покорности Царю жителей Торопца, передавшихся ранее Тушинскому вору, и о разгроме ляхов под Дорогобужем войском князя Барятинского и Ададурова и взятии им Вязьмы.
Шеин как никто другой знал польские дела, сидя в Смоленске под боком у Польши и засылая в Речь Посполитую лазутчиков. Особенно ценные вести постоянно присылал ему некий Ян Войтехов, человек вельми мудрый, понимавший, что король не только желает посадить своего сына Владислава на московский престол, но и покорить для польской короны и для римской церкви всю Московию. Собирал Войтехов вести и о «крутиголове Димитрии», который надеялся добыть Москву весною 1609 года. Войтехов, подкупленный Шеиным, не стеснялся напомнить смоленскому воеводе о мзде за свои вести. «Пришлите мне, — писал он по-польски, — бобра доброго черного самородного…»
Бывало, что Войтехов слал и ложные вести, а нарочно или не нарочно, сказать трудно. Так, отписал он, будто Мнишек именем Димитрия, зятя своего, присягнул отдать короне Смоленск и Северскую землю и тем удержал поляков от войны и желания посадить Владислава на царство Московское.
Когда до Шеина дошло, что Царь Василий Шуйский заключил со свейским королем Карлом IX вечный союз против Польши, он понял, что ему надо ждать в Смоленске скорого прибытия короля Польши и Великого князя Литовского Жигимонта III к воротам Смоленска. Из Варшавы ему доносил пан Ян Войтехов, что Жигимонта зовут в Москву бояре, перепуганные Болотниковым и Тушинским вором, поднявшими против них всю чернь, почти все простонародье. Шеина несказанно бесила вероломная трусость бояр, готовых помочь Жигимонту покорить Московское государство из смертного страха перед простым народом, доведенным ими же до отчаяния и бунта.
В июле лазутчики донесли Шеину, что велижский староста Александр Гонсевский приводил жителей пограничных смоленских волостей к присяге Жигимонту и что Гонсевский идет с нарядом на Смоленск и сам король туда нагрянет в августе.
Гетман Станислав Жолкевский отговаривал короля в Минске от похода на ключ-город, считая Смоленск неприступной твердыней, но в Минск примчался гонец от Гонсевского: Смоленск остался беззащитен, поскольку Шеин отослал почти всех своих ратников Скопину! Король немедля выступил в поход. В Орше он встретился с канцлером своим Львом Сапегою, и тот тоже убеждал его спешить походом: Смоленск, словно яблочко спелое, сам в руки упадет. 16 сентября 1609 года лазутчики Шеина и Горчакова предупредили воевод о походе на Смоленск войска во главе с королем Жигимонтом.
Сапега пришел первым под Смоленск 19 сентября. 21 сентября пожаловал и сам Жигимонт. Теперь под стенами крепости стояли пять тысяч польской пехоты, двенадцать тысяч коронной конницы, десять тысяч запорожских казаков, тысяч до двух литовских татар.
Началась осада Смоленска первоклассным войском честолюбивого и воинственного короля польского Сигизмунда III, мнившего себя великим полководцем. Ударную силу королевского войска составили двенадцать сотен польско-литовских рыцарей — цвет шляхетства Речи Посполитой, большой отряд немецких ландскнехтов-копейщиков, гроза пехоты, быстрая как вихрь конница из литовских татар, десять тысяч не знавших страха вольных казаков, присланных Запорожской Сечью, во главе с кошевым атаманом. И все это отборнейшее войско почти два года беспомощно топталось под неприступными стенами Смоленской крепости.
В начале осады город Смоленск насчитывал около 80000 жителей в 8000 домов.
Благодаря заботам Шеина крепость имела достаточно заряда и припасов для длительной осады. Не хватало, однако, людей, поскольку по указу Царя Шеину пришлось отправить трехтысячный отряд из крепости в помощь Скопину-Шуйскому. Число защитников крепости Шеин пополнил за счет посадских и слободских людей, сжегших свои жилища на правом берегу Днепра и перебравшихся в крепость со своими семьями. В середине августа, предвидя скорый приход Жигимонта, Шеин собрал даточных людей со Смоленского уезда. 28 августа Шеин объявил о таком распределении начальных ратных людей и смоленских обывателей: 39 дворян и детей боярских и 48 посадских торговых людей будут разбиты по три-четыре человека на каждый отдел укреплений. 1862 человека из черных сотен и слобожан были расписаны по нескольку десятков на каждый отдел стены, по нескольку человек при каждой пушке в помощь пушкарям и зачинщикам, для содержания ночных караулов. Наскреб воевода войско почти в восемь тысяч ратников, по вооружению гораздо слабее того, что отправил он к Скопину-Шуйскому. А у Жигимонта сил было в несколько раз больше со множеством иноземных офицеров.
Девятнадцатого сентября Жигимонт отправил Шеину универсал с такими словами: по смерти Царя Феодора, последнего Рюриковича, стали московскими Государями не по Божию соизволению и не царского рода людишки, а собственною волею, силой, хитростию и обманом, и брат встал на брата, приятель на приятеля, а посему большие, меньшие и средние люди Московского Государства и самой Москвы, видя такую гибель, били челом ему, Сигизмунду, чтоб он, яко Царь христианский и родич наиближайший Московского государства, вспомнил свойство и родство свое с природными, старинными Государями московскими и сжалился над гибнущим государством их. А посему идет он с большим войском не для того, чтобы проливать кровь людскую, а дабы оборонять русских людей и защищать православную русскую веру. Так пусть же смоляне встретят его с хлебом и с солью, в противном же случае его королевское войско не пощадит никого.
Король, введенный в заблуждение Сапегой и Гонсевским, ждал, что смоляне во главе с Шеиным, отправившим лучшую часть своего войска Скопину-Шуйскому, принесут ему ключи от города-крепости, откроют ворота, встретят с хлебом-солью. Взамен за капитуляцию король обещал смолянам широкие права и монаршие милости. А коль не будет сдачи, постигнет город ужасное разорение.
Но Шеин, Горчаков и архиепископ Сергий от имени всех смолян ответили ему так:
«Мы в храме Богоматери дали обет не изменять Государю нашему, Василию Иоанновичу, а тебе, литовскому королю, и твоим панам не поклониться».
Шеин в те дни только и твердил смолянам:
— Нами, братья, положен обет в дому у Пречистой Богородицы: за православную веру, за святые церкви, за Царя и за царское крестное целование всем помереть!..
Жигимонту удалось прельстить многих крестьян уезда обещанием вольности. От боярского Царя Василия Шуйского люд крестьянский не ждал никакого добра и в осаду не пошел. Зато жены и дети, от коих Шеину было мало толку, только рты лишние, все пошли в крепость из сожженных посадов, и воевода не смел закрыть им ворота, хотя это были и лишние рты.
Шеин слал Царю челобитные в Москву, моля о помощи, а Царь отвечал им милостивыми грамотами. Королю Шеин отписал, что смоляне скорее умертвят своих жен, чем отдадут их в руки ляхов.
Воевода знал, что семейства служилых смоленских людей, посланных им Скопину, будут всячески противиться сдаче города королю, что разлучило бы их со своими кормильцами, веря, что их отцы, мужья, сыновья сделают все, чтобы спасти их.
Даже купечество смоленское было на стороне Шеина. И по очень простой причине: не то чтобы русским купцам вовсе чуждо было благо отечества, но мошна для многих из них была милее, а Царю Василию Шуйскому они дали взаймы огромные деньги, и сдача Жигимонту означала бы, что плакали их денежки, многим грозило бы разорение. Что ж, не все купцы русские были Миниными, не все ратники — Пожарскими.
Разгневанный Жигимонт решил добыть Смоленск оружием. Он обложил крепость, расположив главные силы в укрепленном лагере на левом берегу Днепра. Канцлер Лев Сапега, гетман Жолкевский и прочие ясновельможные паны расположились в ближайших от Смоленска монастырях. Началась пушечная дуэль. Десять дней ушло на подводку траншей силами наемной немецкой пехоты к стенам крепости. Король повелел взять город ночным приступом.
Перед первым приступом короля к Смоленску 12 октября, когда построены уже были ляхами шанцы на противоположном берегу Днепра, неслыханный подвиг совершила шестерка стрельцов-храбрецов воеводы Шеина. Подвиг сей стал достоянием русской ратной истории. Стрельцы из крепости средь бела дня переплыли в лодке через Днепр, высадились под носом у растерявшегося врага на левом берегу, захватили знамя с белым орлом на шанцах и под огнем опомнившихся поляков, под градом ядер, не потеряв ни одного человека, вернулись в крепость!
Приступ, казалось, начался удачно. Шотландцы Питера Лермонта, устроив две сапы, взорвали «медяные болваны с зельем» под дубовыми Копытецкими и Аврамьевскими воротами, окованными железом. Эти мощные петарды сумели пробить лишь узкие проломы. Под сокрушительным огнем русских пушкарей в крепость ворвалась полусотня отчаянных смельчаков во главе с Питером Лермонтом, но они не смогли закрепиться там. После яростного рукопашного боя защитники крепости выбили уцелевших шкотов и ляхов и наскоро заделали проломы камнями и валунами, завалили песком, а затем укрепили еще палисадами и установили круглосуточную стражу.
Две ночи подряд бросал Жигимонт своих воинов на крепость то с одной стороны, то с другой. Оба приступа смоляне отразили с большими потерями для неприятеля.
Новые подкопы не удавались: строители крепости снабдили ее хитроумными подземными «слухами», засекавшими любые саперные работы.
Шеин и князь Горчаков в конце сентября отправили гонца по тайному подземному ходу с выходом прямо в Днепр под Москву, к смоленским дворянам, детям боярским и служилым людям, заклиная их просить Царя Василия Шуйского о скорой помощи Смоленску. В новом донесении Царю они писали, что ляхи потавили на холмах за рекою Чурилнею огромные туры и бьют по Богословской улице. Но Царь сам изнемогал в борьбе с ляхами и новым самозванцем — Тушинским вором.
Из Москвы гонцы привозили Шеину вести, что стольный град терпит голод. Скопин-Шуйский медлит в Александровской слободе, дожидаясь подкреплений, князь Димитрий Михайлович Пожарский расчищает Владимирскую дорогу от разбойника Садькова, казаки атамана Горохового предательски сдали Красное село тушинцам, Сапега сидел под Троице-Сергиевым монастырем.
Из лагеря Тушинского вора Шеину донесли, что гетман князь Роман Рожинский, полковник польский, господин второго названого Димитрия, послал к королю своих послов, чтобы просить короля убраться от Смоленска восвояси и не посягать на завоевание им и Тушинским вором награды и выгоды в Московии.
В польской «Истории ложного Димитрия» Лермонт нашел описание такого случая под 3-м и 4 ноября 1609 года: «Один русский стрелец выбежал из крепости через отверстие и передался нам. Он говорит, что в крепости большое бедствие и дороговизна: пуд соли стоит рубль; четверть ржи — рубль; сена для лошадей не имеют, воды недостаточно. Вылазки делают только для того, чтобы выслать кого-либо к Шуйскому, потому что уже 4 недели ни от них никто не ходил к нему, ни от него к ним… Ночью на среду (4 ноября) брошены были в крепость из мортир каленые ядра, и шесть из них упали и зажгли один дом, так что совсем показалось было пламя, но множество народу бросилось и потушило огонь, не обошлось, однако, без потери в людях».
Гетман Жолкевский, отправленный королем на Москву, вступил в русскую столицу. Его соперник брацлавский воевода Ян Потоцкий, став главным начальником после короля, из кожи вон лез, чтобы взять Смоленск. Король придал ему пятнадцать тысяч малоросских казаков из Северной земли и из крепости Белой во главе с Александром Гонсевским. Потоцкий, собрав все свои пушки, повел сосредоточенный огонь по средней бойнице крепостной стены. Но когда часть стены обрушилась, взликовавшие было поляки увидели, что за широким проломом возвышался старый земляной вал вышиной в дюжину локтей, построенной еще в старинные времена, когда крепость принадлежала Речи Посполитой, так что раздосадованному Потоцкому пришлось отменить приступ.
Как раз в это время до смолян дошла трагическая весть о разгроме ляхами русского войска под началом бездарного князя Димитрия Иоанновича Шуйского, брата Царя.
Из аглицких источников Лермонт узнал, что пятидесятилетний Василий Иванович Шуйский, родовитый, умный, холостой, пользовался широкой негласной поддержкой не только немецкой колонии в Москве, но и прямой подмогой иноземных королевств против ляхов и самозванца. Англияне тайно снабдили его пушечным зельем и амуницией. Войско Шуйского пополнили две тысячи шкотов, англиян и французов да вдобавок несколько сотен свеев из войска короля Швеции. Поляки, поддержанные черным русским людом, разгромили войско Шуйского. Первыми по обыкновению дезертировали французы, не терпевшие никаких лишений, а за ними и англияне со шкотами перекинулись на сторону ляхов и стали служить воеводе Жолкевскому против Шуйского. Гетман Жолкевский осадил Москву с сорока тысячами крепкого войска. С другой стороны столицу осаждал Второй названый Димитрий, он же Тушинский вор, со своим русским войском. Ляхи рассорились с Лжедимитрием, решив, что лучше будет, ежели на Москве сядет Царем королевич Владислав.
Бунт против Царя Василия Шуйского возглавил Захарий Ляпунов, ненавистник опричных бояр, битый батожьем при всех людях по указу Царя Бориса Годунова, искусный воевода, бесстрашный и деятельный дворянин. Бесстрашно обратился он к Царю: «Долго ли из-за тебя будет литься кровь христианская? Земля опустела, ничего доброго не делается в твое правление. Сжалься над гибелью нашей, положи посох царский, а ты уже о себе как-нибудь промыслишь».
Немудрено, что Шуйский растерялся и опустил руки. Ища спасения, он постригся в монахи, отрекшись от короны. Бояре сдали его вместе с Москвой, Кремлем, короной и троном заклятым врагам Руси — ляхам. Царем они, предавая святую Русь, провозгласили королевича Владислава. Москва присягнула польскому королевичу. Теперь Жолкевский смог повернуть все свои силы против Counterfeit Demetrius, как писали англияне, — против Лжедимитрия. Претендент на московский престол был убит при попытке к бегству разочаровавшимся в нем татарином в лагере под Тушином.
Тем временем монаха, бывшего в миру Царем Василием Московским, ляхи, пленив, отправили в Варшаву, где он вскоре и помер, но перед его отправкой они собрали якобы для его проводов цвет русской знати и вероломно истребили его, что, понятно, заслужило им худую славу. Видя кругом ненависть и озлобление, ляхи начали готовиться к длительной осаде в Кремле. В народе ходили слухи, что они вознамерились отменить православную веру и ввести католичество.
Рожинский держал совет с русскими тушинцами; с нареченным патриархом Филаретом Никитичем, атаманом донских казаков Заруцким, боярином Михаилом Глебовичем Салтыковым-Морозовым, с людьми думными и придворными. Они были готовы идти под руку короля, добиваясь лишь обещания, что Жигимонт пощадит их православную веру. На этом Филарет со товарищи готов был целовать крест Жигимонту. В самом конце января под Смоленск они отправили послами Салтыкова, князей Рубец-Мосальского и Хворостинина с дьяками. После переговоров с королем 4 февраля, на виду у не покоренной Смоленской крепости, это позорное посольство подписало грамоту о венчании на царство в Москве от имени Святейшего патриарха Филарета королевича Владислава!
Шеина едва не хватил удар, когда он узнал об условиях, подписанных московскими князьями-боярами с духовенством. Главным для князей-бояр было, что король обещал не трогать их прав и имений и не понижать в чинах, а холопей, невольников господских, оставить в прежнем положении, ибо вольности король им давать не будет!
И вскоре пришло известие об свержении с престола в июле 1610 года русского Царя и о возведении в августе на московский трон врага земли русской польского королевича Владислава. Владислав Ваза — сын ненавистного Жигимонта — Царь Московский и всея Руси! Так решил гетман Жолкевский вкупе с «семибоярщиной» — семью боярами во временном московском правительстве, правительстве предателей, продавших родину ради сохранения своих боярских прав и боярского состояния! Бояре впустили злейших врагов Руссии в столицу!
Смолян обуяло такое черное отчаяние, какого не знали на Руси со времени покорения ее татаро-монголами.
— Ничего! — утешал Шеин рыдавшего архиепископа Сергия. — Это еще не конец света! Конец света назначен, как говорят ученые люди, на 1666 год!
Шеин собрал совет. «Что будем делать?» — спросил он детей боярских, дворян, посадских людей, слобожан, крестьян. Плача, князь Горчаков и архиепископ Смоленской блаженнейший Сергий сказали, что сидеть дальше в Смоленске нет никакой возможности, что следовать надобно договору бояр с Жолкевским, против силы-де не попрешь, хоть и противно это русскому сердцу, да надо пойти за временным правительством и целовать крест Царю Владиславу. Другого выхода никто не видел. Ведь Смоленск только потому и держался так долго и стойко, что ждал от Москвы, как манны небесной, избавления, а Московские князья-бояре изменнически сдались полякам.
Совет Шеин держал в соборе Пресвятой Богоматери. В узкие бойницы-окна едва прокрадывался зыбкий вечерний свет, немногие свечи не в силах были разогнать сгущающийся мрак, их огоньки скупо отражались в золотых окладах древних икон, приметно дрожа от грохота пушечной пальбы, — Потоцкий, готовясь к новому приступу, вел бешеный огонь по башням и стенам Смоленска. От непрестанной бомбардировки тряслась двухсаженная каменная толща соборных стен. Крепостные пушки по приказу Шеина молчали, берегли заряд для отражения приступа.
Верный сын Руссии, Михаил Шеин отказался последовать примеру изменников родине и сдать врагу ключ-город Смоленск, хотя многие дворяне настоятельно советовали ему сделать это. Теперь он опирался на самый надежный народ — на посадских людей, на простых мещан, крестьян-ополченцев.
И этот приступ Потоцкого был отражен с превеликими для него потерями. Шеин бросался в самую гущу боя. Казалось, он искал смерти, не желая пережить позор, который навлекли на Москву, на всю Русь продажные бояре. Но, поняв это, он вышел из боя, отирая полой кафтана окровавленный меч. Нет, не имел он права сложить голову в бою, — он в ответе за Смоленск, за его защитников, за их семьи, их детей. Прочь, прочь черные мысли о самоубийстве! Не для него самый легкий и малодушный выход.
После приступа с тяжелым сердцем поехал он и князь Горчаков на съезд с Потоцким и Сапегой. Как повернется у него язык, чтобы объявить о сдаче Смоленска!
А принял его в укрепленном польском лагере на левом берегу не канцлер и не главный воевода, а сам король! Жигимонта распирало от торжествующей гордыни, от виктории польского оружия в Москве. Бояре Москвы сдались королевичу, сдастся и упрямец Шеин ему, королю. И виктория над Смоленском, скажет история, далась Речи Посполитой труднее, чем над московскими боярами.
— Итак, ты готов сдаться мне? — спросил король Шеина.
Ни король со своей свитой, ни товарищи Шеина во главе с лихим князем Горчаковым не ожидали такого ответа, какой дал королю главный смоленский воевода Михайло Борисович Шеин. Он долго медлил, вглядываясь в лица врагов, измученных после провала ночного приступа, после тяжелой длившейся столько месяцев осады.
— Мы готовы были выйти на имя королевича Владислава, — ответил от королю Жигимонту, — поелику присягнуло ему как Царю Московскому и всея Руси временно наше правительство, но королю польскому мы вовсе не сдадимся!
Жигимонт отпрянул, словно получив пощечину. Взрыв негодования потряс королевский шатер. Князь Горчаков, сверкая глазами, с трепетом и восторгом уставился на Шеина, а главный воевода, переждав ляшскую бурю, возвысив голос, добавил:
— Таков мой последний ответ до приезда великих московских послов!
Кто-то из ляхов ринулся к Шеину, блеснули обнаженные корды, но король, канцлер и главный воевода удержали пылких польских рыцарей от бесчестной расправы.
— Пся крев! — ругался король. — Этот Шеин, эта белая ворона среди трусливых и черных душой московских бояр, лишает меня не только Смоленска, этого ключа-города, он не дает мне вступить в Москву!
Гонцы привозили такие слухи из Москвы, что у Шеина уши вяли. Казалось, Смута вконец погубит Руссию. Конечно, Шеин не мог бы пойти по пути князя Ивана Димитриевича Хворостинина, астраханского воеводы, изменившего не только Царю и боярам, но и служилому дворянству и возглавившего мятеж астраханцев, донских и терских казаков, выдвинувших своего лжецаревича, темного человека, назвавшегося небывалым сыном Царя Феодора Ивановича Петром. Хворостинин укрепился в Астрахани, перерезал дворян, изгнал купцов — целых полторы тысячи — и мужественно отражал натиск войска, посланного против него Царем Василием IV Шуйским во главе с Феодором Ивановичем Шереметевым, и орды ногайских татар под предводительством князя Иштерека. Потерпев поражение в неравной борьбе, преданный казацкими головами, Хворостинин ушел к «Северскому вору» — таково было второе прозвание Димитрия.
Больше всего бесило Шеина поведение бояр, среди коих он особенно не терпел Феодора Ивановича Шереметева. Одним из первых перекинулся Шереметев к мнимому царевичу Димитрию, по милости самозванца получил сан боярина и с тех пор быстро двинулся вперед. После падения Царя Василия Шуйского Шереметев, правда, держал сторону патриарха Гермогена и князя Владимира Тимофеевича Долгорукова, желавших посадить на престол русского царя — князя Василия Васильевича Голицына или желторотого Мишу Романова, сродника Шереметева — родная сестра его, старица Царица Леонида, постригшаяся в Новодевичьем монастыре, в миру была замужем за царевичем Иваном Ивановичем, сыном первой жены Царя Иоанна Грозного Анастасии Романовой, родной тетки Феодора Никитича Романова, будущего патриарха Филарета. Но потом, видя, что перевес на стороне тех бояр, которые стоят за польского королевича Владислава, недолго думая переметнулся на их сторону и вошел в Боярскую Думу, в которой было тогда всего семь человек во главе с неумным князем Феодором Ивановичем и которая впредь до созыва земского собора правила всем государством. В Думе Шереметев быстро сделался самым влиятельным человеком, правя Москвой из-за необъятной спины князя Мстиславского. Забыв о Мише Романове, он вел с думными боярами 5 августа 1610 года переговоры с гетманом Жолкевским об избрании на русский престол польского королевича Владислава Жигимонтовича, а 14 августа целовал ему крест как Царю всея Руси.
Великие московские послы прибыли в октябре 1610 года под Смоленск. От бояр главным послом был князь Василий Васильевич Голицын, от духовенства — митрополит Филарет. С ними прибыли смоленские дворяне и дети боярские, служившие Царю Василию Шуйскому. Бояре и архиереи нижайше и всеподданнейше просили Его Величество Короля Польши и Швеции Сигизмунда III отпустить на московский престол Его Королевское Высочество Владислава. Шеину оставалось лишь умыть руки. На переговорах с великими московскими послами Сапега и Потоцкий объявили монаршую волю: Его Величество намерены прежде всего утишить смятенное государство Московское и занять Смоленск, будто бы преклонный к Лжедимитрию.
Вот доподлинный ответ московских послов:
«Смоленск не имеет нужды в воинах иноземных, оказав столько верности во времена самые бедственные, столько доблести в защите против вас, изменить ли чести ныне, чтобы служить бродяге? Ручаемся вам душами за боярина Шеина и граждан: они искренно, вместе со всем государством присягнут Владиславу».
Кроме последних его слов, такой ответ великих послов был по сердцу Шеину, а присягать Владиславу все же надо было, раз велело ему сделать так временное правительство в лице его высших представителей, хоть и душу у него воротило и от самого правительства, и от его повеления. Шеину было совсем одиноко: не к кому было повернуться за советом, и в истории русской не находил он поучительных для себя примеров. Похоже было, что страна, едва передохнув после татаро-монгольского засилья, по боярскому велению, по митрополичьему хотению напяливала на себя ныне польско-литовское ярмо. Александр Невский, вспомнилось, умел с татарами ладить и немцев бить…
Шереметев прислал с Голицыным челобитную канцлеру Сапеге, где называл себя холопом Царя Владислава Жигимонтовича и хлопотал о возвращении ему рязанской вотчины села Песочни. И Жигимонт, веря в преданность Шереметева польскому орлу, вернул ему эту вотчину, распоряжаясь Русской землей, как своей.
Уже тогда Шеин твердо заявил Голицыну и Филарету, что Жигимонт желает получить Московию не для сына, а для себя самого и что русским такая распря между королем и королевичем только на руку. Масла в огонь подлил гетман Жолкевский, — он прибыл к королю из Москвы, чтобы просить короля не отнимать шапку Мономаха у королевича, что, разумеется, сильно разгневало вспыльчивого Жигимонта. Говорили, что Шереметев умолял Жолкевского остаться на Москве, дабы удержать своих поляков от грабительства. Но Жолкевский уехал, оставив за главного начальника Гонсевского. Шеина это обрадовало: он знал Гонсевского как хищного вора и не сомневался, что крутой нрав и алчность этого ясновельможного пана покончат с долготерпением москвичей. Так оно и вышло.
Сапега и Потоцкий потребовали, чтобы Смоленск присягнул сразу и Жигимонту, и Владиславу и открыл ворота армии Речи Посполитой.
Голицын и Филарет повернулись за советом к смоленским дворянам и детям боярским в своей свите. Те скрепя сердце отвечали воистину достойно, по-русски, по-смоленски:
«Хотя наши матери и жены гибнут в Смоленске, а все-таки будьте тверды и не впускайте в Смоленск польских и литовских людей. Нам доподлинно известно, что если бы вы и решились впустить их, то смоленские сидельцы все равно вас не послушают».
Вдохновленные этим наказом, великие послы московские ответили отказом на требование королевских вельмож открыть польским и литовским ратникам смоленские ворота, присовокупив, что, сделай они это, быть им «ото всей земли в ненависти и проклятии».
Конечно, только благодаря железной решимости Шеина и нерушимой стойкости смолян распрямили плечи и подняли выше головы Голицын и Филарет, взяли твердый тон в разговоре с высшими советниками Жигимонта. Гоноровые вельможи, бесясь, стремились поставить москалей на колени: «Не Москва нашему Государю указывает, а Государь наш Москве указывает!» Паны и слышать не хотели о снятии осады, о прекращении военных действий на время переговоров.
Уже лег снег. По Днепру плыло сало, у берегов появилась ледяная закраина. Под шум пушечной пальбы саперы Питера Лермонта сумели подвести сапу под Грановитую башню Смоленского кремля и взорвать десятки бочек с порохом под ней и под стеной. Взрыв, грянувший 21 ноября 1610 года, обрушил и башню, и сажен десять городской стены. В проломы хлынули, горя отвагой, поляки и казаки, за ними в город ворвались, ярясь в тевтонском бешенстве, немцы-копейщики. Смоляне встретили их грудью, напали со всех сторон, выбили обратно. Трижды штурмовал враг крепость через пролом, и трижды выгонял его Шеин со своею смоленскою ратью. Каждый смолянин дрался за троих. Пример подавал Шеин.
Он приказал разобрать каменные дома и даже храмы Божии, чтобы заделать проломы в стенах и укрепить их. Этого разорения святых церквей ему так и не простило высшее духовенство, хотя архиепископ Сергий согласился с Шеиным, что камень святых храмов идет на святое дело.
В конце декабря, когда поляки готовились встретить Новый, 1611, год, а у русских кончался четвертый месяц года, к великим московским послам прибыли гонцы из Москвы с грамотами от бояр. У Голицына и Филарета разом опустились руки: бояре велели смолянам присягнуть Жигимонту и его сыну, королю и Царю. Паны ликовали. А Шеин с бесстрастным лицом долго и молча читал грамоты, и вдруг сощурились его глаза и улыбка тронула губы, шевельнула темный ус.
— Этим грамотам, — зычно и жестко провозгласил он, — верить нельзя. На них нет подписи патриарха Московского и всея Руси Гермогена, а без скрепы архипастыря нашей святой православной церкви грамоты эти нам не указ.
Было отчего сойти с ума горячему Потоцкому и ледяному Сапеге: да этот москаль насмехается над ними, над королем и всем королевством, отказываясь вопреки очевидной виктории польской над Московией признать эту необратимую победу! Только Шеин и мутит воду! Теперь он побудил и смолян, и послов отвергнуть грамоты Московской Боярской Думы! Жигимонт дал неслыханный нагоняй этой Думе, скрутил ее в бараний рог.
В январе думные бояре прислали королю Жигимонту грамоту, встревожившую поляков и обрадовавшую Шеина: московские бояре верноподданнейше извещали польского короля, что Рязань отложилась от Владислава и дворянин Прокопий Петрович Ляпунов собирает ополчение против поляков. Голицын и Филарет клеймили Ляпунова и его соратников как предателей и мятежников, считая Владислава законным Царем Московского государства. Они были убеждены, что войско польское легко и быстро добьется победы над русскими. Но Шеин рано понял, что Ляпунов — застрельщик земского освободительного движения, и так и заявил великим московским послам:
— Поднимается вся русская земля, — восклицал он, — и никакие Владиславы и Жигимонты не устоят перед русскою силой.
В конце февраля 1611 года Шеин и Горчаков читали такую грозную грамоту Думы, написанную Шереметевым:
«Вам бы, господа, однолично всякое упрямство оставя, общего нашего совету и грамот не ослушатися, и крест Государю королевичу Владиславу Жигимонтовичу целовати, литовских бы людей, по договору, в город пустити, чтоб вам тем своим упрямством королевского величества на больший гнев не воздвигнута и на себя конечного разорения не навести».
Бояре в этой своей позорной грамоте самого Шеина обвиняли в том, что он так затвердел, что не хочет видеть «государского добра» — доброты, значит, всемилостивейшего Жигимонта!
Теперь и послы отступились от Шеина: Москве надобно покориться. Такова воля боярства, правительства. Но Шеин ссылался по-прежнему на отсутствие в грамотах скрепы патриарха Гермогена. Бояре писали, что патриарх вельми болен, чуть не при смерти — он и в самом деле преставился на следующий год, но Шеин был непреклонен.
Эта небывалая непреклонность, поддержка, самоотверженно оказанная ему Горчаковым и другими смолянами, начальными и рядовыми, женщинами и отроками, поколебала короля, мнившего себя на вершине успеха. 15 марта предложил Сигизмунд III такие уступчивые статьи о сдаче ему Смоленска:
1) Страже у городских ворот быть пополам королевской и городской, одним ключам быть у воеводы, а другим у начальника польского отряда. 2) Король обещает не мстить гражданам за их сопротивление и грубости и без вины никого не ссылать. 3) Когда смоляне принесут повинную и исполнят все требуемое, тогда король снимет осаду, и город останется за Московским государством впредь до дальнейшего рассуждения. 4) Смоляне, передавшиеся прежде королю, не подчинены суду городскому, но ведаются польским начальством. 5) Смоляне обязаны заплатить королю все военные убытки, причиненные ему долгим их сопротивлением.
Тут князь Горчаков и архиепископ Сергий пришли к Шеину и, ликуя, поздравили его с победой, его личной победой и победой всех смолян над польско-литовским королем, известным по всей Европе своим необузданным гонором и честолюбием. Князь был уверен, что теперь уж, добившись столь почетных условий сдачи Смоленска, Шеин возрадуется неимоверно и сразу согласится на все статьи. Блаженнейший Сергий, однако, знавший Шеина еще с годуновских времен, воздерживался от чересчур радужных расчетов.
Шеин дважды прочитал все статьи, переданные ему Голицыным и Филаретом, почесал в раздумье бороду с первыми серебристыми нитями и рек, словно часами поразмышляв над каждой статьей:
— Наш ответ королю. Статья первая: воротным ключам быть токмо у городового смоленского воеводы. Статья третья: не только Смоленску, но и всему уезду Смоленскому остаться за Московским государством. Королю отступить от города в Польшу, очистив весь уезд, прежде чем мы откроем ворота Владиславу. Статья пятая: по бедности своей и разорению, учиненному нам ляхами, платить за убытки смоляне не могут и не будут.
Горчаков только руками развел, а блаженнейший Сергий возвел очи к небесам: помилуй, Господи, истинно русский нрав!
Но Господь, по всей видимости, отвернулся от народа русского. Пришла из Москвы совсем уже страшная весть: поляки по приказу Гонсевского сожгли всю Москву, кроме Кремля и Китай-города!
Шеин и послы следили за походом первого русского ополчения. На пути к Москве Прокопий Ляпунов и другие служилые люди, поднявшие знамя восстания, захватывали боярские вотчины — например, вотчину Шереметева в Песочке, — как это делали в 1606 году грозный Иван Болотников и лже-Горчаков, а в 1608-м Тушинский вор, или Второй названый Димитрий. Как писал Пимен, Прокопий Ляпунов, красивый, беззаветно отважный, «был всего московского воинства властитель и скакал по всем полкам всюду, аки лев рыкая».

