Подвиг
На бесконечной черной палубе все было по-прежнему. Халдеи с золотыми значками все так же усердно отводили от меня лица — только теперь они не встречали меня, а провожали. Наверняка это был древний восточный ритуал. Надо было спросить Аполло, не он ли случайно правил Вавилоном… Впрочем, это, наверное, было бы неучтивым намеком на его возраст.
Без Древнего Тела я не смогу попасть в Хартланд, думал я. Я не увижу Геру. Я больше… Я больше просто не буду собой.
Чего от меня хочет этот старый хрыч или хрычовка? Чтобы я разбился о дно первой же пропасти? Или чтобы я боялся даже подойти к ее краю? Впрочем, не надо усложнять. Может быть, он или она действительно ждет от меня подобающего вампиру подвига.
Но что это может быть?
Я поглядел в море. Дул ветер, волны загибались легкими белыми барашками, и я несколько секунд любовался бесконечным сине-белым простором — а потом по моей спине прошла дрожь ужаса. Мне почудилось — причем был момент, когда я увидел это совершенно отчетливо — что со всех сторон к кораблю Аполло плывут белые лица-маски, такие же, как плыли к лодке Озириса. Старательно защищают свой грим от капель воды — и точно так же не могут даже приблизиться к колдунам, нарисовавшим их лица. И покорно идут ко дну. Только теперь мне казалось, что они движутся к кораблю со всех уголков мира, заполняя собой океан — и когда-нибудь кто-то из них доплывет…
Но чернуху я отогнал. Уметь это обязан каждый вампир. Тот, кто не научился, долго не протянет.
Меня ждал тот же «Дассо», на котором я прилетел. Когда я подошел к его двери, халдей в черном комбинезоне склонился передо мной и, пряча глаза, протянул мне желтый конверт с большим черным знаком:
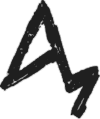
Мы были уже готовы к взлету — как только я уселся в кресло, начался разбег. Я успел заметить в окне стоящий на палубе серый военный самолет с двумя двигателями под крыльями — вроде того, на котором президент Буш садился на авианосец после падения Багдада. Но никаких опознавательных знаков на нем не было.
Мы взлетели и сразу легли в глубокий вираж. Через минуту корабль императора появился в иллюминаторе. Я попытался разглядеть на борту его название, и через несколько секунд различил тонкие белые буквы:
NEMO
Название изменилось. Мне стало страшно глядеть на черную ладью. Так страшно, что в моей голове что-то поддалось, и я вдруг перестал ее видеть. Совсем. Теперь в иллюминаторах было лишь море, покрытое однообразными волнами. Но я не испытал по поводу этой трансформации никакого шока — а только большое облегчение.
К счастью, на самолете был душ со всем необходимым. И чистая одежда — дубликат того костюма, в котором я прилетел. Но в первую очередь я состриг отвратительные загибающиеся ногти, очень затруднявшие любое действие руками. Сбривая бороду, я порезался — мне никогда раньше не приходилось иметь дела с такой длинной щетиной.
Бортпроводник в синем хитоне и легкой золотой маске уже не отворачивал от меня лицо — что вполне меня устраивало.
— Сколько времени я провел на корабле? — спросил я.
— Не могу знать, — ответил он.
Я понял, что это мог быть уже совсем другой проводник.
— Сейчас что — лето, осень?
— Зима, — сказал проводник.
— А какого года?
— Четыре тысячи триста девяносто шестого.
— Ты чего, шутишь со мной? — спросил я зло.
— От основания Вавилона, — сказал он, сгибаясь в испуганном поклоне.
Я почувствовал себя неловко. Проводник был обучен прислуживать высшей вампирической элите — и если он так говорил, значит, именно это летоисчисление считалось официальным в среде undead. Вокруг меня были прекрасно справляющиеся со своими обязанностями кадры. Неадекватен был я сам.
— Ну да, да, — сказал я. — Спасибо, мужик. Помнишь.
Халдей протянул мне флакон в виде двуглавой мыши.
— Вызывает Москва.
Я выдернул пробку и опрокинул флакон в рот. В нем, как всегда, была только одна капля.
Проводник попятился, открыл дверь для персонала ловким ударом зада — и исчез в пилотской кабине, словно боясь случайно услышать, о чем я буду говорить с пустотой.
Передо мной возник Энлиль Маратович в черном спортивном костюме. Он висел в своем хамлете. Было непонятно, видит он меня или нет — а сам я не хотел его тревожить. Несколько минут прошли в тишине. А потом он открыл глаза.
— Рама! Как дела?
— Как сажа бела, — ответил я угрюмо.
— Ага, — сказал он. — Я знал, что все будет хорошо. Извини, не предупредил, что могут быть… Задержки и осложнения. Сам понимаешь…
— Понимаю, — отозвался я, — как не понять. Мне теперь надо совершить какой-то подвиг. Что это? Зачем?
Энлиль Маратович развел руками.
— У бэтмана свои причуды, — сказал он. — Тут тебе никто не поможет. Должен придумать сам.
— А вы его совершали?
— Совершал. Только не спрашивай как.
— Почему?
— Ты не можешь это повторить за мной или другими. Если я расскажу про свой опыт, я только тебе помешаю. Задачу надо решить самостоятельно. В тебе должен проснуться дух вампира.
— Но как?
— Могу только намекнуть, — ответил Энлиль Маратович. — Тебя лишили Древнего Тела. Поставь себя в такие условия, чтобы оно оказалось тебе очень нужным. Но с крыши прыгать я бы на твоем месте не стал. Не факт, что сработает. Тут нужно другое…
— Что именно?
— Сделай самое искреннее, что можешь. Вырази всю боль своего сердца и всю его страсть. И еще… Надо презреть опасность и показать силу духа. Это должно быть опасно.
— А насколько?
— Ну не так, чтобы слишком. Мы все-таки вампиры, а не камикадзе.
— Можно конкретнее?
Энлиль Маратович покосился куда-то в сторону.
— Нельзя, — сказал он. — Думай.
— Полагаете, Аполло слушает?
— Вряд ли. Но помнить про такую возможность надо всегда…
Энлиль Маратович почувствовал, должно быть, что выглядит не слишком солидно, и прокашлялся.
— Ничего, крепись. Через это все прошли. Я имею в виду, кто вернулся.
— А что, были такие, кто не вернулся?
— Почему «были», — сказал Энлиль Маратович. — Они и сейчас есть. В некотором смысле. Корабль большой, сам видел… Да ты не бойся, Рама. Справишься. Только не затягивай с этим. Ты мне нужен внизу. Иштар опять нас вдвоем на ковер вызывает.
Я только вздохнул.
— Ладно, хватит об этом, — сказал Энлиль Маратович. — Тебе конверт дали?
— Дали, — ответил я.
— Открой.
— Прямо сейчас?
Энлиль Маратович кивнул.
Я взял желтый конверт, аккуратно, чтобы не повредить содержимого, оторвал его край — и вынул оттуда еще один конверт, поменьше. Он был густо покрыт бессмысленными черными закорючками — примерно как на банковских вкладышах с пин-кодом.
— Этот тоже.
Я задержал дыхание, готовясь к тому, что будущее вот-вот ворвется в мой мозг, разорвал второй конверт и вынул из него сложенную вдвое бумагу.
— Раскрой.
Бумага была покрыта клинописью. Если в этих вытянутых узких треугольниках, похожих на повернутые друг к другу наконечники стрел, и скрывался смысл, мне он был недоступен.
— Я ничего не понимаю, — сказал я.
— Зато я понимаю, — ответил Энлиль Маратович.
— Это на каком языке? — спросил я.
— На верхнерусском. Местами на английском. Просто записано нашим внутренним шифром. Чтобы случайные люди не поняли… Про мультикультурализм слышал? Вот это он и есть…
Я вспомнил рассказ Дракулы о человеке, раненном стрелой. Дракула был прав — какой там стрелой. Скорее армейским залпом. И вот я сам везу их домой. Целую тучу стрел…
— Хорошо, — сказал Энлиль Маратович. — На пять лет сразу прислали. Теперь имеется некоторая ясность…
Судя по его веселому лицу, циркуляр не содержал ничего особенно жуткого. Или наоборот, вдруг подумал я.
— Что там? — спросил я.
— Не все детали понятны… Выборы со свиньей… Вот что они хотят сказать? Неприятный сюрприз? Малосимпатичный кандидат? Или в смысле свинку взорвать?
— Чего-чего?
— Я вслух думаю, — сказал Энлиль Маратович. — Ты же сам знаешь, как все непросто. Ладно, прорвемся. В крайнем случае пьесу закажем. Опыт уже есть.
— А как в целом? — спросил я. — Какие горизонты?
— Самые обнадеживающие. Ветер истории, Рама, дует в наши паруса.
— В каком смысле?
— В прямом, — сказал Энлиль Маратович. — Я знаю, что тебе Аполло говорил. Про эту их частотную революцию. Что так, мол, гуманнее и баблоса больше. Баблоса больше, не спорю. Пока что… А вот гуманизм… Чтоб ты знал, наши партнеры уже не первый век Щит Родины ломают — и все под эту песню. А чего там у них гуманного, спрашивается? Человек, что ли, хорошо живет? Отпахал на трех работах, вечером поебался с соседом в жопу и спать. А там American Dream. И у нас хотят такое же сделать. Только не выйдет. Щит Родины им не сломать. Если, конечно, — он долго посмотрел мне в глаза, — какой-нибудь иуда изнутри им не поможет. Так что думай, Рама, думай — с кем ты и как…
— Мне сейчас не до этого, — сказал я тихо.
— А насчет баблоса не переживай, — словно не слыша меня, продолжал Энлиль Маратович. — Тут такой культурный разворот намечается, что мы на первое место по удоям выйдем. Китай и Америку обгоним. Колбасить будет всех. Подробности при встрече… Ты только с подвигом не затягивай, хорошо?
— Угу, — сказал я. — А как там протест? Организовали?
Энлиль Маратович заметно помрачнел.
— Уже проехали давно, — ответил он. — Теперь вот с коррупцией боремся. Халдеи, представляешь, все расчеты проебали. Все, какие могли. Я до сих пор поверить не могу, что такое возможно. В этой стране и конец света просрут. Не удивлюсь ни капли. Ты сейчас в Москву?
— В Москву, — сказал я.
— Если в ментовку случайно загремишь, ничего им не объясняй. Просто укуси какого-нибудь старшего мусора. Прямо зубами за шею. Или еще за что-нибудь. Только смотри, чтоб был не меньше полковника. Это теперь для халдеев внутренний код оповещения. Если кого из наших заберут. Чтоб не сидеть со всеми в обезьяннике.
Я почувствовал тревогу.
— Что там творится? Я же новостей черт знает сколько не читал!
— Да нормально, — сказал Энлиль Маратович. — Все под контролем. Собаки лайкают, а караван идет.
Мы на минуту замолчали. А потом, совершенно неожиданно для себя, я спросил:
— Скажите, кто на самом деле Софи?
Энлиль Маратович грустно улыбнулся.
— Это Аполло, Рама.
Я уже знал, что услышу эти слова. И все равно они бритвой полоснули меня по сердцу.
— Сам Аполло? Типа как в маске?
— Можно сказать и так, — ответил Энлиль Маратович. — Но это упрощение.
— Почему?
— Потому что Софи — это спящий Аполло. Она его сон.
— А какая разница?
— Очень большая. Когда Аполло становится Софи, он не помнит, что он Аполло. Он или она думает, что она Софи. Это как с Иштар. Когда она становится Герой, она действительно Гера.
— А почему мне про это никто не сказал?
— Это ваши дела с бэтманом, Рама. Никто в это не посмеет лезть. Когда речь идет о бэтмане, вампир отвечает за каждое слово и каждую мысль. Кому нужны лишние проблемы?
— Но если Аполло и есть Софи, зачем тогда она борется за освобождение человечества? Да еще с такой искренней силой? Почему она ненавидит самого Аполло?
— Нужна мудрость, чтобы это понять, — ответил Энлиль Маратович. — Если в здании Empire V есть трещина, Аполло узнает про это первым. Потому что найдет ее сам. Он действительно великий император.
— Значит, Софи меня обманывала с самого начала?
— Нет, Рама. Софи именно то, чем она тебе кажется. У нее чистое сердце. Она хочет освободить людей. Но у нее ничего не получается, и она все время плачет. То, что ей удается обнаружить — всегда лишь очередной тупик. Так оно и должно быть. Это значит, что наш Ампир стоит на надежном и непоколебимом фундаменте. Но если Софи найдет путь к свободе, по которому смогут пойти не единицы, способные понять Дракулу и Озириса — а миллионы, то ей… Ей придется проснуться. И вспомнить, кто она. А дальше действовать будут уже совсем другие силы.
— Софи не догадывается, что она на самом деле Аполло?
— Нет. Она понимает про коварство бэтмана все-все — кроме самого главного. Что она и есть бэтман. Софи не знает, кто она. Но ведь и мы этого про себя не знаем… Этого, если ты помнишь, не знает даже Великий Вампир. Это божественное, Рама. Не пытайся понять. Склонись и прими, как есть.
— Значит, я все это время… С бэтманом?
Энлиль Маратович засмеялся.
— Это как посмотреть. Вот, например, пол-Японии на хэнтай дрочит. С кем эти люди, так сказать, согрешают? С хэнтаем? С жирным лысым мужиком, который этот хэнтай рисует? Или с тем, кто рисует этого жирного лысого мужика и их самих?
— Понятно, — вздохнул я.
— Озирис тебе правильно говорил, — продолжал Энлиль Маратович. — Хочешь быть счастлив в любви — никогда про это не думай. Глядишь, и свидишься снова со своей Софи…
— Ее можно встретить в нашем мире?
Энлиль Маратович отрицательно покачал головой.
— Только в лимбо.
— Но ведь в замке Дракулы… Она там была, разве нет?
Энлиль Маратович только улыбнулся.
— А я… Я там был?
— Конечно. Только ты не вставал при этом из гроба. Ты что, до сих пор думаешь, тебя куда-то увезли в черном ящике, а потом в нем же привезли на место? Ты никуда вообще не уезжал. Просто тебе помогли заснуть крепче, чем обычно. Чтобы стать undead, надо на время умереть. Для этого и нужен гроб. Мы не эстеты, Рама, мы прагматики. Все посвящения, касающиеся лимбо, даются только в лимбо. Этот замок — учебный сон, который видят все undead.
На мои глаза навернулись слезы.
— Софи была первым, кого я там встретил, — прошептал я.
— Аполло встречает всех новых undead лично. Он не только властелин лимбо, он его страж.
— А кто тогда встретил телепузиков?
— Тоже бэтман, — сказал Энлиль Маратович. — Думаю, у них остались похожие воспоминания. Кроме, конечно, некоторых нюансов.
— А комар с ДНА Дракулы? Откуда я его привез?
— Софи уже говорила тебе, что это комар из лимбо. Она всегда говорит правду, Рама. Откуда берется этот комар, не понимает никто.
— Но зачем бэтману надо притворяться Софи?
Энлиль Маратович грустно улыбнулся.
— Наверно, — сказал он, — чтобы его было за что любить.
— А где я сейчас на самом деле? Там или здесь?
— Не знаю.
— Как не знаете?
— Так же как и ты, — сказал Энлиль Маратович. — Никто из нас этого не знает. Меня самого иногда на шугу пробивает. Да и бэтмана, думаю, тоже. На то мы и undead.
— Но как тогда жить? Когда непонятно, где это все на самом деле? И что это вообще такое?
— Как, как, — усмехнулся Энлиль Маратович. — Куй железо, пока не проснулся.
И его лицо погасло.
Следующие два часа ушли у меня на знакомство с накопившимися за много месяцев новостями — в которых я иногда узнавал кое-как продавленные в реальность халдейские чертежи. И это было так смешно, что от сердца у меня понемногу отлегло.
Мне вспомнились слова Аполло, что сумма всех новостей сообщает о непостоянстве мира. Сказано звонко, но скорей уж она сообщает о том, что в мире не меняется ничего. Ничего и никогда. Просто эта неизменность все время замаскирована под перемены. Я даже задумался ненадолго, как могла бы выглядеть суммарная ежегодная новость.
…презентация вагины-20XX
Какая она, новая вагина, вобравшая в себя ритм времени и мировые твиттер-тренды? Весь мир в эти минуты смотрит на экраны с ужасом и надеждой…
…Вот…
#ужебылоподсолнцем
Можно подумать, мы этого не знали без ваших хэштэгов, п@цаны. Еще три тысячи лет назад знали. Эх…
Были, впрочем, в информационном потоке и интересные сближения, заставившие меня задуматься, как форма человеческой молитвы связана с ответом, приходящим от Божества. Вот три девушки в балаклавах обратились к Деве Марии с нетрадиционной мольбой — и было им нетрадиционное видение: ползущая по сцене Мадонна с надписью «Pussy Riot» на спине… Как, однако, мало влияния осталось у Богородицы на людской мир. Не смогла даже уберечь бедняжек от тюрьмы.
Но не все было так уж мрачно. Обошлось без конца Светы. Или, может быть, в суете его просто не заметили.
Я вдруг с испугом осознал, что долгое беспамятство на корабле императора не прошло для меня бесследно. Похоже, я не просто висел в трюме. Я узнал много нового, причем сам не был в курсе, что оно мне известно — как бывает с вампирами при обучении через препараты ДНА.
Например, задумавшись о конце света, я смутно вспомнил, что апокалипсис уже был — где-то на стыке античности и средних веков, — и его скрывает тот самый период тьмы и неясности, о котором говорит столько историков. Но это событие имело такую природу, что затрагивало не просто «государственность и культуру» живших на земле народов, но и саму материальность видимого мира, поэтому от него действительно не осталось никаких следов, и хозяевам обновленного человечества пришлось наложить на эту дыру своеобразную информационную заплату — фрагмент истории, кое-как подделанный позже.
Раньше я этого точно не знал.
От современной же истории в виде вчерашних новостей оставалось только злорадство. Я все время вспоминал о приверженцах конспирологических теорий: мол, тайная группа интриганов легкими касаниями перстов направляет ход мировой истории, история послушно поворачивает куда надо, а ее архитекторы остаются в тени сотнями лет… Ну-ну. Знали бы они…
Тут, извиняюсь, задействованы силы куда серьезней людей. Люди — причем лучшие люди — тоже в деле. И вот большая группа профессионалов, под которыми ходят все, без всякого исключения все, пытается что-то сделать по заранее намеченному плану, имея при этом неограниченный ресурс — а пила все равно идет не туда.
Я бы брал этих конспирологов часов в пять утра, тепленькими, с кровати, и вез бы на какую-нибудь ржавую подмосковную автобазу. И заставлял бы их танцевать танго с самосвалом, за рулем которого сидит обкуренный пьяный таджик, позорящий шариат и умму каждым своим вздохом. А потом ставил бы конспирологов к кирпичной стене и спрашивал — ну что, идиоты проклятые, поняли, что такое управлять этим миром?
Впрочем, затухание халдеи рассчитали более-менее верно — не зря Энлиль Маратович в первую очередь поручил им именно это. Я в очередной раз оценил мудрость старого вампира. Важно ведь не то, что случится на пике процесса. Все это промелькнет и исчезнет, оставив только пару пыльных роликов на ютубе. Важно только то, что останется, когда все успокоится и затихнет. Какой высоты окажется кровать, когда матрас перестанет качаться. Если не ошибаюсь, в математике это называется свободной и вынужденной составляющими. Только жизнь не математика — и за свободную составляющую, длящуюся пять минут, приходится платить вынужденной, которая приходит на долгие годы.
Вот так, думал я, глядя на далекую линзу океана, понемногу набираешься опыта. Но одного опыта сегодня уже мало. Reinvent yourself or die. Хочешь быть вампиром — учи дифференциальные уравнения… Надо будет укусить какого-нибудь математика и серьезно разобраться в теме. Как-нибудь спляшу перед Великой Мышью и закажу голову Перельмана на блюде…
Но сейчас следовало думать не об этом. Надо было готовить подвиг — и я уже почти знал, что делать. Я, конечно, опоздал на поклонное болото — но в моей груди уже вызрел собственный жест. Глубоко интимный и личный. Помочь мне мог только он.
Я позвал бортпроводника и попросил карандаш и бумагу. Он принес их из кабины и замер в ожидании.
— Мы можем где-нибудь приземлиться?
Он соображал несколько секунд.
— В Барселоне.
— Отлично. Тогда вот что. Мне нужен татуировщик. Самый хороший специалист. Прямо сюда, на борт. Идти в город я не хочу. И еще надо кое-что купить и изготовить, я дам список… Там все просто. Черная футболка два экс-эл. Белый трафарет на грудь — что писать, я скажу. Черную балаклаву с рогом на лбу, это самое сложное. Английских булавок… Закажем прямо с воздуха, чтобы не ждать.
Татуировщик оказался черным сухощавым мужчиной с курчавой бородкой, в розовой вязаной кепке а-ля Боб Марли. У него с собой был округлый алюминиевый чемодан вроде тех, в каких герои Голливуда перевозят через мозг кинозрителя большие бабки, а суверенные вампиры подгоняют баблос бэтману Аполло. Ни одной татуировки на самом татуировщике не было. Впрочем, его кожа была такой темной, что себя ему пришлось бы расписывать белым.
Он взял бумажку с моим эскизом и некоторое время с сомнением изучал.
— Надо сделать под пупком, — стал я объяснять по-испански. — Две летучих мыши. Причем одна должна быть женского пола, а другая мужского. Они держат… Ну, такую ленту, типа развернутого транспаранта. А на транспаранте уже эта надпись…
— DON’T SUCK MY DICK, — прочитал татуировщик медленно, словно взвешивая каждую букву. — Why?
Я догадался, что он знает испанский еще хуже меня. Понимание мотивов клиента могло быть важным для его вдохновения. Но пускаться в слишком уж подробные объяснения мне не хотелось.
— Because «don’t suck my dick» is much more offensive than «suck my dick», — ответил я.
Видимо, объяснение его удовлетворило. Он кивнул и открыл свой чемодан.
Через два часа тату было готово — и выглядело оно настолько… Именно offensive, что представить себе кого-то, не подчинившегося этому дружескому увещеванию, было трудно. Я бы даже сказал, что в изображениях летучих мышей легко было углядеть hate crime — попытку оскорбить весь род вампиров. Но это могло быть проявлением того самого конспирологического сознания, о котором я только что вспоминал с таким сарказмом.
Со вторым заказом вышло чуть хуже. Черная балаклава с нашитым на лбу рогом удалась не особо — рог, видимо, делали в спешке, и он оказался плохо набит. Когда я надел маску на голову, он бессильно обвис. Но к тому моменту, когда я обнаружил этот дефект, мы уже взлетели, и разворачивать из-за этого самолет я не стал.
Зато черная майка с белой надписью-трафаретом удалась на славу.
OCCUPY PUSSY
Вот как-то так. И только так.
Все-таки недаром я столько лет изучал вампирические искусства, думал я. Вот образцовый информационный омоним.
С одной стороны — максимальнейшая концентрация всего прогрессивного и светлого, какая может быть достигнута лингвистическими методами. Сколько революции и драйва в этом мотто всемирного креативного протеста, сколько простора для медийного подвыва — а в работе всего пара слов, старых как мир и свежих, как весенний ветер над рыбным рынком.
С другой стороны — глубоко личный, можно сказать, сокровенный стон, надежно скрытый под зеркалами поверхностных, но внятных эпохе смыслов.
У майки были длинные рукава. Сначала я хотел обрезать их ножницами, а потом мне пришло в голову, что это одно из тех тонких указаний судьбы, которые подтверждают, что твое сердце бьется в унисон с сердцем эпохи — и показывают одновременно, как еще точнее сверить ритм.
Перед кабиной пилотов в салоне была черная штора. Она была сложена — и я подумал, что ее отсутствия никто не заметит.
Остаток дороги ушел у меня на то, чтобы нарезать ее тонкими длинными полосками и прикрепить эти полоски к рукавам с помощью крохотных английских булавок, которых привезли целую коробку — в чем я углядел еще один перст провидения.
Когда мы уже снижались к Москве, я померил получившийся наряд — и взмахнул руками перед встроенным в стену зеркалом. Честное слово, на миг мне показалось, что мои руки превратились в черные крылья без всякого прыжка в пропасть. Костюм вполне годился для хэллоуина — если не считать, конечно, надписи на груди: она для буржуазного дискурса была слишком радикальной. И все это сделал я сам, из подручных материалов, за какую-то пару часов. Можно было собой гордиться.
Но все же, выходя из самолета, я на всякий случай накинул на плечи черный пиджак.
Падал редкий снежок. Прямо возле трапа ждала машина с Григорием. Григорий выглядел бледнее, чем обычно, и я подумал, что он опять халтурит на двух работах и сдает красную жидкость. Но потом до меня долетел еле заметный запашок перегара, и я успокоился.
— Куда едем, кесарь? Квартира, дача?
Я отрицательно покачал головой.
— Свези меня на Тверской бульвар. Пройдусь пешком.
Шлагбаум, еще шлагбаум. Тонкая бетонная дорожка несколько раз повернула в лесу, влилась в снежно-серую асфальтовую реку — и все привилегии и кастовые различия остались позади.
Мы еще не добрались до Москвы, а дорога уже стояла, и не было исхода из этого сизого бензинового пара с красными пятнами стоп-сигналов.
Григорий вел себя так, словно я никуда не пропадал и последний раз он видел меня вчера. Впрочем, любое другое поведение по отношению к вампиру было бы оскорбительным. Проявлять любопытство было даже опасно, и он это, видимо, понимал.
Как всегда в долгой пробке, Григорий решил потрудиться над моим спасением — он знал, что обычно поднимает мне этим настроение и я даю хорошие чаевые. Я загляделся в окно и пропустил точный момент, когда он начал говорить — смысл его слов стал доходить до моего сознания постепенно, вклиниваясь между приглушенными гудками, доносящимися из-за стекла. Сперва мне казалось, что это блеет радио, которое он включил несмотря на мой запрет. Потом я понял, что это его собственный голос.
— И неправда, кесарь, что человечество не знает про вампиров. Догадывается. Нельзя обманывать всех людей все время. Точной информации, может, у народа и нет. Но есть прозрения на эмоциональном уровне. Смутные догадки о невидимых безжалостных властелинах, питающихся человеческими душами, многие века посещают людей. Вспомните «Бога — пожирателя людей» из гностических евангелий. Этим примерам нет числа. Однако люди всегда верили, что зло не может торжествовать бесконечно — и реальность божьего мира вовсе не так черна…
Я наклонился вперед и тихо клацнул зубами возле его шеи. Григорий покорно вздохнул. Я на секунду прикрыл глаза — и решил объяснить ему все раз и навсегда.
— Вот смотри, Гриш. У тебя сейчас спина чешется, ботинок левый жмет. Справа что-то болит под ребрами, и ты боишься, что рак печени. Вампиров по Москве развозить тебе не нравится. Но в Молдавии твоей такая жопа, особенно по части теологии, что других вариантов с работой у тебя просто нет. А детки твои в Кишиневе хотят каждый по айпэду, чтобы побыстрей познакомиться с педофилами, изучить производство наркотиков и склониться к самоубийству. В общем, херово тебе.
— Да, — согласился Григорий. — Это я и сам понимаю.
— Ты другого не понимаешь, Гриш. Ты думаешь, что херово тебе только временно. В силу искажения божьего плана. А это и есть божий план на твой счет — чтоб тебе было херово.
— Почему?
— Потому что божий план — тот единственный план, по которому все происходит. И мы, вампиры, в этом плане как бы жернова. А вы, люди — зерна. Остальное — людские домыслы. Еще раз скажи, тебе херово?
— Херово, — кивнул Григорий. — Но…
— Ты со своими «но» самого главного не понимаешь. Что для выработки этого «херово» ты и нужен природе и космосу. Потому что если бы ты нужен был для чего-то другого, с тобой бы это другое и происходило. Понимаешь? Херово, Григорий, не тебе одному, а всем людям. Ты ведь самогон гнал в Кишиневе по молодости? Так вот, чтобы ты понимал — все мы просто винтики планетарного самогонного аппарата. Который перегоняет всеобщую фрустрацию в баблос. А все людские мечты, надежды и планы — это закваска, из которой его гонят. Так было всегда — и всегда будет.
— Да, — прошептал Григорий, — враг могуч.
— Только вампирам, чтоб ты знал, еще херовей. Потому что у нас нет этого последнего приюта, который есть у каждого человека. Спрятаться в солнечный идиотизм. Уйти в социальный протест. Уверовать в Господа. Заняться йогой. Или писать стихи про ежиков для детских сайтов. Мы этого не можем технически. Потому что там, где у вас в голове эта аварийная сливная дырка, у нас только холодное и беспощадное понимание истины.
— Вы зато вниз головой висите, чтобы забыть о возмездии, — пробормотал Григорий.
— Ты и про это знаешь?
— Знаю, — сказал он. — Озирис показывал. Вернее, не показывал, а просто не стеснялся.
— Он тебе говорил, что так от возмездия прячется?
— Нет, — ответил Григорий. — Это я и сам понять в состоянии.
Я несколько секунд озадаченно молчал. Такая мрачная интерпретация происходящего в хамлете не приходила мне в голову. И если понимать под возмездием ежедневный поток черных мыслей, омывающий любую вампирскую голову, Григорий был совершенно прав. Этот поток черных мыслей вполне можно называть возмездием, вполне…
Григорий без всякого укуса почувствовал, что его слова попали в цель. Он прокашлялся.
— А херово мне не потому, — сказал он тонким елейным тоном, как бы начиная очень издалека, — что Господь такое на мой счет промыслил. Господь… Он нам всем как бы назначил встречу. Но не в клубе «Отсос», а в духе и истине. И если мы приходим, он нас ждет. Вот это и есть его план. Просто в этом плане мы не шестеренки, а равноправные участники. Можем прийти, а можем не прийти. И когда мы не приходим, нам херово. Потому что мы чувствуем — заблудились. Знаем, что не там душа бродит, где Господь ее ждет. Я, кесарь, заблудший человек. И херово мне не по божьему плану, а по грехам моим великим.
— Да какие же у тебя грехи, Григорий? — удивился я. — Ты же профессор теологии. Семью кормишь.
— А чем кормлю? Извозчик у кровососа. За то Господь от меня и отвернулся…
— Спасибо, — буркнул я. — То есть херово тебе из-за меня, да?
— Так вы же вампир, — ответил Григорий. — Чему тут удивляться.
— Слушай, — сказал я, — если ты из-за меня на свиданку с Господом опаздываешь, чего ты у меня тогда работаешь?
— Ибо сказано, — отозвался Григорий, — отдайте богу богово, а кесарю кесарево… Вот я, кесарь, и отдаю.
Я промолчал.
Странно, но разговор с Григорием не развеселил меня, как обычно, а, наоборот, погрузил в печаль — чтобы не сказать зависть. Простейшие движения ума, к которым прибегал этот человек, чтобы заслониться от безнадежности человеческой судьбы, поражали своей абсурдной эффективностью. И зачем, спрашивается, нужно что-то сложнее и умнее? Почему люди ушли из этого надежного проверенного окопа, который веками давал им возможность достойно дотерпеть до конца? Чтобы их взгляды соответствовали «истине»? Какой еще «истине»? Которую им выпиливают Самарцев с Калдавашкиным по нашему заказу?
— Не для того мы живем и страдаем, кесарь, чтобы вырабатывать скрежет зубовный и тоску, — бормотал Григорий, перестраиваясь в другой ряд, — а для того, чтобы в этой роковой борьбе день за днем выковывались крупицы драгоценного духовного опыта. Которые блистают на духовном небосклоне и радуют Господа. Аки звезды на южном небе…
Впрочем, думал я, слушая его вполуха, люди не уходили из окопа. Не такие они дураки. Они просто загадили его до краев, заполнили своим дерьмом — и он исчез. Да и мы им помогли по линии дискурса, чего уж лукавить. И прятаться стало негде. Вот я, например — при всем желании не смогу уже скрыться там, где Григорий. Не потому, что не хочу. Я даже не вижу окопа, где он сидит. Для меня его нет. Мне непонятно, как в этом умственном недоразумении можно спрятаться. А для Григория окоп есть. Для него это такая же реальность, как для меня баблос, которого, кстати, я не видел уже черт знает сколько времени.
Разница между нами в том, что Григорий, поумнев и протрезвев, еще сможет вылезти из своего приюта в то пространство, где ежусь от космического холода я. А я… Я уже никогда не смогу протиснуться в его абсурдное убежище. Не смогу даже сделать вид, что я там… То же самое, кажется, чувствовал граф Толстой, дивясь таинствам простой крестьянской веры. И тоже не смог залезть назад. А смог только перевести Евангелие с греческого, корчась на ледяном ветру…
Скоро сработал мой обычный защитный механизм — я перестал слышать болтовню Григория. Вернее, перестал воспринимать смысл его слов, вслушиваясь только в их звук, эдакий хрипловатый успокоительный ручеек, пересыхающий иногда на несколько секунд. Мне то и дело вспоминалась Софи — и мой ум тотчас отпрыгивал от этого воспоминания, как от раскаленной кочерги. Но не думать о ней я тоже не мог…
Эх, знал бы этот стихоплет, что такое настоящий ад.
Впрочем, можно ли вообще метафизически доверять женщине?
Чтобы отвлечься от черных мыслей, я включил вмонтированный в переборку телевизор и выбрал какой-то боевик. Но после недавней беседы с Аполло смотреть кино не было никакой возможности — и даже непонятно было, как это получалось у меня раньше.
Я чувствовал, что фильм просто доит меня, ежесекундно возобновляя во мне напряжение, вызванное происходящей с героем катастрофой — которая, однако, никак не кончалась его смертью, а вела только к еще более страшной катастрофе, не оставляющей уже никакого шанса на избавление, и так все дальше и дальше. И весь смысл быстрого монтажа был в том, чтобы постоянно поддерживать во мне это непрерывное внутреннее страдание.
С одной стороны, это вполне получалось. Но с другой — как ни чудовищна казалась нависшая над героем опасность, было ясно, что дурного с ним не случится, поскольку фильм только начался. Выходило, пока часть моего сознания изнывает в адреналиновых спазмах, другая утомленно зевает. Зевающая часть в конце концов победила. Я выключил панель и уставился в окно.
Москва была все той же — и неуловимо новой. Я видел очень много приезжих. Мне пришло в голову, что так называемое «нашествие варваров» вряд ли воспринималось римлянами пятого века как нечто большее, чем наплыв необычно большого числа мигрантов на фоне непрерывно растущей толерантности властей… А ведь тут, как жаловался Иоанн Грозный, не только третий Рим, а еще и второй Израиль. Трудно ждать от зимней Москвы, что она поднимет тебе настроение своими видами.
Когда до Тверского бульвара осталось минут пять езды, я опять стал слышать голос Григория:
— …и не надо себя за это презирать. Если вы у меня пососать хотите, вы так и скажите, не стесняйтесь. Я в такие вещи врубаюсь…
Я даже не разозлился.
Улл был прав. Человек подобен калейдоскопу, картонная труба которого догнивает свой короткий век, пока внутри пересыпаются блестящие, самодовольные, острые и отважные стекляшки, дробным отражением которых любуется Великий Вампир. Можно ли злиться на калейдоскоп, когда понимаешь, как он работает? Нет. Человека можно только любить. Только любить и жалеть. Лучше всего — издалека.
— Уймись, Григорий, — попросил я кротко. — Меня вырвет сейчас.
Он умолк. Я снял пиджак и принялся расправлять спутавшиеся ленты. Закончив с ними, я надел на голову черную балаклаву.
По тому, как вильнула машина, я понял, что Григорий внимательно следит за моими приготовлениями в зеркале.
— А говорите, сливная дырка, — сказал он. — Выходит, и у вас такая в голове, кесарь.
— Это ты про что?
— Про социальный протест.
— Это не социальный, Гриш. А глубоко личный.
— Зачем тогда клюв?
Я непонимающе уставился в его зеркальные глаза.
— Это ведь у вас клюв? — спросил он.
— Это рог, дубина. Рог. У нас такой на голове, когда мы в Древнем Теле.
— Да я в курсе, — сказал Григорий и оторвал одну руку от руля, чтобы перекреститься, отчего машина вильнула опять.
— Ты веди нормально. А то тебе в случае чего на небо, а мне — непонятно… Аккуратней.
— Подумают, что клюв, — озабоченно сказал Григорий, не обратив внимания на мои слова. — Подумают, вы черным журавлем оделись.
— Пусть думают… Подожди, ты это серьезно?
Григорий кивнул.
Такая возможность не приходила мне в голову. Ну что ж, так оно даже лучше… Лишняя складка Черного Занавеса не повредит.
— Тормози, — сказал я. — Я у «Армении» выйду. И не жди. Езжай сразу в гараж.
Машина затормозила.
— Зачем вам это, кесарь? — спросил Григорий.
— Ты «Подвиг» Набокова читал?
Он отрицательно помотал головой.
— Прочти, — сказал я. — Там наверняка написано.
Выбравшись наружу, я подождал, пока машина с Григорием скроется за перекрестком, и, ежась от холода, пошел к переходу на бульвар. Хотелось верить, что все кончится быстро. У дверей одного из ресторанов мне зааплодировали — и я взмахнул своим тесемочным крылом, отвечая на привет.
Впрочем, ложка дегтя, брошенная мне вслед Григорием, обесценивала взгляды, которые я на себе ловил — неважно, что в них было, восхищение или ненависть. Я знал, что люди реагируют не на мое действительное высказывание — оно вряд ли было доступно их суетливым умам, — а на свои собственные проекции, которые они только и способны узнавать во внешнем мире. Они хлопают лишь себе. Всегда лишь себе. Им и не нужен никто другой. Они даже не знают, что другое бывает.
Но не вампиру их судить, думал я, шагая по бульвару. Ибо это мы захотели, чтобы все было именно так. Любить людей надо такими, какие они есть. И сосредоточиться мне следует не на том, что нас разделяет, а на том, в чем мы едины. Людям больно и плохо жить под вечным гнетом, хотя они не особо понимают его природу. И мне тоже больно и плохо, хоть я знаю источник своей боли. Люди выходят на площади и улицы, чтобы сказать свое «уй», так почему бы и мне не пройти меж ними зыбкой черной тенью?
Уже все возможные разновидности белковых тел профланировали по улицам этого города, выражая протест против мучительных ментальных образов, терзающих их воспаленные умы. Должен же кто-то быть и от вампиров. Так пусть это буду я…
Ecce vampo! Или как там вампир по-латыни — lamia? labia? Почему-то только женского рода… Впрочем, неважно. Смотрите, люди, вот идет среди вас вампир, показывающий миру свою боль и беду. Такой же, как вы. Один из вас. Смертный на время, как мог бы выразиться Борис Пастернак, если бы ему заказали приличествующие случаю стихи. И пусть мы живем на разных социальных этажах, сегодня в этой борьбе мы вместе. Рука об руку. Крылом к копыту… А если тебе, мой мимолетный брат, не ясен смысл моего безумного жеста, особой беды в этом нет.
«И не надо, — шептал мой внутренний голос, — не надо ничего никому объяснять… Пройти непонятым и исчезнуть… Как там у Есенина? По своей стране пройду стороной, как проходит косой вождь…»
Однако исчезать было уже поздно.
Впереди соткались из морозного воздуха какие-то озабоченные люди с телекамерой и похожим на мохнатую дыню микрофоном на штанге. А за решеткой бульвара уже тормозил милицейский автомобиль. Почему-то я был уверен, что все это имеет ко мне самое непосредственное отношение.
И я не ошибся.
Меня свинтили точно напротив МХАТа. Причем так профессионально, что я даже не заметил, как ко мне подошли.
Слово «свинтили» на самом деле удивительно подходит. Только что я шел по главной аллее, помахивая черными крыльями — и гордясь, что иду в эту высокую минуту по тому самому Тверскому бульвару, где началось и кончилось столько прекрасных человеческих историй. И вдруг мое тело оказалось свинчено в крайне компактную конструкцию с головой возле ног и руками за спиной. При этом меня незаметно, но очень больно ткнули чем-то жестким в ребра, словно давая понять, что если я не подчинюсь, будет еще больнее.
Меня тут же потащили — вернее сказать, вынудили передвигаться в крайне неудобной позе: всю работу по перемещению собственного веса выполнял я сам. Но я не видел, куда именно я двигаюсь, потому что сбившаяся маска закрыла мне глаза. Зато я слышал голоса. Возмущенные голоса. Впрочем, кто-то, наоборот, довольно гыкал. Во время короткой остановки я ухитрился поправить маску собственным коленом, вернув себе зрение — и увидел совсем близко объектив видеокамеры. Уже сориентировались, подумал я.
— Это молодежный протест против сползания страны к авторитаризму и клерикальной диктатуре?
— Не хочется вас расстраивать, — прохрипел я, — но мои претензии к вашему миру идут значительно дальше… Вы даже не представляете, насколько…
Я говорил абсолютную правду, но кому она нужна на этой ярмарке лжи? Съемочная группа потеряла ко мне интерес за долю секунды.
А вот менты — нет.
Меня пихнули в спину и заставили взбежать по ведущим к переходу ступенькам.
Больше за нами никто не шел. Меня тащили в переулок, в глубине которого — надо же, какое совпадение — уже стоял милицейский фургон. Но до него было еще далеко. А свидетелей вокруг теперь не осталось — и я быстро это ощутил. Меня стукнули по ноге чем-то очень твердым. Потом еще раз. Потом еще. Потом еще…
Самым подлым была абсолютная неспровоцированность этих ударов. Они вообще никак не были связанны с моим поведением — словно меня били не живые люди, а генератор случайных чисел. Целили по икре, в самое нежное место. Я теперь неделю не смогу висеть в хамлете, подумал я.
Мне представился тупой злобный омоновец, который несильно, но метко бьет меня при каждом моем шаге. Просто для развлечения. Я вообразил его беспросветный внутренний мир, его пропитанную ресентиментом и страданием душу… И вот теперь он выливает все всосанное с рождения зло на меня.
Меня заполнила безудержная ярость. Сосредоточенная ненависть к этим балаганным вертухаям, называть которых режимом могут только недостаточно информированные люди. Сволочи, думал я, чуть не плача от злости, какие сволочи… Они считают, что я… Что меня… Что они просто так могут…
А потом я каким-то образом исхитрился обернуться — и увидел, кто именно бьет меня по ноге.
Это был тяжелый металлический щит одного из скрутивших меня омоновцев-космонавтов. Он раскачивался при каждом шаге и метко, но совершенно неодушевленно бил в мою икру углом.
Мент, которому принадлежал щит, даже не был в курсе.
И меня вдруг проняло до костей.
Или, может быть, правильнее сказать — отпустило. Потому что в моей душе в эту секунду уже не было ни бесконечного одиночества, ни метафизического недоверия к женщине, ни безнадежного понимания, что выхода из моего экзистенциального тупика нет и не может быть в природе.
Ад куда-то исчез.
Мало того, мне даже не было холодно.
Все было смыто злобой на этих тупых скоморохов в riot gear, вздумавших надо мной издеваться. А теперь, когда оказалось, что скоморохи тут ни при чем, наступила долгая секунда тишины, какой-то замершей озадаченности. Точь-в-точь как при приеме баблоса. И почти как при лицезрении Великого Вампира. Эта секунда была поразительной.
На моих глазах выступили слезы.
— Щит родины, — прошептал я, — щит родины…
Нельзя было сказать, будто я что-то понял.
Совсем наоборот.
Я вдруг перестал понимать все то, что с такой яростной самоотдачей понимал перед этим весь день. И я больше не хотел это понимать. Никогда вообще.
Мне не нужно было это бессмысленное беличье колесо в голове, из которого я только что случайно вывалился на свободу. Наверно, именно это имела в виду Софи, говоря про indigenous mind.
Но увести туда благодарное человечество было невозможно. Свобода была недостижима. Она была слишком близко, чтобы можно было сделать в ее сторону хоть шаг. Она была раньше любой мысли и любого шага.
Увы, свобода кончалась именно там, где начинался человек. Даже я, вампир, не мог надолго вырваться из под власти ума «Б».
Меня уже подтащили к автозаку, и я почувствовал, что волшебное переживание внутренней незаполненности уходит. Но это меня не пугало. Я знал, что ничего не надо удерживать, ничего…
Из автозака вылез офицер в кителе и фуражке — судя по всему, нечто вроде штабного центуриона.
— Что там? — спросил он хмуро. — Балаклавинг?
— Путинг, — ответил один из омоновцев.
Офицер с сомнением смерил меня глазами.
— Точно не балаклавинг?
— Не, — сказал омоновец. — Реально путинг. У него нос на маске и крылья. Типо журавль. Все забыли уже, а он еще помнит…
Я заметил на погонах офицера в фуражке три больших звезды. Полковник. Вот и мой билет домой.
— Ну что ж, — сказал полковник, все так же хмуро изучая мой наряд, — мы за путинг не караем… Журавляйте, граждане, на здоровье…
Его глаза остановились на моей майке.
— А вот за призывы к насильственным действиям сексуального характера… Публичные призывы к массовым сексуальным действиям… Это уже серьезней. Да отпусти ты его. А то будет потом синяками торговать…
Державший меня омоновец разжал свои клешни.
— Тут вчера у одного тоже интересная кофтень была, — продолжал полковник. — «Мутен Судак». И ведь не подкопаешься вроде. Девки смотрят как на героя. Наглый такой. Думает, самый умный. А на кармане двадцать грамм конопли…
Омоновцы весело заржали.
— Господин офицер, — сказал я полковнику, — могу я сообщить вам нечто важное?
— Важное? Ну сообщи.
— Приватно, — сказал я, — чтобы ваши подчиненные не слышали. Это секретная информация государственного значения.
Полковник посмотрел на меня с интересом.
— Ну давай. Скажи на ухо.
И он развернул ко мне свое ухо — большое и надежное, морозное красное ухо российской власти.
Я шагнул к нему, поднялся на цыпочки (он был выше меня почти на голову) и тихо сказал первое, что пришло в голову:
— Терпи, халдей, аватаром будешь.
А потом быстро и сильно укусил его за шею сквозь дырку в балаклаве. Не так, как мы делаем это обычно, а просто зубами. Грубо и по-человечески.
Меня поразила та мускульная энергия, та, я бы сказал, радостная бетховенская сила, которую я вложил в это движение челюстей. Словно что-то долгие годы копилось в моей груди — и вырвалось наконец на свободу сверкающей всепобеждающей песней, которую не задушишь и не убьешь. На одну секунду я испытал головокружительное счастье — а потом ужаснулся, ибо понял, что до сих пор не знаю про себя ничего.
На шее полковника выступила кровь. Он побледнел, отшатнулся и выхватил из кобуры пистолет на тонком кожаном ремешке.
— Стоять!
Я никуда не шел — и сообразил, что он кричит не мне, а омоновцам, уже занесшим надо мной кулаки.
— Я сам с этой блядью поговорю, — сказал полковник и указал стволом на дверь в автозак. — Внутрь бегом, сука!
Омоновцы сильно нервничали, что мне ни разу не попало от них по шее — это было видно по их лицам.
— Спокойно, ребята, спокойно, — повторил полковник, вытирая с шеи кровь. — Я сам, лично… Только дай мне вот это…
Он взял у понимающе осклабившегося омоновца дубинку — и пихнул меня во вместительное нутро машины.
— Не беспокоить, пока не позову, — сказал он.
Как только дверной замок щелкнул, поведение полковника изменилось самым разительным образом. Первым делом он прошел мимо меня и на полную громкость включил плоский телевизор, свисающий на штанге с потолка (машина, похоже, возила не задержанных, а самих ментов — внутри она напоминала с любовью оборудованную бытовку строителей).
— Это чтоб крики глушить, — улыбнулся он, отогнул лацкан и показал мне маленькую золотую маску-значок.
Я кивнул.
— Зачем сами так рискуете? — спросил он, указывая на мои потрепанные черные крылья.
В его голосе звучала неподдельная забота.
— Хотел пропитаться, — ответил я.
— Чем?
— Солнечным соком жизни. И потом, я считаю, что вампир должен быть в первых рядах социального протеста. Особенно когда протеста уже нет.
— Да? А против кого протестуете?
— Против вас.
Полковник некоторое время размышлял над услышанным, причем мне показалось, что в какой-то момент его мозговые итерации просто разошлись и затухли.
— Так точно! — сказал он.
Подойдя к приставному столику, на котором стоял электрочайник, он взял бумажную салфетку и приложил ее к кровоточащей шее.
— Вам, конечно, виднее, — сказал он, морщась. — Но вы все-таки передайте своему руководству, что это совершенно непригодная система идентификации. Мало того, что для нас негуманная. Она еще и для вас самих опасная. Бывает, кусают нижний состав, а они не в курсе. Сложности. Зачем это?
— А вы что предлагаете? — спросил я.
— Мы вам можем удостоверения любые напечатать.
— Это не выход, — ответил я.
— А как тогда надо?
— Давайте против них бороться, — сказал я. — Вместе.
— Против кого?
— Ну, против нас.
Полковник опять некоторое время думал — и в этот раз циклы мозговых вычислений, видимо, сошлись. Он побледнел.
— Извините, — сказал он. — Заговорился.
— Ничего, — ответил я любезно. — Не волнуйтесь. С кем не бывает.
— Вы меня на «ты», пожалуйста, называйте, — попросил полковник.
— Почему?
— Да голову переклинивает. Сначала укусили, а потом вдруг на «вы». Боюсь, не сдержусь. А так все привычнее.
— Хорошо, — кивнул я. — Будем считать это брудершафтом. А можно один профессиональный вопрос?
— Так точно, слушаю, — сказал полковник.
— Как этот щит называется? Который у ваших опричников?
— Щит? — полковник сразу оживился, как коллекционер, с которым заговорили о марках. — «Витраж». Вот только сейчас не скажу, какой — «Витраж-АТ» или «Витраж-М». Хотя… Если с дырочкми для наблюдения, то это «Витраж-АТ». А палка резиновая, если хотите знать, называется «Аргумент». Бывает длинный аргумент и короткий. Логично, да? А почему интересуетесь?
— Да нет, ничего. Просто так.
Я вспомнил рассказ Улла о витражах. Знал бы он, какими цветами они играют в далекой северной стране… Мне стало грустно — словно я вспомнил частицу дивной, забытой и отшумевшей жизни.
Салфетка в руке полковника окончательно набухла красным, и он заменил ее на чистую.
— Послушайте, — сказал он, — может, и не моего ума это дело, и зря я лезу… Но вы хоть по секрету объяснить мне можете насчет укусов, а? Вам же кровь не нужна, это враки все.
— Правильно, — ответил я. — Не нужна.
— Тогда зачем такой код оповещения? Почему нас непременно кусать надо?
— Не я это придумал, — вздохнул я. — Но объяснить могу. Только предупреждаю, тема не простая.
— Попробуйте, — сказал полковник, и на его лице изобразилось страдальческое усилие, как часто бывает у не слишком развитых людей, ожидающих услышать что-то умное.
— Тебя ведь этот вопрос мучает, раз задаешь? Мучает. Вот для того и кусаем, чтоб он тебя и дальше мучил. И со всеми остальными проблемами и непонятками — то же самое. Вопросы в твоей голове нужны не для ответов. А для того, чтобы ответов не было.
— Опять не понимаю. Совсем просто объяснить можете?
— Можем. Доят тебя, как лоха. Всю жизнь и всю смерть.
— Кто?
— Они. Ну то есть мы. Но это производственно-бытовой аспект. А есть еще культурно-антропологический. И на культурном плане, чтоб ты знал, это Щит Родины.
— Какой щит родины?
— Типа как «Витраж». Сквозь который все немного по-другому видно. Ты ведь его держишь? Держишь. Вот он тебя и прикрывает.
Полковник медленно покачал головой, словно признавая, что истина оказалась для него неподъемной.
— Только думать об этом не надо, — сказал я почти с нежностью. — Совсем не надо. Мне наши старики сколько лет говорили — не бери в голову, не грузись — а я все не верил. И ты мне сейчас не веришь. А зря. Считаешь, тебе легче станет, если поймешь? Будет тяжелее. Тут не понимать надо, а наоборот.
— Значит, так и будете кусать? — спросил он.
— Видимо, да.
— А что делать посоветуете?
— Контролировать вампофобию, — сказал я сухо.
Но тут же сквозь меня прошла волна жалости к этому большому, сильному и век назад устаревшему человеку — эдакому солдафону, который честно и по-мужицки пытается приспособиться к давно непонятной ему жизни.
— Но отчаиваться не надо, браза, — сказал я. — Я же говорю, давай против этого вместе бороться…
Моя запоздалая сердечность, однако, была ему не нужна. Полковник уже не слушал.
— Я вам окошко оставил открытым, — сказал он сухо. — Форточку. Сейчас я к своим выйду. А вы давайте уж как-нибудь побыстрее. Потому что минут через десять я в пункт первой помощи пойду, а ключ им отдам. Чтоб они за вас дальше отвечали. Если вас в машине не будет, тогда это их проблема. А если вы в ней будете… Сами понимать должны.
Я поглядел на окно. Верхняя часть стекла была сдвинута вбок — но само окно, как и все остальные окна в машине, было забрано густой решеткой, через которую можно было просунуть только палец. Ну или два.
Форточка — еще куда ни шло, такое в моей жизни уже бывало… Но решетка…
— А решетка? — спросил я.
Полковник пожал плечами.
— Решетки снимать указаний не было, — сказал он. — Честь имею, господин вампир. Счастливого полета.
Он повернулся, вышел из автозака и захлопнул за собой дверь. Обиделся, подумал я. Ну и дурак. Сам во всем виноват. Ему бороться предлагают, а он не хочет. Куда с таким народом уедешь?
Сквозь решетку было видно, как полковник, все еще прижимая салфетку к шее, что-то говорит подчиненным. Потом один из них покосился в мою сторону, и я на всякий случай отошел от окна.
Вернется ли ко мне Древнее Тело?
Узнать это наверняка можно было только одним способом — перейдя в него. Решетка на окне волновала меня не очень — я знал, что после трансформации законы физического мира становятся для нас так же несущественны, как статьи уголовного кодекса. Меня волновало другое. Для трансформации надо было испугаться. А страшно мне не было. Совсем. Я чувствовал, как бы это точнее сказать, только цинизм. А от него в жизни мало проку.
Я заметил в дальнем углу автобуса ментовские трофеи: черно-желто-белый щит с многобуквием «Требуем уравнять русских в правах с гомосексуалистами и гостями столицы!» и мятый плакат со слоганом «Femen. Пизда пахнет!» под эмблемой, похожей не то на выпрямленный процентный символ, не то на визуальную метафору зависти к пенису. Грустные трупики чьих-то задушенных подвигов…
Я поднял глаза на плоский телевизор. Как и положено в ментовской машине, он был включен на какой-то прогрессивный канал. Шла аналитическая программа. Говорил яростный молодой человек в костюме стального цвета с искрой:
— Что показал последний марш? Да, тридцать тысяч ботов у семьи есть. Но у Пути все равно в десять раз больше!
— Год назад у семьи тоже в десять раз больше было, — отвечал собеседник, жирный бородач в свитере. — Избирком задудосить могли, лимон правду говорит.
Всего несколько месяцев — а как я отстал от жизни. Я переключил канал — и попал на веселый ролик о гаджетах.
— Смартфон — оружие активиста! Если вы конструктивно рассерженный креативщик, не согласный поступиться своим достоинством, если вы за веселый и шумный натиск с элементами карнавализьма, ваш естественный выбор — последний iPhone. А если вас уже не остановить, если вы хмурый и серьезный конспиратор, склоняющийся к полулегальным формам борьбы — тогда, конечно, вам нужен Samsung Galaxy…
Это, похоже, гнал мировую волну далекий Аполло. Причем совсем не там, где на него грешила конспирологическая общественность… Я опять переключил канал.
По экрану поплыли золотые купола на фоне синей лазури. По-поповски налегая на «о», заговорил проникновенный и серьезный молодой басок:
— У всех наций в мире есть свои неприкасаемые святыни, нечто такое, что нельзя оскорблять и трогать безнаказанно. Именно вокруг них и сплачивается всякое здоровое общество. Только у нас, россиян, на первый взгляд ничего подобного нет. Кроме военных побед, плодами которых воспользовались — так уж получилось — совсем иные народы. Так и катимся перекати-полем от татаро-монгольского ига к иудео-саксонскому. И не в слабости русского оружия дело. Русский солдат непобедим. А вот русский гуманитарий… Там, где у народа должна быть голова — только какой-то пень-обрубок с похожими на глаза гнилушками и черной дырой на все готового рта. Наша духовная элита должна крепко призадуматься о своем, как говорят военные, неполном служебном соответствии. Может быть, она просто не видит в упор того главного, что может сплотить нас всех, независимо от возраста и веры? Стать фундаментом нашего нового мультиконфессионального бытия? Взглянем на нашу историю внимательно. Да! Конечно же! И как можно было не видеть этого столько лет! У нас, друзья, есть наша приватизация! За русскую приватизацию — и давайте перестанем наконец бояться слова «русский», — заплачено не меньшим количеством жизней, чем за величайшие исторические драмы других народов. По своей монументальности это событие не уступает основанию США. Это одна из тех немногих областей, где мы уверенно опережаем Китай. Поэтому фактические результаты русской приватизации — и прошлой, и грядущей — должны быть такими же священными и неприкасаемыми, как итоги холокоста!
Это был уже не Аполло, а свои. Впрягли все дискурса, кто бы сомневался.
Я переключил программу еще раз и увидел юное существо с крестом на груди и айпэдом в руке. Глядя в айпэд и встряхивая янтарными кудрями, существо читало стихи:
— Я твои озера лайкал,
Фолловил поля.
Ты и фича, ты и бага,
Родина моя!
Алхимическое дитя нового века было куда моложе меня, и одним этим отодвигало меня дальше в жизнь — словно в глубь длинного-предлинного ящика… Я отвернулся от телевизора. И вдруг заметил на стене три маленькие иконки — вроде тех, что вешают на приборную доску таксисты и бомбилы.
И тогда мне наконец стало страшно.
Дело было не в том, что моя черная душа содрогнулась от близости святыни. И не в том, что я задумался о клерикализации общества, как советовали тележурналисты с бульвара.
Я вдруг подумал, что полковник со злой дури мог взять и брякнуть своим бойцам, что я вампир.
Менты ведь были совершенно реальны. Они находились не в лимбо, а за дверью. Не стать бы жертвой преступления на почве религиозной ненависти, которым вряд ли заинтересуются СМИ…
Это было, конечно, маловероятно — но впрыснуло нужную дозу страха в мою усталую душу. Я несколько раз нервно прошелся по кузову автозака.
Так совершил я уже свой подвиг? Или нет?
Мне вдруг стало трудно дышать, пространство вокруг завибрировало и распалось, впереди мелькнуло перевернутое лицо Аполло — и в тот самый момент, когда ручка входной двери повернулась, на меня обрушилась стена с зарешеченным окном. А в следующий момент я понял, что смотрю на автозак уже не изнутри, а снаружи.
Два омоновца как раз входили в его дверь.
Полковник уже уехал — его нигде не было видно.
Я совершил над фургоном прощальный круг, метнулся к коричневой стене МХАТА, потом к заснеженному асфальту, потом вверх — и оказался над зимним бульваром.
Меня никто не замечал. Просто в мою сторону никто не смотрел. И если бы я пролетел прямо перед лицами прохожих, все равно они нашли бы повод поглядеть в этот момент куда-то еще.
Все было хорошо. Я смог.
Но вот что именно Аполло засчитал мне за нравственный подвиг? Укус? Или татуировку? Чувствовалось, что вопрос теперь будет занимать меня долго.
В моей душе постепенно оседал поднятый иконками страх. Неужели мы действительно сползаем в новое средневековье?
Как много в этом мире, думал я, желающих быть заодно с Великим Вампиром. Как много старающихся сделать правильный выбор, оказаться на верной стороне баррикады — а не заодно с кафирами, кощуницами и прочими гоями…
Можно понять этих людей. У них хорошая практическая сметка, они стараются вложить свои сбережения под самые большие проценты в самый надежный банк. Только расчет их наивен, и выслужат они себе разве что кару за пошлое богохульство — за то, что помыслили Великого Вампира в виде анального деспота из истории родного края.
Преференций за переход в «лагерь света» не будет. Ибо в этой юдоли всякий заодно с Великим Вампиром. И тот, кто этого хочет, и тот, кто не хочет. И тот, кто молится в храме, и тот, кто в нем мочится. Великий Вампир — это лента Мебиуса. Весь мир на его стороне.
Даже в Древнем Теле я до сих пор чувствовал человеческую фантомную боль. Ныла икра, в которую настучал Щит Родины. Но на дне этой боли была и горькая сладость — казалось, своим страданием я что-то искупил. И хорошо, если так.
А теперь пора было на Рублевку.
Бульвар уже кончился. Мне не хотелось метаться между домами в клубах бензинового пара, и я стал широкими медленными кругами подниматься вверх.
Постепенно в мою душу снизошел покой, как всегда бывало на высоте, — и, когда на меня поглядел багровый глаз Великого Вампира, уже скрытый от погружающихся в сумрак улиц, я не испугался и не устыдился его взгляда.
Я был холоден и весел, как и полагается Кавалеру Ночи. Мне вспомнилась моя новая татуировка — сюрприз, который я везу Иштар. Если, конечно, это Иштар, а не…
Усилием воли я отогнал чернуху. Было понятно, что повторять это духовное упражнение придется теперь много раз в день. Но ведь жизнь — вечный бой!
Революция продолжается!
Отличный лозунг. Надо будет сказать халдеям. Хотя, кажется, кто-то уже упер. Вот только не помню кто. То ли «Вольво», то ли грязевая спа из Марьиной Рощи, то ли это новое реалити-шоу из жизни звезд протеста. Если, конечно, сатрапы еще не закрыли его за низкий рейтинг.
Я вспомнил полковника, которому уже делали, должно быть, уколы от бешенства — и понял, что так и не заглянул в его душу. Удивительно. Раньше со мной такое вряд ли могло произойти. Значит, я повзрослел. Стал серьезнее и спокойней. И, конечно, мудрее. Неизмеримо мудрее.
И мудрость опять оказалась не тем, что я представлял. Не доскональным знанием всего и вся — а совсем наоборот. Умением ограничить и оградить свой ум.
Смирением.
Да, смирением, думал я, и нет в эту секунду между небом и землей твари смиреннее меня. Потому и не страшен мне багровый глаз, в который я лечу. Ибо нет во мне своей воли — а только твоя, о Великий Вампир. Посмотри на меня и скажи: разве я лгу? Нет, не лгу, и при всем желании не смог бы солгать. И даже если я встану на Тайный Черный Путь, то не потому ли, что это часть Твоего плана?
Впору бы смеяться и смеяться. Но если бы ледяной воздух высоты мог чувствовать, он ощутил бы на моих черных шерстистых щеках два скудных холодных ручейка.
Нет, я по-прежнему весел. Это просто ветер.
Великий Вампир, почему мне нельзя увидеть тебя снова?
Впрочем, не отвечай. Я знаю.
Свет, яркий белый свет листает книгу жизни, полную мертвых анимограмм. О чем эта книга? О грусти, тщете, страдании и непостоянстве, иллюзиях и обманах — и, самое главное, о том, что жаловаться некому.
Но не в том смысле, что нет Того, кто услышал бы жалобу. Он-то как раз есть, и еще как.
Нет того, кто мог бы пожаловаться. Потому что сколько в жалобе слов, столько у нее разных авторов. И когда она дочитана до конца, никого из них уже нет в живых. Дракула прав. Тысячу раз прав.
Кто будет сотрясать вселенную могучими крыльями, наполняя ее ветром, чье гневное лицо увижу я перед собой, когда последний сон сдует прочь?
Глупейший вопрос, сказал бы Дракула. Последний сон как раз в том и состоит, что кажется, будто есть некто, кто спит — и может проснуться. И когда пробуждаешься от этого последнего сна, нет уже ни надежды, ни страха…
Тут, впрочем, слова начинают подводить. Но мне они больше не нужны.

Писал Рама Второй,Обер-вергилий, смиренный сердцем ВеликийМертвец и совершенный в бесформенномКавалер Вечной Ночи

Назад: American Dream
Дальше: Приложение

