Книга: Я в Лиссабоне. Не одна[сборник]
Назад: Валерия Нарбикова Три истории
Дальше: Илья Веткин Вилла Триора
Улья Нова
Трубки Сталина
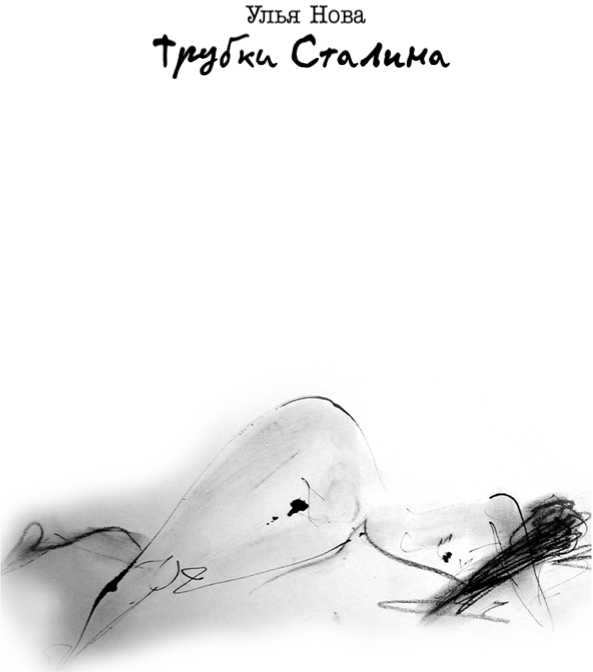
Так долго ехала на маршрутке мимо бесконечных пятиэтажек, что почти задремала. Растолкали: «Скорее, вам выходить». Даже не заметила лиц. Заблудилась во дворах, силясь расшифровать наспех зарисованный адрес на листке ежедневника. Бежала по витой лестнице на третий этаж. В глазах потемнело. Все поплыло. Пару минут стояла, уперев руки в колени, стараясь отдышаться. Была облаяна пекинесом из соседней квартиры. Долго звонила в дверь, жала звонок настойчиво и бестактно, начав сомневаться, правильный ли адрес, не перепутала ли подъезд. Наконец, открыл. В прихожей полумрак, а он невысокий. Широкоплечий. Бородатый. Бурят. Седой, с завязанными в хвост волосами.
— Ты опоздала на десять минут, — как отрезал. Его голос — тихий басистый колокол. С лету перешел на «ты», чтобы сбить препятствия, создать атмосферу доверия. — Снимай пальто. Проходи в комнату. И там — раздевайся, — командует повелительно, но мягко. Умеет.
Ариша снимает пальто, немного тянет время, умышленно замешкавшись возле вешалки в прихожей, заваленной ботинками, босоножками, всякими мятыми сапогами, что разбросаны без разбору на тусклом паркете.
— Дальняя дверь, — откуда-то издали, из глубины просторной квартиры кричит он. Ариша проходит по коридору. Просторная квадратная комната. Новенькие обои в стиле турецких трехзвездочных гостиниц. Посередине раскинулась во всю ширь необъятная, скорее всего супружеская, кровать. Двуспальная, дубовая, основательная. «Умеют, уважают и спят на широкую ногу в этом доме», — с ухмылкой проносится у нее в голове. От волнения в виске начинает пульсировать крошечная жилка, которая всегда шалит в подобных случаях. Тем не менее, любопытство сильнее. Ариша придирчиво осматривается. На кровати нет покрывала, трогательные семейные одеялки аккуратно сложены. Пододеяльники старые, в размытый какой-то цветочек, зато мягкие на ощупь. Она садится на краешек, начинает медленно раздеваться.
— Белье можешь оставить на себе, — кричит он издали, возможно, с кухни. Оттуда же доносятся приглушенные смешки двух мужчин и женский приторный говорок. Рабочие? Гости? Кто там еще с ним?
— Хорошо, — зачарованно шепчет Ариша в ответ, — как скажете.
Она снимает джинсы, скидывает кофточку. Бережно скатывает черные нейлоновые колготы. Белесой длинноногой птицей в синем кружевном лифчике замирает на краешке кровати, нерешительно раздумывая, прислушиваясь и ожидая.
— Приляг, — кричит он, — отдохни.
Тогда она послушно и медленно ложится на широченную кровать. Утопает головой в чужой прохладной подушке. Чтобы отвлечься, рассматривает в шкафу вдоль стены почти картинные ряды книг в суконных переплетах, некоторые — нетронутые, нечитаные, присутствующие на полках для красоты, а другие, наоборот, растрепанные, разломанные, затертые, напоминающие Арише ее собственную жизнь к этому часу. Чтобы отвлечься от сравнений, она всматривается в сервант, до отказа набитый курительными трубками. Сейчас больше всего на свете ей хотелось бы подкрасться, отворить стеклянную дверцу и хорошенько рассмотреть эти трубки — одну за другой, сколько успеет. Их там штук двести, а то и больше. Они разного цвета, из разной древесины, по-разному изогнуты, украшены. Но Ариша сдерживается. Гадает, на какой стороне кровати он спит. Тем временем он целеустремленно объявляется в комнате. Приободренный, пропахший кофе и табаком. В руке у него какая-то погремушка, он легонько постукивает ею. Стук-стук. Так и есть, на безымянном пальце правой руки у него обручальное кольцо. Тонкое, из желтого золота, без затей — как у всех раньше.
— А ты ничего, — между делом сообщает он сквозь зубы.
— Спасибо, — шепчет Ариша, чуть выпячивая губы, по опыту зная, что это всегда срабатывает.
— Только слишком белокожая, северная красавица, прямо альбинос, — назидательно рычит он, — тебе бы не помешало иногда в солярии объявляться.
— Хорошо, — шепчет она еще тише, приглаживая волосы, скручивая их жгутом на затылке, чтобы они тут же молниеносно рассыпались по плечам, — зайду в солярий, раз вы советуете.
— И немедленно плюй на все, — безразлично и размеренно басит он, — расслабься. А я тебе за это о коллекции трубок расскажу. Она у меня редчайшая в Москве и, наверное, во всем мире. Тут и трубки Сталина есть. — Уперев руки в бока, чуть выпятив живот, он с самодовольной гордостью оглядывает содержимое серванта. — Сталину в свое время присылали трубки отовсюду, со всех концов нашей необъятной, как говорится. Иногда дарили новые трубки. Иногда присылали экземпляры, украшенные слоновой костью, в форме кулака или головы Наполеона. А иной раз отец народов получал в подарок и обкуренные трубки. Такие ценятся выше. Они уже продымлены каким-то человеком, знакомы с табаком, понимаешь. Поговаривают, что иногда трубки для Сталина обкуривали зэки. А еще моряки Балтийского флота. Две обкуренные трубки Сталина лежат у меня здесь, спрятаны среди остальных. Только я их смогу найти при необходимости. А никто другой — не найдет и не отличит. Ну трубка… Ну не из лучшего вереска… Я их купил в середине 90-х. Сейчас каждая из них раз в двадцать подорожала, если не в пятьдесят, — хвастается он.
— А дадите покурить трубку Сталина? — стараясь выпрямить спину и казаться насмешливо-бойкой, спрашивает Ариша.
— А это мы посмотрим на твое поведение, — бормочет он без улыбки. Насупленно оглядывает ее с ног до головы. Ариша старается казаться спокойной. Тогда он подходит.
Вообще, он медлительный. Как будто все время исполняет плавные упражнения из ушу. И невозмутимый, словно Будда. Садится на краешек кровати. Долго и пристально смотрит Арише в глаза. Что при этом думает, что пытается уловить в ее взгляде, непонятно. Ариша тоже смотрит ему в глаза и ждет, что будет дальше. От напряжения мышца между плечом и шеей начинает щемить, словно там протяжно скулит туго натянутая струна. Такое с ней теперь происходит постоянно — при резком окрике, при неожиданном телефонном звонке. Она вся будто издергана за сотни шелковых ниточек, которые собрали ее нутро в складку, не давая свободно вдохнуть, отнимая легкость. Между тем два пальца его правой руки внезапно касаются ее кожи. Большой и указательный пальцы его правой руки прикасаются к ее коже посреди предплечья. И прижимаются крепко-накрепко, словно навечно.
— Не бойся, — командует он, — смотри в сервант, на трубки. А еще лучше — смотри мне в глаза. Я сероглазый, между прочим. Сейчас седой, а раньше был жгучий брюнет. Раньше бы ты на меня совсем по-другому смотрела, девочка.
— Слушаюсь и повинуюсь, — шепчет она, стараясь улыбнуться.
— Вот это дело! Такой я тебя люблю, — подмигивает он в ответ. — Скорее наплюй на все, тогда станет хорошо.
Но Ариша не плюет, она даже забывает выпячивать губы, напрягается всем телом, чувствуя дребезжание настороженных мышц-струн в ногах, руках, спине. Она ждет. Волнуется. И злится, потому что очень не любит ожидание, повиновение и неизвестность.
Его левая рука. В ней зажата погремушка. Как она выглядит, из чего сделана, Арише не видно. Если показать это в замедленной киносъемке, получится приблизительно следующее. Ловкость рук фокусника. Крышка погремушки резко скручивается. Погремушка стремительно движется снизу вверх. Из нее в толстоватых коротких пальцах возникает серебристая тоненькая игла. Через секунду эта гибкая игла впивается Арише в кожу посреди предплечья. И продвигается глубже: в сведенную мышцу, в самый нерв, в самую точку напряжения и боли. Одним словом, прямехонько ей в душу. И Ариша кричит: на всю квартиру, на всю Москву, на весь мир.
— Плюй, — ворчливо приговаривает он, — а то будет в тысячу раз больнее. Плюй, милая девочка, и отдыхай.
Его левая рука с ловкостью фокусника вытряхивает из жестяной погремушки новые и новые иглы, одну за другой. И втыкает ей в душу. В самую ее мякоть. Через минуту во всех болевых точках ее судьбы, во всех спорных моментах Аришиного прошлого, во всех сведенных нервах тела торчат длинные тонкие иглы. И легонько покачиваются, стоит только чуть-чуть пошевелиться. А когда они покачиваются, становится в сто раз больнее. Ариша рыдает. А он улыбается. Посмеивается. Поглаживает ее по ноге: очень медленно и нежно — от колена до лодыжки. Так, что тело Ариши электризуется и все ее пушинки встают дыбом. И он бормочет: «А ты ничего». Командует: «Плюй на все». И обещает в конце курса дать покурить трубку Сталина — при условии, что они будут затягиваться по очереди, наедине, у него в машине.
Ариша злится. Шепотом, как уж умеет, втыкает в него свои иглы:
— С вами я ни за что и никогда не стану курить по очереди трубку Сталина. Вы — старый садист. А садисты — не в моем вкусе. Я люблю тонких, нежных и гибких мужчин. Я люблю иногда сама делать им больно. А вы — изверг и живодер. Я вас уже терпеть не могу изо всех сил. Все, устала, больше не хочу! Немедленно снимите иглы! А иначе жена вас бросит. Потому что вы — самодовольный эгоист, а таких никто не любит!
Он хихикает до слез. Втыкает в нее еще несколько игл. И дерзит:
— Не бросит меня моя старуха никогда в жизни. Я делаю хорошие деньги, милая девочка. Я покупаю жене шубы, машины, снегоходы. Вожу ее на Средиземное море дважды в год. Даю ей на косметолога, на всякую вашу шанель-шпанель. Она не сможет жить без этого. Не сумеет экономить, одеваться в синтетическое барахло из дешевых отделов. На деньги ведь подсаживаешься сильнее, чем на всякие там табаки, виски, гашиши. И на мои иглы, кстати говоря, подсаживаются еще как. Имей в виду: через пару недель тебя будет тянуть под мою иглу со страшной силой. Ты пропала, милая девочка.
Тогда — от его спокойствия, от его усмешек — Ариша в ярости сжимает кулаки. Боль тут же усиливается в сотни раз. А он с ехидной улыбочкой бормочет:
— Это все пойдет тебе на пользу. Тебе полегчает. Ты восстановишься. А розы вырастут сами. И твои гибкие легковесные мальчики, и твои тонкие бессмысленные мужчинки это оценят. Ох, как же они это оценят. Скоро убедишься.
А потом он встает и ускользает из комнаты, оставив Аришу в слезах и в иглах еще минут на десять.
— Трубки, — повелительно кричит она вдогонку, превозмогая нестерпимую, жалящую боль, — расскажите про трубки, вы обещали!
— Ты плохо вела себя, — басисто доносится откуда-то издалека, — будь нежнее, радуй меня и уважай, а я уж в долгу не останусь, расскажу про трубки.
Ариша не может утереть слезы, ее руки должны неподвижно лежать вдоль тела. Она чувствует себя бабочкой, распластанной на кровати, заживо приколотой к мягкой ткани пододеяльника. Она наблюдает потолок сквозь слезы, как расплывчатый экран маленького южного кинотеатра, по которому сейчас будут демонстрировать развлекательный и добрый фильм для отдыхающих. Как давно это было: подлинные и уютные дни без изъянов, окутанные розоватым сиянием. Даже не верится, что они когда-нибудь еще возможны в ее жизни. Боль усиливается с каждой секундой, становится совершенно невыносимо. Вообще-то Арише не привыкать плакать. От этой мысли, от жалости к себе слезы льются сильнее, настоящей горной рекой. А ведь за последние три года она научилась виртуозно управлять ими, стала выдающимся мастером плача. Она постигала эту науку шаг за шагом: сначала заливая подушки и всхлипывая спонтанно, со временем научившись рыдать намеренно, а то и вовсе хищно, с тайным умыслом умело воздействовала на своих жертв поддельными и показными слезами. Однажды она сидела на полу, подпирая спиной ящички кухонного шкафа для специй и полотенец, уронив руки, позволяя слезам беспрепятственно катиться по опухающим щекам, чтобы в момент, когда муж заглянет на кухню, повернуть к нему расплывшееся лицо с изъеденными в кровь губами, молча и жалобно заглянуть в глаза. А сколько раз она лежала, отвернувшись к стене, изо всей силы зажимая рот ладонью, сдерживая любые звуки, захлебываясь, утаивая назойливую стаю обид. Потом много было еще всякого: шаг за шагом, ступень за ступенью Ариша становилась укротительницей своих печалей.
В последнее время она превратилась в могущественного магистра плача, обрела навык утаивать слезы, направлять их вовнутрь, чтобы они катились, как огромные сверкающие капли росы по изнанке души, не отражаясь на лице ни бледностью, ни судорогой, ни отчаяньем взгляда. Просто катились в выгоревшую бездну, пока она жарит курицу в красном вине с чабрецом, переворачивает деревянной лопаточкой треугольные куски птицы и что-то беспечное щебечет про письмо Люси из Будапешта, вслушиваясь в блеклые и односложные реплики из ванной. И вот теперь иглы победили Аришу. Они проткнули тщательно укрываемое от посторонних глаз бездонное хранилище ее слез. Неодолимый, нескончаемый водопад хлынул, затопив собой окружающее. Будто бы изливая изнутри то, что так тщательно утаивалось, укрывалось незамысловатыми отвлекающими маневрами, маленькими и суетливыми повседневными делами.
«Надо тебе срочно расслабиться, девочка», — шепчет она словами сегодняшнего своего истязателя, уже переняв его смешливую и спокойную манеру проникновенно, ласково, почти гипнотически произносить команды. Но это не помогает, надо что-то срочно предпринимать, чтобы не потерять сознание, чтобы не начать яростно вырывать из себя эти иглы, как уж придется, рискуя что-нибудь повредить. Она изо всех сил сдерживается, чтобы не начать вырывать иглы из своего прошлого, из всех уязвимых и саднящих болевых точек своей жизни. И неожиданно вспоминает. Отчетливо улавливает мгновение, откуда взяла свое начало череда событий, приведших ее в эту квадратную комнату, на чужую, не заправленную супружескую кровать, под полсотни серебряных игл. К невысокому бородатому мужчине с седыми волосами, стянутыми в хвост на затылке.
Неделю спустя Ариша снова лежит, как капустная белянка, пришпиленная безжалостным иглами, на этот раз — к гобеленовому покрывалу в мутно-бордовый рисунок ромбов. Слезы уже не хлещут, она немного привыкла и начала управлять собой под пятью десятками игл — лишь пара самопроизвольных физиологических ручейков медленно стекают по ее щеке, по ее шее, по отчетливо выступающей ключице, к груди, заключенной в черный атласный лифчик с чашечкой «анжелика». Надетый умышленно для истязателя. С тайным умыслом подразнить его. В отместку за бесцеремонное спокойствие и отечески-смешливый тон.
Он замер на фоне книжного шкафа. Как укротитель и хищник одновременно. В тертых замызганных джинсах, в синей рубашке. Эту рубашку, к слову сказать, он надевает по особым своим, избранным случаям. Рукава аккуратно закатаны до локтей, чтобы продемонстрировать тайное сокрушительное оружие: мускулистые, немного смуглые предплечья. Щедро волосистые, крепкие мужские предплечья, сводящие с ума всех без исключения женщин, встречавшихся ему в жизни. Изредка Ариша робко и ласково оглядывает их, почти лижет глазами. Ее ненасытный взгляд, несмотря на иглы, становится сияющим и ждущим. И он отлично это чувствует, он бегло читает все ее тайные и явные знаки. Он стоит на фоне книжного шкафа, в его руке — одна из тех самых трубок Сталина. Обычная на вид, темно-коричневая, с черным мундштуком. Вполне возможно, он попросту врет, чтобы произвести впечатление. Он наблюдает Аришу пристальным хитроватым взором раскосых глаз сквозь медленно ползущий, увивающийся кольцами дым. Затягивается еще раз, смакуя горьковатый табачный вдох, многозначительно молчит, то ли ожидая, то ли оттягивая продолжение рассказа. Ведь она отвлекается, ее внимание рассеяно: именно здесь, в этой квадратной комнате Аришу снова и снова уносит в августовский день, случившийся три с половиной года назад, с которого все началось.
Недалеко от берега, прямо посреди моря, высилась огромная надувная горка. Упругий разноцветный, слегка выгоревший на солнце дракон. Немного замешкавшись, она отсчитала шесть синеватых бумажек: четыре потрепанные, замусоленные сотней рук, и две новенькие, отпечатанные на днях банком чужой страны. Шесть синих купюр — столько стоил их аттракцион.
Ариша отчетливо помнит, как решительно и легко ее муж взобрался на горку, прямо-таки взлетел по веревочной лестнице, легкий, умелый, будто матрос парусного судна. Или орангутан, оказавшийся в своей стихии, среди ветвей и лиан. Взобравшись на самый верх, он уселся на фоне ясного неба, концентрата душистой субтропической голубизны. Обернулся к ней, сделал рукой нетерпеливый жест, чтобы Ариша поскорее взбиралась за ним следом. Он улыбнулся, как улыбался только лишь ей с момента их знакомства. Потом оттолкнулся. И молниеносно съехал вниз, в одно мгновение породив буйный всплеск моря, миллионы сверкающих соленых брызг. Тогда Ариша неохотно устремилась следом, поздновато поняв, что предпочла бы остаться по эту сторону спуска, чувствуя ногами жесткие ворсистые веревки-перекладины лестницы. На самой вершине надувного дракона она замерла, осмотрелась вокруг.
Она запомнила и вынесла из этого дня переливчатосверкающее, ленивое море полудня, блеклые неновые катамараны, баржу вдали, визг, брызги, виндсерфера с парусом в цвет греческого флага, ярко-розовый надувной круг, тысячу лет как умерший вулкан и поросший вереском утес, обрамлявшие бухту. Ликование, шум, шелест, выкрики звенели на широченном раскаленном пляже за ее спиной. Ариша струсила, уперлась, ей совершенно не хотелось толкать себя вниз с этой удобной наблюдательной площадки. А муж уже вынырнул, рассмеялся, вытер лицо, зачесал мокрые волосы назад и поплыл к буйку, изредка размахивая руками, чтобы она поскорее решилась. Тогда Ариша оттолкнулась и полетела вниз, утратив все опоры, вниз по пружинящей ледяной резине горки, с волосами, намотанными на лицо, кубарем, заплетаясь в собственных руках-ногах, боясь, что топик купальника сорвется и утонет. И она со всей силы шлепнулась в море: грудью, головой, утопая в вихре брызг, в водовороте, с готовностью утянувшем ее, захлебывающуюся и обессиленную, до самого дна. Как оказалось, в этот самый момент неожиданно и необратимо началась новая жизнь Ариши.
Три недели спустя муж вернулся из командировки слегка посторонним, отстраненным, встряхнувшимся и принялся критично обозревать всю свою сложившуюся к тому моменту жизнь. И он упорно, с каким-то отчаянным рвением начал разменивать, раздваивать чувства, каждую неделю принося домой на воротнике рубашки щедрые ароматы разнообразных женских духов: цветочных, мускусных, с ноткой древесной коры, с едва уловимым акцентом корицы. Все чаще он как бы невзначай задерживался допоздна, присылая слащавую и прилежную эсэмэс про экстренное совещание в конторе. Дверной звонок упрямо молчал в девять, в десять, в одиннадцать часов вечера, пока не пробивался тихим снисходительным треньканьем, осчастливливая долгожданным возвращением только лишь к полуночи. И Ариша молчала, она самоотверженно играла спокойствие и веселость, не решаясь приступить к решительному разговору, к назревшему объяснению. В те дни по ночам Ариша экстерном приступила к изучению науки слез, всего за неделю освоив древний и вечный навык беззвучного плача. Сжимая себе рот ладонью, изо всех сил сдерживаясь, захлебываясь и давясь, она скручивалась калачиком под одеялом, оплакивая ту жизнь, в которую неожиданно угодила и в которой никогда не предполагала очутиться. Но это было только начало.
— Перестань! — Резкий басистый выкрик отрывает Аришу от всего, к чему она обычно остерегалась возвращаться, от чего со временем научилась мастерски увиливать и ускользать. — Скорее вернись ко мне. Смотри на меня. Слушай дальше, девочка.
И он продолжает рассказывать про свою коллекцию трубок, чуть понизив голос, увлеченно и самозабвенно. Отвлекая внимание, он как бы украдкой медленно выдвигает тайный Аришин ящик, в беспорядке набитый ржавыми булавками, отслужившими свой век велосипедными цепями, ссохшимися трупиками мотыльков, размокшими конвертами, мятыми перышками из крыла голубя, разным другим ранящим ее душу хламом. Рассказывая, он как будто решительно выгребает все ее прошлое, пошловатое и безутешное, вытряхивает его в мусорный пакет, сдувает с него пыльцу и пыль. И заполняет освободившееся пустое пространство своими трубками.
На смену всех печалей Ариши, вместо ее мутных, оплаканных дней выстраивается стройный, чарующий ряд. Одна к одной. Как коленки. Как тайники запретного наслаждения. Медленно, мерно, очень аккуратно. Самая обычная, зато фамильная, дедушкина трубка из груши. Он курил ее на даче, в саду, окруженный соседскими старичками, вечно что-нибудь глубокомысленно привирая и приукрашивая о своей прожитой жизни. Темно-коричневая трубка из бука — подарок коллег на защиту кандидатской. Это официальная версия. А на самом деле — это подарок первой любовницы, аспирантки из Владикавказа. Его дочери в тот момент исполнилось три месяца от роду. Но девушка была рыжая и такая нежная, что какое-то смутное чувство к ней осталось до сих пор. Пенковая трубка с резьбой, тоже подарок, а вот от кого — не сказал, суровая личная тайна. Трубка из пластика, фиктивная, вроде украшения интерьера, безобидный и малоприменимый для курения муляж. Купил ее в Риге, на барахолке. Хотел произвести впечатление на одну даму. А лучше бы и не покупал вовсе. Да, в дамах недостатка у него не было никогда. И он знакомит Аришу с несколькими разными бриаровыми трубками. Находит их среди нагромождения своей коллекции, бережно вылавливает из серванта, почти не задевая остальные, не нарушая навсегда установленный здесь порядок. Он по-особому поглаживает и осматривает каждую, с гордостью и заботой. Он подносит их ближе, чтобы Ариша могла рассмотреть рисунок древесины, изгиб и кривизну. Чтобы она уловила темперамент каждой, почувствовала едва уловимый аромат табака, наполняющие их до отказа черноту и гарь.
Ариша лежит под иглами, боясь пошевелиться. А он рассказывает ей про вереск. Он объясняет, что лучшие трубки делают из той части вереска, которая располагается между корнями и стволом. Чем старше кустарник, тем лучше бриар, тем ценнее получается трубка. Он делает акцент на слове «старше», при этом становясь шире в плечах, приобретая серую хитрецу взгляда, поигрывая мускулистыми предплечьями. Он разворачивает перед доверчиво распахнутыми глазами Ариши обдуваемый ветром холм над морем, похожий на круп огромной спящей лошади, поросший цветущим вереском. Черно-зеленые, с буйной розовой дымкой цветков кусты вьются, словно непослушные жесткие гривы, перебираемые суровыми сквозняками, гнездящимися на склоне. И Ари-ша уже готова сорваться и побежать туда, она почти уверена, что сможет, несмотря на все, что когда-либо пережила, легко лететь по узенькой извилистой тропинке на самую вершину холма, среди сиреневого, розового, лилового цветения вереска. Чтобы посмотреть сверху на море, на его переливчатую предзакатную дрему. Чтобы подставить щеку теплому урагану, который будет безжалостно трепать ее юбку и, возможно, отнимет и унесет траурный атласный поясок ее кофточки.
По ее глазам он читает, что Ариша впервые за весь этот курс начисто забыла про пятьдесят две серебряные иглы, вколотые в самые спорные мгновения ее прошлого, в самые уязвимые точки ее тела. И тогда, пользуясь ее бескрайним доверием, воодушевлением и негой, он подходит совсем близко, заглядывает Арише в глаза, не без удовольствия отмечает жадно расширенные зрачки и сумасбродные игривые искорки. Он слегка наклоняется, будто намереваясь нежно коснуться губами ее острого плеча. Он бормочет: «Вот ты и снова в цвету, милая девочка». И когда она уже трепещет, когда ее тело превращается в теплый струящийся мед, когда она ждет с нетерпением, почти со стоном, он молниеносно вонзает последнюю, пятьдесят третью иглу в самый центр ее живота, в солнечное сплетение, в неразрешимый узел ее судьбы. А секунду спустя медленно и ласково утирает тыльной стороной ладони молчаливую слезинку с ее щеки, укатившуюся ручейком до самого подбородка. Потом он мастерски прикидывается утомленным, раздраженным, слегка простуженным. Он умело делает вид, что не замечает, как дрожат ее губы. И старательно прячет взгляд среди заоконных пятиэтажек, чтобы не видеть ее глаз, чтобы не вникать в ее жизнь сильнее, чем ему следует.
В предпоследний день курса Ариша снова не нашла выключатель, как всегда, замешкалась в прихожей, разыскивая сапоги среди завала чужой обуви, будто бы отплясывающей в полумраке на занозистом паркете залихватскую лезгинку. Как всегда после игл, она едва держалась на ногах, чувствовала себя отчаянно уставшей, но в то же время была освобожденной, преодолевшей уготованные ей муки — и от этого почти счастливой. В последние дни ни одна даже самопроизвольная слезинка не выкатилась из ее глаз. В подтверждение тому тональный крем на ее щеках лежал как на картинке: заглянув в мутное зеркало, она решила не пудриться перед выходом.
Он неслышно возник в коридоре, пригладил волосы двумя руками, включил свет, привалился плечом к стене и насупленно наблюдал, как она натягивает и застегивает сначала один сапог, потом второй.
— Остался у нас с тобой всего один день. И потом все, разлука нам предстоит. И я ведь буду по тебе сильно скучать, — тихим проникновенным баском шутит он. — Так уж и быть, поставлю напоследок тридцать пять игл. Всего-навсего. Что для тебя теперь тридцать пять игл? Ты уж позволь старику такой прощальный привет, закрепляющий эффект курса. Полежишь с ними минут десять, а дальше — все как ты мечтаешь, милая девочка.
Поедем с тобой кататься по набережной и курить по очереди трубку Сталина. Ты была послушной последние дни. Ты заслужила, и я тебя слегка побалую.
Ариша расчесывает волосы, украдкой наблюдая его в мутном зеркале. Уперев кулак в бок, лениво и барственно, он рассказывает про Сталина. Всякие небылицы, скорее всего, вычитанные в дешевых развлекательных газетках. Душещипательные факты, производящие впечатление и отнимающие на пару секунд покой у обывателя. О том, как Сталин бросился в могилу, когда в землю опустили гроб с его первой женой Като. Они прожили вместе всего один год. Но, по-видимому, это была любовь всей его жизни. Во время ее похорон он сказал, что холодный камень навсегда вошел в его сердце, и с тех пор он утратил сочувствие к людям.
— Видишь, милая девочка, случается иногда любовь. Даже с таким зверем, как Сталин… Эх, его бы сюда, под мои иглы, — самодовольно бормочет он. — Я бы его тут восстановил, вернул к жизни. Курса за три-четыре изъяли бы мы этот холодный камень из его сердца. Снова смог бы он у меня полюбить и людей, и женщин. И ты еще полюбишь по-настоящему, милая девочка. И тебя еще — ох как полюбят — всякие твои гибкие мальчики и бесполезные мужчинки…
Потом была среда, самый конец апреля. Снег растаял, земля успела слегка просохнуть и будто бы сжалась, затаилась в ожидании долгожданного тепла, чтобы насытиться и буйно пробиться в весну. Ариша вся была нетерпение и трепет, она почти бежала через дворы, ее старательно завитые волосы пружинили на плечах, а полы серого пальто были распахнуты, как крылья. Она была готова к чему угодно, щеки ее пылали, от этого хлесткий и льдистый апрельский сквозняк казался теплым, совсем весенним. Спеша, она вдруг зачем-то вспоминала свои протестные, мелочные измены последних лет. Все опустошительные и неловкие соития, направленные на самоутверждение, на утешение, а приносившие лишь горечь и злобу. Вдруг они пронеслись в ее сознании не как черно-белый трагичный фильм, а будто какой-то необязательный рекламный ролик или незначительный фрагмент телесериала, демонстрируемый в дешевом придорожном кафе. Они впервые показались ей смехотворными, незначительными и эпизодическими, как детский браслетик из леденцов, купленный на юге для кратковременного восторга: однодневная, неважная, проходная вещица. Никакого камня в горле. Никакой рыбной кости, впивающейся в сердце, курочащей внутренности до слез. Боль ушла начисто. И горечь рассеялась. Даже эпизод, обычно заставлявший зажимать рот ладонью, совсем недавно выламывавший все суставы от безграничного стыда, начисто утерял свою силу. Как обреченно она ползла по коридору в тот день. В сиреневых стрингах. В лаковых туфлях на шпильке. Как она ползла на коленях, понуро опустив голову, повиливая бедрами из стороны в сторону. Медленно и манерно, беспечно и бесчувственно. А мужчина — совершенно неважно, кто именно, — стоял над ней в дверном проеме, наблюдая пошловатую и фальшивую игру. Стоял как страж, как часовой и палач одновременно. И через несколько минут уже тащил ее в ванную, окатывал ей лицо ледяной водой, швырял в нее одежду, выставляя вон из своей жизни, потому что и без нее был сыт по горло фальшью, пустотой и полнейшим отсутствием тепла.
На этот раз Ариша даже не замечает, как оказалась на третьем этаже, перед заученной наизусть зеленой железной дверью. Ни одышки, ни сердцебиения, душа легче перышка, настроение игривое, как когда-то давно — даже не верится, что такое еще возможно. Она застывает перед заветной дверью, превратившись в дрожь, вспомнив, как неделю назад он рассказывал, что Сталин обычно набивал трубку табаком из папирос. Потрошил папиросы, как людей, вытряхивал из них табак и потом курил его в своей трубке. Он курил молчаливо и насупленно. Особенно если кто-нибудь рядом с нетерпением ждал ответа. Особенно когда решалась чья-то судьба. Сталин замирал, затягивался, смаковал табачный вдох и тянул время, превращая человека этим своим молчаливым курением трубки в оторопь, в страх, превращая человека навсегда, до последнего вздоха, в отчаянье, в покорность.
Ариша звонит в дверь, долго и настойчиво. Она звонит и ждет. Она звонит и представляет, как он сейчас снисходительно и неторопливо продвигается по коридору в прихожую. Пропахший кофе и сладковатым табаком, добродушный и утомленный, совершенно невозможный в ее прошлой и будущей жизни. Ариша ждет, превратившись в нетерпение. Звонит еще раз, объясняя промедление тем, что он бормочет в мобильный, как сюда добраться. Ариша ждет, представляя, как все случится. Вечерняя набережная, его машина, обжигающий и горький вдох, дым во рту. Она отчетливо чувствует наждак его щетины щекой. Она уже наизусть, заранее знает его руки и прекрасно представляет их ласки. И снова звонит, звонит и ждет, звонит и ждет. Потом, нечаянно посмотрев на часы, Ариша узнает, что прошел час. До нее доходит, что он не откроет. Ее курс закончен. И теперь надо идти домой, возвращаться в свою повседневную жизнь. Тридцать пять последних игл разом впиваются ей в душу.
Ровно десять минут она усилием воли заставляет себя дышать, командуя его словами: «Ну, милая девочка, вдох. А теперь выдох. И плюй на все». На негнущихся ногах, не различая дороги, она понуро бредет через нескончаемые, пахнущие тушенкой и ваксой дворы пятиэтажек. В ближайшие несколько дней она будет каждые пять минут заглядывать в телефон, проверяя, не пришла ли от него эсэмэс с извинением. Или приглашение прийти на последний сеанс курса. В ближайший месяц ей будет казаться незначительным и неважным все, что с ней когда-либо произошло перед его иглами. И даже постижение науки слез покажется ей смехотворным. Пару раз, как бы нечаянно, тихим затаившимся призраком она явится побродить в нескончаемые дворы возле его пятиэтажки. Ни на что особенно не надеясь, обнимая себя руками, дрожа под плащиком, заглядывая в непроницаемые мутные окна, отражающие низкие, нависшие над крышами облака. Целый год она будет уверена, что он сдержит свое обещание, что он когда-нибудь обязательно прокатит ее по набережной, и они будут курить трубку Сталина по очереди в его машине. А потом все это неожиданно пройдет. Забудется. Отпустит. И однажды она вспомнит только лишь эти его слова: «Постарайся найти того, кто превратит тебя в любовь, милая девочка». И она будет очень стараться.
Назад: Валерия Нарбикова Три истории
Дальше: Илья Веткин Вилла Триора

