ГЛАВА 3
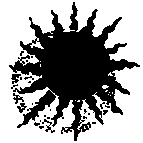
20 декабря, четверг
Сегодня Тьерри снова заходил, но Зози взяла его на себя — уж не знаю, что там она ему сказала. Я ей стольким обязана — и это, кстати, меня больше всего и тревожит. Но я не забыла того, что увидела тогда, тайком заглянув в магазин; не забыла и того крайне неуютного ощущения, когда мне казалось, что я как бы наблюдаю за самой собой — точнее, за той Вианн Роше, какой была прежде, словно возродившейся в лице Зози де л'Альба, перенявшей все мои кулинарные методы, мою манеру поведения и тем самым словно подстрекавшей меня вызвать ее на поединок…
Я весь день исподтишка наблюдала за ней, как, впрочем, и вчера, и позавчера. Розетт играла себе тихонько; в теплом воздухе кухни плавали ароматы гвоздики, алтея, корицы и рома; руки мои были все перепачканы сахарной глазурью и порошком какао; на полках сияла медная посуда; на плите кипел, дребезжа, чайник. Все казалось таким знакомым, таким до нелепости уютным и умиротворенным, и все же какая-то часть моей души никак не могла успокоиться. Каждый раз, стоило звякнуть колокольчику над дверью, я выглядывала в магазин и проверяла.
Зашел Нико и с ним Алиса, оба выглядели до смешного счастливыми. Нико уверяет меня, что похудел, несмотря на свою приверженность к миндальному печенью с кокосовой стружкой. Обычный человек разницы может и не заметить (он по-прежнему столь же огромен и чрезвычайно доброжелателен), но Алиса говорит, что он действительно потерял уже пять килограммов и теперь застегивает свой ремень на три дырочки туже. Я слышала, как он говорил Зози:
— Вот что значит — влюбиться. Похоже, лишние калории просто сгорают! Слушай, какая у вас отличная елка! Совершенно потрясная! Хочешь такую, Алиса?
Голосок Алисы расслышать было куда труднее. Но она, по крайней мере, теперь говорит; а сегодня ее маленькое личико с острыми чертами даже обрело кое-какие краски. Рядом с Нико она выглядит сущим ребенком, но ребенком счастливым, и больше, похоже, потерявшейся она себя не чувствует, хотя глаз с его лица попросту не сводит.
Глядя на них, я сразу вспомнила те две фигурки, сделанные из проволочного ершика для чистки курительных трубок, что стоят в нашем святочном домике перед елочкой, взявшись за руки.
Затем пришла мадам Люзерон; она теперь заходит к нам гораздо чаще, неторопливо пьет шоколад-мокко и играет с Розетт. Она тоже стала гораздо спокойнее, а сегодня даже надела под свое теплое черное пальто ярко-красную двойку. И, опустившись на колени, с наслаждением катала по полу вместе с Розетт деревянную собачку…
К их игре присоединились Жан-Луи и Пополь, а также Ришар и Матурен, которые, как всегда, зашли к нам по пути в парк, где играют в петанк. Заглянула мадам Пино — еще полгода назад она ни за что бы к нам не зашла; теперь Зози называет ее просто по имени — Эрмина, а сама мадам Пино тоном завсегдатая бросает: «Мне как обычно…»
В привычной суете день быстро катился к вечеру, и меня искренне тронуло то, что очень многие наши покупатели принесли с собой подарки для Розетт. Я совсем позабыла, что они наверняка не раз видели ее и раньше, когда в магазине хозяйничает Зози, а я торчу на кухне, занятая готовкой, но даже если это и так, все равно такого внимания я не ожидала; пришлось в очередной раз вспомнить о том, скольких друзей мы приобрели с тех пор, как — всего месяц назад — у нас стала работать Зози.
Среди подарков имелись: деревянная собачка от мадам Люзерон, расписная зеленая чашечка в виде яйца от Алисы, мягкая игрушка — кролик — от Нико, паззл от Ришара и Матурена, портрет обезьянки от Жана-Луи и Пополя. Даже мадам Пино из магазина на углу забежала еще раз, чтобы подарить Розетт желтый обруч для волос и заказать фиалковые помадки, к которым она питает несказанную слабость, граничащую с алчностью. Потом, как обычно, явился Лоран Пансон, тут же стащил несколько кусков сахара и сообщил мне с каким-то торжествующим унынием, что бизнес «у всех ни к черту», а на улице Трех Братьев он только что видел женщину-мусульманку в настоящей парандже до самой земли. Уходя, Лоран как бы случайно выронил на стол маленький сверток и велел Розетт его развернуть; там оказался розовый пластмассовый браслетик на счастье, который ему, по всей видимости, принесли вместе с рекламным номером журнала для тинейджеров; но Розетт просто влюбилась в этот браслетик и теперь отказывается его снимать, даже купаясь в ванне.
А перед самым закрытием вдруг опять явилась та странная женщина, что приходила вчера; она купила еще одну коробку трюфелей и тоже оставила для Розетт подарок. Это меня особенно удивило — ведь она отнюдь не из числа наших завсегдатаев; по-моему, даже Зози не знает, как ее зовут. А когда мы распаковали ее подношение, то удивились еще сильнее. В свертке оказалась коробка, а в ней — кукла-младенец; не очень большая, но, безусловно, антикварная; у нее мягкое тряпичное туловище и фарфоровая голова; из отделанного мехом капора выглядывает симпатичное личико. Розетт, конечно, была в восторге, но я сочла, что нельзя принимать столь щедрый подарок от незнакомки, убрала куклу в коробку и снова все завернула, намереваясь непременно вернуть той женщине — если, конечно, она еще раз к нам зайдет.
— Да что ты беспокоишься, — сказала Зози. — Кукла наверняка принадлежала ее детям или племянникам. Ты вспомни, как мадам Люзерон притащила нам мебель из своего кукольного домика.
Я возразила:
— Но она просто одолжила нам эту мебель. Временно.
— Да брось, Янна, — усмехнулась Зози. — Не стоит так подозрительно относиться ко всему на свете. Надо предоставить людям возможность…
Ее перебила Розетт; тыча пальчиком в коробку, она требовательно изображала жестами слово «ребенок».
— Ну хорошо, — сдалась я. — Но только на сегодняшний вечер.
Розетт издала свое, почти беззвучное, победоносное карканье.
Зози улыбнулась:
— Видишь? Не так уж это и трудно.
И все-таки я чувствую себя не в своей тарелке. Бесплатный сыр ведь действительно бывает только в мышеловке; крайне редко что-то достается человеку просто так — за любой подарок, за любое проявление доброты обычно приходится расплачиваться сполна Уж этому-то жизнь меня научила. Именно поэтому я теперь стала куда осторожней. Именно поэтому я и повесила над дверью колокольчики — чтобы они вовремя предупредили меня о появлении Благочестивых, явившихся получить должок…
Сегодня вечером Анук вернулась из школы и, как обычно, ничем свое возвращение не обозначила — только туфли застучали по деревянной лестнице, когда она взлетала к себе. Я попробовала припомнить, когда в последний раз она здоровалась со мной, как прежде, — когда, разыскав меня на кухне, принималась обниматься и целоваться, неумолчно болтая обо всем на свете. Я все пытаюсь убедить себя, что стала чересчур чувствительной. Но ведь было время, когда она попросту не могла забыть поцеловать меня — как не могла забыть, скажем, о своем Пантуфле…
Да, теперь я была бы рада даже Пантуфлю. Мельком увидеть ее серенького спутника, услышать от нее хоть одно, пусть самое незначительное, слово. Заметить хоть какой-то признак того, что моя летняя девочка, моя прежняя Анук еще не совсем исчезла. Но Пантуфля я давно уже не видела, да и Анук со мной почти не разговаривает — ни о Жане-Лу Рембо, ни о своих школьных друзьях, ни о Ру, ни о Тьерри, ни даже о предстоящем празднике. Я знаю, сколько сил она уже положила на подготовку к этому празднику: написала приглашения на кусочках картона и каждое украсила веточкой падуба и нарисованной обезьянкой, не забыв привести меню праздничного стола и список предполагаемых игр и забав.
Я вдруг поймала себя на том, что смотрю на нее через обеденный стол и думаю: «Какой внезапно взрослой стала моя дочь, какой пугающе прелестной: темные волосы, синие, как грозовая туча, глаза, живое, подвижное лицо и обещание в будущем высоких изящных скул».
Я все смотрю и смотрю на нее; любуюсь тем, как грациозно, чуть прикусив от старания губу, она склоняет головку над именинным тортом, покрытым желтой глазурью, как трогательно она ведет себя с Розетт, как умилительно выглядят крошечные ручки Розетт в ее уже почти взрослых руках. «Задуй свечи, Розетт, — говорит она. — Нет, не плюйся. Дуй. Вот так».
Я обнаружила вдруг, что особенно внимательно слежу за ней, когда она рядом с Зози…
Ах, Анук! Как быстр этот переход от света к тени, от существования в центре чьего-то мироздания к превращению в ничто, в некую несущественную деталь на самой границе, скрывающуюся в тени и мало кого интересующую…
Поздним вечером я вновь спускаюсь на кухню, чтобы сунуть в стиральную машину школьную одежду Анук. На мгновение я прижимаю ее вещи к лицу, словно в них могла задержаться какая-то ее часть, мною утраченная. От ее одежды исходит запах улицы, благовоний из комнаты Зози и сладковатый, солодовый запах пота, похожий на запах печенья. И я на миг чувствую себя женщиной, которая роется в одежде любовника, ища там свидетельства его неверности…
И в кармане ее джинсов я действительно нахожу кое-что. Эту вещь она явно забыла оттуда вынуть. Точно таких же куколок из деревянных крючков от платяных вешалок она мастерила для украшения витрины. Но внимательнее вглядевшись в эту куколку, я начинаю понимать, кого она обозначает; я замечаю символы, изображенные на ней фломастером, и три рыжих волоска, привязанные к ее талии; а если прищуриться, тогда можно различить даже некое слабое сияние, разливающееся вокруг этой куколки. Это сияние настолько мне знакомо, что в ином случае я бы на него, наверное, и внимания не обратила…
Я подхожу в витрине: в святочном домике к завтрашнему дню уже подготовлена новая сценка. Теперь открыта дверь в столовую, и видно, что все собрались вокруг стола, ожидая, когда же разрежут шоколадный торт. На праздничной скатерти заняли свое место крошечные свечи, крошечные тарелочки и бокалы, и я, всматриваясь все более внимательно, узнаю почти всех присутствующих — Толстяка Нико, Зози, маленькую Алису в огромных ботинках, мадам Пино с ее вечным распятием, мадам Люзерон в черном траурном пальто, Розетт, себя, даже Лорана… и Тьерри; но Тьерри в дом не пригласили, и он стоит в саду под заснеженными деревьями.
И все фигурки излучают то же слабое золотистое сияние…
Такая мелочь, казалось бы…
Но она имеет огромное значение.
В самой игре, разумеется, никакого вреда нет, рассуждаю я про себя. С помощью игры дети постигают мир, делают его понятным и разумным, а всякие выдуманные ими истории, даже самые мрачные, — это всего лишь средства, с помощью которых они учатся жить и мириться с утратами, с жестокостью, со смертью…
Но в той сцене, в том домике воплощено нечто большее. Там стол, за которым сидят родные и друзья, свечи, елка, шоколадное полено — все это внутри дома. А снаружи сцена совсем иная. Глубокий снег в виде сахарной глазури покрывает землю и деревья; озеро с утками замерзло; исчезли сахарные мышки-христославы, певшие рождественские гимны, и длинные, смертельно опасные сосульки — сахарные, но острые, как стекло, — свисают с ветвей деревьев.
Тьерри стоит как раз под этими страшноватыми сосульками, а из соседнего леска за ним с угрозой следит сделанный из темного шоколада снеговик, огромный, как медведь.
Я вгляделась пристальней — нет сомнений, эта деревянная куколка удивительно похожа на Тьерри: его одежда, его волосы, его мобильный телефон, даже выражение лица похоже, подчеркнутое противоречивой морщинкой между бровями и точками, изображающими глаза.
Есть там и еще кое-что. На сахарном снегу концом детского пальчика изображен некий спиралевидный символ. Я такой уже видела раньше в комнате Анук — он был нарисован мелом на грифельной доске, и карандашом в ее блокноте, и сотни раз воспроизведен на полу с помощью пуговиц и фигурок паззла. И это он теперь сияет там, на снегу, исполненный неоспоримого великолепия…
И я начинаю понимать. Эти знаки, нацарапанные под прилавком. Эти мешочки со снадобьями, повешенные над дверью. И необычайный приток покупателей; и множество друзей, появившихся у нас недавно; и все те перемены, что случились здесь за последние несколько недель. Все это значительно серьезнее, чем детская игра. Это гораздо больше похоже на тайную кампанию по захвату чужой территории, причем до сих пор я даже не подозревала о том, что эта территория — моя территория! — может стать предметом чьих-то притязаний.
Интересно, что за генерал руководит этой кампанией?
Неужели мне еще нужно спрашивать?

