ГЛАВА 5
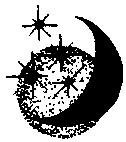
19 ноября, понедельник
Сегодня Сюзи пришла в школу в платке и даже в классе его не сняла. Парикмахерша, делая ей «перышки», так сожгла волосы, что они стали выпадать прядями. По словам парикмахерши, у Сюзи оказалась какая-то особая реакция на перекись водорода — Сюзи ведь соврала ей, что уже делала «перышки»; парикмахерша утверждает, что ее вины тут нет никакой, просто волосы у Сюзанны сильно повреждены бесконечными горячими укладками и выпрямлениями, и если бы Сюзанна сразу сказала ей правду, можно было бы взять другой раствор и ничего подобного не случилось бы.
Сюзанна говорит, что ее мать собирается подать на эту парикмахерскую в суд за нанесение физического и морального ущерба.
А по-моему, вышло просто клёво.
Нет, я понимаю, что не должна радоваться: все-таки Сюзанна — моя подруга. Хотя, может, и не подруга, во всяком случае, не совсем. Друг стоит за тебя горой, если ты в беду попадаешь, и уж точно не станет со всякими врединами общаться.
«Друг всегда тебе руку протянет», — говорит Зози. Когда у тебя есть настоящие друзья, тебя никто не заставит вечно водить в игре.
В последнее время мы с Зози часто беседуем. Она отлично понимает, каково это — в моем возрасте быть не такой, как все. Она мне рассказывала, что у ее матери был магазин, а кое-кому это очень не нравилось, и однажды этот магазин даже попытались поджечь.
— Немного похоже на то, что случилось с нами, — сказала я.
А потом мне ничего не оставалось, как рассказать ей и все остальное. О том, как нас занесло ветром в деревню Ланскне-су-Танн в начале Великого поста, и как мы устроили там шоколадную лавку прямо напротив церкви, и как нас возненавидел тамошний кюре; я рассказала и обо всех наших друзьях, и о речных людях, и о Ру, и об Арманде, которая умерла так же, как и жила — без сожалений, без слов прощания, чувствуя во рту вкус шоколада.
По-моему, все-таки не стоило все это ей выкладывать. Но промолчать оказалось ужасно трудно — тем более с таким человеком, как Зози. И потом, она же у нас работает. Она на нашей стороне. Она нас понимает.
— Я ненавидела школу, — сказала она мне вчера. — Ненавидела и детей, и преподавателей. Всех, кто считал меня уродиной, изгоем, кто не желал садиться со мной за одну парту, потому что от меня вечно пахло всякими травами и магическими бальзамами, которые мама совала мне в карманы: асафетидой (господи, это же просто сорняк!), пачулями, потому что они вроде бы способствуют развитию духовности, «кровью дракона», которая повсюду оставляет красные пятна… В общем, поэтому ребята надо мной смеялись и говорили, что от меня воняет и у меня гниды. В это оказались втянуты даже учителя, а одна учительница — ее звали миссис Фуллер — даже провела со мной беседу о личной гигиене…
— Гадость какая!
Зози усмехнулась.
— Ничего, я им отплатила.
— Как?
— Как-нибудь в другой раз, ладно? Дело в том, Нану, что я в течение долгого времени считала, что сама во всем виновата. Что я действительно урод, что я никогда ничего в жизни не достигну.
— Но ты ведь такая умная… и такая яркая, просто потрясающая…
— Тогда я совсем не казалась себе ни умной, ни яркой. Я вообще никогда не чувствовала себя ни достаточно хорошей для них, ни достаточно чистой, ни достаточно доброй. И никогда не пыталась хоть что-нибудь предпринять, чтобы изменить это. Я просто смирилась с тем, что я хуже всех. Кроме того, я постоянно разговаривала с Минди…
— Со своей невидимой подружкой?
— …и люди, разумеется, надо мной смеялись. Хотя в школе к этому времени уже не имело значения, как я себя веду и чем занимаюсь. Они в любом случае стали бы надо мной смеяться, что бы я ни делала.
Она умолкла, а я смотрела на нее и пыталась представить себе, какой она тогда была. Пыталась представить себе Зози без ее уверенности в себе, без ее красоты и стильности…
— А в красоте, кстати, — сказала Зози, — самое главное то, что в действительности она практически не зависит от внешности человека. Дело не в цвете твоих волос, не в размере твоей одежды, не в том, какая у тебя фигура. Главное — то, что здесь… — И она постучала себя по лбу. — Важно также, какая у тебя походка, как ты говоришь, что думаешь… А если ты держишься вот так…
И тут она вдруг сделала нечто такое, отчего я просто оторопела. Она изменила свое лицо. Не то чтобы скорчила рожу или губы надула — нет, она просто опустила плечи, потупилась и отвела в сторону глаза, рот при этом как-то странно обмяк, волосы свесились наперед, скрывая лицо, и она вдруг совершенно перестала быть собой, а превратилась в кого-то другого, хотя и одетого в ее платье; и эта женщина вовсе не была безобразной, нет, просто она была совсем иной — на такую второй раз и смотреть-то не станешь, такую, едва заметив, сразу же и позабудешь, стоит мимо пройти.
— …или же, наоборот, вот так…
Она выпрямилась, тряхнув волосами, и тут же вновь стала прежней великолепной Зози — с звенящими амулетами на руке, с розовой прядью в волосах, в своей черно-желтой крестьянской юбке и ярко-желтых открытых босоножках на платформе, которые на ком-то другом, наверное, выглядели бы просто нелепо, но на ней смотрелись потрясающе, потому что Зози — это Зози и на ней все всегда смотрится потрясающе.
— Вот это да! — воскликнула я. — А меня ты этому научить можешь?
— Уже научила! — смеясь, сказала она.
— Но это похоже на… магию, — заметила я и покраснела.
— Ну и что? Магические трюки действительно по большей части очень просты, — серьезно ответила Зози.
Если бы это сказал мне кто-то другой, я бы, наверное, решила, что надо мной просто смеются. Но Зози так поступить не могла, нет, никогда.
— Но ведь настоящая магия все-таки существует, — сказала я.
— Ну так назови это как-нибудь еще. — Она пожала плечами. — Назови это, если хочешь, осанкой. Или харизмой. Или очарованием. Или шармом. Потому что в основном всего-то и нужно выпрямиться, посмотреть человеку в глаза, улыбнуться самой убийственной своей улыбкой и сказать: «Да идите вы все в задницу! Я великолепна!»
Я рассмеялась, и не только потому, что она произнесла слово «задница».
— Как бы мне хотелось тоже так уметь! — сказала я.
— А ты попробуй, — посоветовала Зози. — И возможно, сама удивишься.
Мне, конечно, сегодня повезло. Сегодня вообще — день исключительный. И даже Зози ничего не могла знать о том, что случилось. А я действительно чувствовала себя сегодня иначе — более живой и бодрой, словно ветер переменился.
Во-первых, дело было в том, что сказала мне Зози насчет осанки и отношения ко всему на свете. Я пообещала ей, что непременно попробую вести себя именно так, и попробовала; и в то утро я чувствовала себя несколько более уверенной, тем более что голова у меня была только что вымыта, и я немножко подушилась духами Зози с ароматом роз, и потренировалась перед зеркалом в ванной, стараясь улыбаться «убийственно».
Должна сказать, что получалось не так уж и плохо. До идеала, конечно, далеко, но все же чувствуешь себя совсем по-другому, когда выпрямишься, улыбнешься и скажешь те слова (хотя бы про себя).
Я и выглядела тоже иначе: я стала как-то больше похожа на Зози, на такого человека, который вполне способен грубо выругаться даже в магазине «Английский чай», не обращая ни малейшего внимания на окружающих.
«Это не магия», — уверяла я себя и краешком глаза видела Пантуфля, который, по-моему, поглядывал на меня не слишком одобрительно и от неудовольствия дергал носом.
— Да ничего страшного, Пантуфль, — успокоила я его тихонько, — это вовсе не магия. Это разрешено.
Затем случилась эта история с Сюзи, когда она явилась в школу в платке. Похоже, она собиралась носить платок, пока у нее снова не отрастут волосы, хотя вид у нее в этом платке не очень. В нем она похожа на рассерженный шар для боулинга. Кроме того, все начали говорить ей вслед «Аллах акбар», а Шанталь стала смеяться над ней; Сюзи страшно расстроилась, и они напрочь рассорились.
После чего Шанталь весь обеденный перерыв болтала с другими подружками, а Сюзанна, естественно, явилась ко мне и стала плакаться в жилетку, но я в тот момент особой жалости к ней не испытывала, и, кроме того, я была не одна.
И это уже третье, о чем следует упомянуть.
Все началось утром, на одной из переменок. Наши, как всегда, забавлялись, кидая друг другу теннисный мячик; в игре не участвовали только Жан-Лу Рембо, как всегда уткнувшийся в книгу, и несколько «отщепенцев» (в основном девочки-мусульманки), которые никогда ни во что не играют.
Когда я вошла в класс, Шанталь как раз бросила мяч Люси и крикнула: «Анни водит!» — и все тут же заржали, принялись перекидывать мяч через всю комнату и орать: «Подпрыгни! Подпрыгни!»
В другой день я, может, и присоединилась бы к игре. В конце концов, это же просто игра, и лучше уж быть водящей, чем вообще оставаться вне игры. Но сегодня я упражнялась в том особом отношении к окружающим, которое посоветовала мне Зози.
И я подумала: «А что бы на моем месте сделала она?» И сразу поняла, что Зози скорее умерла бы, чем стала водить.
Шанталь все еще кричала: «Подпрыгни, Анни, подпрыгни!», словно я какая-то собачонка, и я быстро глянула на нее, но так, словно никогда прежде ее и не видела.
Знаете, я всегда считала ее хорошенькой. Она просто не может не быть хорошенькой, ведь она столько времени уделяет своей внешности. Но сегодня я вдруг увидела ее совсем в ином свете, я разглядела цвета ее ауры и ауры Сюзанны тоже; я так давно ничего подобного разглядеть не могла, что, уже не скрываясь, пялила на них глаза, такими безобразными — нет, действительно безобразными! — показались мне они обе.
Остальные тоже, должно быть, кое-что заметили, потому что, когда Сюзи бросила мяч, его никто не подхватил. И я почувствовала, что они собираются в кружок, словно в предвкушении битвы или чего-то необычного, явно стоящего внимания.
Шанталь явно не нравилось, что я так на нее смотрю.
— Да что с тобой такое сегодня? — спросила она. — Неужели ты не знаешь, что пялиться на других неприлично?
Я лишь улыбнулась и продолжала «пялиться».
Я заметила, что Жан-Лу Рембо у нее за спиной оторвался от своей книги и смотрит на нас. И Матильда тоже внимательно наблюдала за нами, слегка приоткрыв от изумления рот, и Фарида с Сабиной перестали болтать в уголке, и Клод слегка улыбался — знаете, как улыбается человек, если во время дождя вдруг на мгновение проглянет солнце.
Шанталь одарила меня одним из самых своих презрительных взглядов и сказала:
— Да, кое-кто из нас может позволить себе настоящую жизнь. Ну а ты, я полагаю, вынуждена развлекаться по-своему.
Я знала, что ответила бы ей Зози. Но я не Зози, я ненавижу всякие сцены, мне даже захотелось просто сесть за парту и отгородиться от всех какой-нибудь книжкой. Но я же обещала Зози, что непременно попробую! В общем, я выпрямилась, посмотрела Шанталь в глаза и прямо-таки наповал сразила всех своей убийственной улыбкой.
— Да идите вы все в задницу! — преспокойно заявила я. — Я великолепна.
И, подняв теннисный мячик, который как раз подкатился к самым моим ногам, швырнула его, и он — чпок! — угодил Шанталь прямо по башке.
— Ты водишь, — бросила я ей, повернулась и пошла в конец класса.
Возле парты Жана-Лу я остановилась. Он даже и не притворялся больше, что читает, а смотрел на меня, приоткрыв от удивления рот.
— Хочешь поиграть? — спросила я, чувствуя себя на коне.
И он пошел за мной.
Проболтали мы с ним довольно долго. Оказывается, вкусы у нас во многом сходятся. Нам обоим нравятся старые черно-белые фильмы, фотография, Жюль Верн, Шагал, Жанна Моро, местное кладбище…
Мне Жан-Лу раньше всегда казался немного высокомерным — он, например, никогда не играет с ребятами, впрочем, возможно, потому, что на год нас всех старше и вечно фотографирует всякие странные вещи своей маленькой цифровой камерой; я и заговорила с ним только потому, что знала: Шанталь и Сюзи это заденет.
А он оказался вполне ничего, посмеялся, когда я рассказала ему о Сюзи и ее списке, а когда узнал, где я живу, воскликнул:
— Так ты живешь прямо в той шоколадной лавке? Вот здорово!
Я пожала плечами.
— Да, неплохо.
— А шоколад ты ешь?
— Все время.
Он завистливо закатил глаза, и я рассмеялась. А потом…
— Погоди-ка, — сказал он, вытащил свой фотоаппарат — серебристый, чуть больше спичечного коробка — и мгновенно меня щелкнул. — Ну вот, готово!
— Эй, прекрати! — крикнула я и отвернулась.
Не люблю, когда меня фотографируют.
Но Жан-Лу посмотрел на маленький экранчик своей камеры, ухмыльнулся и предложил мне:
— Посмотри-ка.
Собственные фотографии мне доводилось видеть нечасто. Те несколько штук, что у меня есть, сделаны для документов — белый фон, серьезное лицо без улыбки. А на этом снимке я смеялась. Жан-Лу сфотографировал меня под каким-то немыслимым углом — как раз в тот момент, когда я к нему повернулась и волосы разлетелись облаком, а на лице сияла улыбка…
Он улыбнулся:
— Ну согласись: получилось очень неплохо.
Я пожала плечами.
— Пожалуй. Отличный снимок. И давно ты фотографией занимаешься?
— С тех пор, как впервые попал в больницу. У меня три камеры; самая любимая — старая ручная «Яшика», ею я снимаю только на черно-белую пленку, но и эта, цифровая, тоже хорошая, ее можно повсюду с собой носить.
— А почему ты попал в больницу?
— Да у меня с сердцем нелады, — поморщился он. — Я потому и в школе целый год пропустил, точнее, четыре месяца: у меня две операции было. В общем, неудачно получилось.
(«Неудачно» — любимое словечко Жана-Лу.)
— Неужели все так серьезно? — встревожилась я.
Жан-Лу пожал плечами.
— Вообще-то я даже умер. На операционном столе. И пятьдесят девять секунд был по-настоящему мертвым.
— Ого! — восхитилась я. — А шрам у тебя есть?
— О, этого добра у меня полно, — ответил он. — Весь разрисован, как псих какой-то.
Я и заметить не успела, когда мы стали разговаривать, как старые друзья. Я рассказала ему о маме и о Тьерри, а он рассказал мне, что его родители развелись, когда ему девять лет было, а в прошлом году его отец снова женился, но ему-то самому безразлично, хорошая она, эта новая отцовская жена, или нет, потому что…
— Потому что когда они хорошие, больше всего их и ненавидишь! — с улыбкой договорила я за него.
Он засмеялся, и мы буквально сразу, просто так, вдруг почувствовали, что подружились по-настоящему. Спокойненько так, без всяких там объяснений, и мне отчего-то стало совершенно безразлично, что Сюзанна предпочитает мне Шанталь или что я всегда вожу, когда они играют теннисным мячиком.
И на остановке школьного автобуса мы с Жаном-Лу стояли в самом начале очереди, а Шанталь и Сюзи, стоя, как всегда, в середине, бросали на меня гневные взгляды, но ничего не говорили. Вообще ничего.

