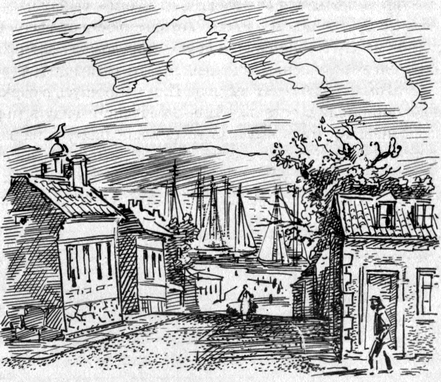Книга: Шхуна, которая не хотела плавать
Назад: Глава одиннадцатая БЁРИНСКИЕ РЕБЯТА
Дальше: Глава тринадцатая С ДУШОЙ СТОЛЬ ЧИСТОЙ
Глава двенадцатая
ГИГАНТСКАЯ АКУЛА И ГИГАНТСКАЯ БАСКСКАЯ ИДЕЯ
Через два дня после прибытия Майка мы взяли курс на Сен-Пьер, который лежит в пятидесяти милях к западу от кончика сапогообразного завершения полуострова Бёрин. Я с надеждой предвкушал легкий переход. Ведь плавание предстояло каботажное — все время в виду суши, а потому я не думал, что причуды компаса что-нибудь испортят. Двигатель работал лучше, чем когда-либо прежде. Течи, казалось, угомонились. Во всяком случае, физических сил Майка хватало, чтобы держать их под контролем. Мы вдоволь запаслись съестными припасами и ромом. Даже прогноз погоды не оставлял желать ничего лучшего.
Прогноз этот предсказывал «на рассвете ветер южный, легкий, усиливающийся, смещаясь на двадцать градусов к юго-востоку; видимость четыре мили, кроме как в тумане». Оговорка «кроме как в тумане» фигурировала в каждом прогнозе погоды во время каждого моего плавания в течение шести лет моего пребывания на южном берегу Ньюфаундленда. И в каждом же без тумана не обходилось, за одним исключением. Иногда он встречался «пятнами» шириной всего в несколько миль. Обычно же он бывал куда более внушительным, заволакивая сотни тысяч квадратных миль океанской поверхности. Хотя прогнозы погоды частенько оказывались ошибочными во многих частностях, тумана это, как правило, не касалось.
В честь этого первого его плавания я угостил Майка особым завтраком. Он состоял из овсянки на сгущенном молоке, в которой купались поджаренные полоски бекона, и еще из вареных колечек. Колечки еще один ньюфаундлендский деликатес. Это — самая мелкая треска, провяленная на солнце «колечком», а не разрезанная вдоль, как более крупные рыбины. Вкусом и ароматом они напоминают хорошо выдержанный сыр «чеддер». Майк, не будучи уроженцем Ньюфаундленда, никогда их прежде не пробовал, но не ударил лицом в грязь и съел два колечка. Насчет аромата и вкуса он согласился, но только сказал, что смахивают они больше на овечий сыр.
Мы покинули Спун-Коув в семь часов, едва поднялся бриз, способный наполнить наши паруса и придать нашему отплытию лихость. Час спустя мы обогнули остров Литл-Бёрин, вышли в открытые воды залива Пласеншия и принялись зарываться носом в медлительную, маслянистую зябь, накатывающуюся с юга. Едва «Счастливое Дерзание» начала то взбираться на пологие волны, то ухать между ними, я достал бутылку, сотворил обычное возлияние Морскому Старику и передал стакан Майку, вид у которого стал каким-то задумчивым.
Майк поднес стакан ко рту, резко повернулся и совершил собственное жертвоприношение Старику. Не думаю, что оно было добровольным — языческие суеверия Майку чужды, но в любом случае совершил он его энергично и самозабвенно.
После завершения обряда он томно обернулся ко мне и сказал, что, пожалуй, колечки ему не пришлись, — во всяком случае, дважды за одно утро.
Бриз крепчал, и вскоре мы уже, приплясывая, шли вдоль унылого бёринского берега со скоростью в пять узлов. Майк начал осваиваться и заметно повеселел. Я показал ему, как править по компасному курсу. Компас ему никаких хлопот не доставил, но править он наловчился не сразу. Дело в том, что, в отличие от штурвала, румпель надо поворачивать в сторону, противоположную той, куда требуется повернуть судно.
еще до полудня мы обогнули Лаун-Хед и повернули почти прямо на запад. Ветер начал стихать, а небо все сильней затягивала дымка. Одним глазом я тревожно смотрел в море, не начнет ли приближаться черная стена тумана, а другим следил за угрюмым, окаймленным рифами берегом, вдоль которого мы шли.
Майк, безмятежно стоя у румпеля, больше интересовался океаническим миром и его обитателями. Он пришел в дикий восторг, когда мы прошли через стаю гринд, глянцево-черных крупных дельфинов, длиной футов в пятнадцать и больше, которые так увлеклись, преследуя невидимые скопления кальмаров, что некоторые выскакивали на поверхность и шумно выпускали воздух на расстоянии броска камня от нас.
Майк недавно перечел «Моби Дика» и сгорал от желания испытать страсти и волнения китобоев. Я пропустил мимо ушей его желание спустить плоскодонку, вооружиться нашим багром и собственноручно загарпунить гринду. Нет, в принципе я был не против, но меня тревожила нарастающая пасмурность и быстрое ухудшение видимости, вынуждавшее нас все ближе подходить к весьма негостеприимному берегу.
Беда была в том, что я не мог просто проложить курс по карте и править, сверяясь с компасом, держась подальше от берега. Компас не желал мне этого позволить. Хотя в этот момент шли мы на запад, чуть отклоняясь к югу, компас упорно утверждал, будто мы идем норд-норд-вест.
Так что нам оставался только один выход: сверяться с ориентирами на берегу, а ориентиры на берегах полуострова Бёрин и в лучшем случае не слишком четки.
Около двух часов я повесил бинокль на шею и залез на фок-мачту, надеясь высмотреть Ламалин-Хед, за которым лежит внушительный барьер подводных рифов. Удача мне улыбнулась, и я различил далекий мыс. Почувствовав временную уверенность, я повернул бинокль: не видно ли где другого судна.
В миле по левому борту я увидел нечто непонятное, покрутил бинокль, и оно оказалось гигантской блестящей черной спиной. Я решил, что это кто-то из больших китов — финвал или синий. Поскольку и меня давно приворожили гиганты морей, я крикнул Майку о том, что увидел, и скомандовал держать курс на великана.
Пока мы к нему приближались, Майк был полон энтузиазма, точно ребенок, впервые попавший в зоопарк, и почти столь же неуправляем. Он то и дело бросал румпель и вспрыгивал на крышу каюты, чтобы получше видеть, и мне удавалось удерживать его на посту, только рявкая почище капитана Куига. Он возликовал еще больше, когда я сообщил ему, что это вовсе не кит, а акула — либо полярная, либо гигантская, но в любом случае одна из самых больших подлинных рыб океана.
Она была колоссальна. Нежась на поверхности, выставив спинной плавник точно трисель, акула словно не замечала нашего приближения. Это характерно для обоих упомянутых видов — и та и другая отличаются вялой неторопливостью, и, по-видимому, сообразительность им не свойственна. Возможно, она им не требуется. Этот экземпляр был на добрых десять футов длиннее нашей шхуны, и трудно было представить себе врага, который мог бы угрожать великанше. То есть из жителей морских глубин.
Я, безусловно, угрожать ей не собирался, а уж нападать на нее — тем более. Однако рассмотреть ее поближе мне хотелось, и я скомандовал Майку, чтобы он держался параллельно ей на расстоянии тридцати ярдов.
Майк счел за благо услышать вместо ярдов футы, и когда мы оказались на траверзе гигантской рыбы, она — по причинам, известным лишь ей, — с внушительной медлительностью повернула так, чтобы проплыть у нас под носом.
— Круто на правый борт, Майк! — заорал я. — Круто!
Задним числом я понимаю, что винить Майка не в чем. Он ведь только-только научился отличать правый борт от левого. Он ведь только-только научился управлять румпелем. Однако он сориентировался, какой борт правый, и круто повернул румпель вправо.
Шли мы со скоростью примерно в четыре узла — большой скоростью это не назовешь, но акула была практически неподвижной, и когда мы ударились об нее как раз за спинным плавником, толчок получился пружинистый и чуть не сбросил меня с мачты. И наш выгнутый водорез взобрался ей на спину, так что бушприт указал чуть ли не в зенит, но тут чудовище нырнуло, и «Счастливое Дерзание» поплелась дальше.
Майк был само раскаяние, но, поскольку его оплошность никому никакого вреда как будто не причинила, я милостиво его простил. Мы сели и принялись обсуждать эту встречу. На нас обоих она произвела неизгладимое впечатление: не так-то часто доводится современным людям увидеть колосса недоступных морских глубин так близко. А потом я решил спуститься в каюту и сварить кофе.
Когда я сошел с последней ступеньки трапа, мои ноги по щиколотку погрузились в холодную воду.
Даже в тот миг полного ошеломления я понял, что произошло. Столкновение с акулой проломило корпус ниже ватерлинии. Кинувшись к насосу, я крикнул Майку, что мы продырявились, что мы идем ко дну! Одолеваемый живейшими воспоминаниями о жуткой ночи, проведенной на траверзе Трепасси, набросился на насос с какой-то яростью. Опять! Опять то же самое! Это уж чересчур, черт побери!
Ах, как я качал! Глаза мне залило потом. Даже насос разогрелся. Но я ничего не видел, ничего не чувствовал — только чернейшее всепоглощающее бешенство. На ругань у меня не хватало дыхания, но кощунства, которыми я мысленно осыпал «Счастливое Дерзание», Майка, Морского Старика и даже святого Христофора, обрекли бы меня на погибель, если уж это не удалось течи.
Вдруг насос иссяк, ручка без сопротивления поддалась моему нажиму.
Я заглянул в люк трюма рядом с двигателем. В трюме было совершенно сухо, если не считать обычной пленки маслянистой слизи. Вдоль кильсона к корме не устремлялся поток холодной зеленой воды.
Я не поверил. Я оставался в каюте почти час, глядя в трюм, и за этот срок шхуна набрала ровно столько воды (и отнюдь не мало!), сколько набирала всегда. Нет, новой течи не возникло.
Недоумевая, но с бесконечным облегчением я поднялся на палубу, сменил Майка у руля, и мы продолжили свой путь в Сен-Пьер.
Вскоре Майк спустился в каюту сварить кофе. Через несколько секунд его голова возникла над люком.
— Фарли, — сказал он, — в цистерне нет пресной воды. Я ни капли не накачал.
Новая тайна! Перед отплытием из Спун-Коува мы наполнили цистерну по самый верх. Для такого суденышка цистерна была огромной: ведь мы с Джеком хотели, чтобы нам хватило воды, если мы вздумаем переплыть океан. А теперь Майк утверждает, что она пуста. Оставив «Счастливое Дерзание» самой о себе заботиться, я спустился к Майку, и со временем кое-какие ответы на загадки мы нашли.
От толчка об акулу уже плохо закрепленный шланг, подсоединенный ко дну цистерны, отвалился — и весь наш запас пресной воды вылился.
К тому времени, когда мы разобрались, что произошло, Ламалин остался далеко позади. Видимость немножко улучшилась, и мне удалось смутно различить серый прыщик на дальнем горизонте и узнать в нем остров Коломбьер, расположенный совсем рядом с Сен-Пьером. Я снова взялся за румпель, принеся извинения Майку, «Счастливому Дерзанию», акуле, святому Христофору и Морскому Старику. Майк тихонько возился внизу. Некоторое время спустя он вылез на палубу с двумя дымящимися кружками.
— Вот, шкипер, — сказал он. — Выпей-ка. И, бегорра, бьюсь об заклад, ты еще никогда не пробовал такого ирландского кофе.
Правда его — не пробовал. И вряд ли когда-нибудь еще попробую. Но готов подтвердить: черный кофе, в котором воду заменяет ром, — напиток просто сногсшибательный.
Примерно в шесть тридцать ветер стих окончательно. К этому моменту мы находились всего в нескольких милях от Северного пролива, ведущего к Сен-Пьеру, а потому мы убрали паруса и включили обалдуйку для завершения перехода. Мы приближались подобно триумфаторам: вспенивая воду носом, развевая черным вымпелом дыма за кормой, шхунка устремлялась к серому безлесью французских островов.
Мы разошлись с ржавым португальским сухогрузом, покинувшим порт. Подстрекаемые верой в морское братство, мы весело приветствовали его тремя слабосильными воплями нашей ручной туманной сирены. После недолгой паузы, во время которой его капитан пытался обнаружить источник этих звуков, потому что по сравнению с его судном мы казались почти невидимыми, он трижды взревел нам в ответ. Какое гордое мгновение! Но не без последствий.
Сухогруз лишь несколько минут назад высадил сен-пьерского лоцмана, и тот в большом катере направлялся назад в порт, как вдруг услышал хриплые сигналы. Он решил, что какому-то судну, идущему в порт, понадобились его услуги. И когда мы обогнули Иль-о-Ванкер, чтобы войти в Северный пролив, мы встретили возвращающийся лоцманский катер.
Он был вдвое больше нас и двигался вдвое быстрее. Игнорируя нас, катер промчался мимо, а затем, не обнаружив на горизонте ничего, кроме удаляющегося португальца, принялся описывать недоуменные круги. Затем он решительно повернул и, вздымая пенные буруны, устремился к «Счастливому Дерзанию».
В нескольких ярдах от нас он убавил ход, и лоцман окликнул нас по-французски. Я не понял, чего он хочет, так как мои познания в этом языке довольно-таки несовершенны. Но Майк свободно говорит по-французски. И на вопрос лоцмана, не видели ли мы другого судна, направляющегося в порт, Майк ответил, что как же — видели.
— Так где же оно? — осведомился лоцман.
— Погрузилась, — ответил Майк, выразительно ткнув большим пальцем вниз.
— Погрузилось? Mon Dieu! (Боже мой! (фр.)) Вы хотите сказать, что оно утонуло?
— Oui, (Да (фр.)) — добродушно согласился Майк. — Но, пожалуй, «ушла под воду» будет точнее. Это была подводная лодка, месье. Очень большая. С очень большим орудием на носу. С ярко-красными серпом и молотом на боевой рубке.
Лицо лоцмана заметно побледнело. Глаза лихорадочно обшарили горизонт. По-моему, он был уже готов умчаться, спасая свою жизнь, но тут в нем словно бы пробудилось смутное подозрение. Лицо у него начало багроветь. Он перевел взгляд на нас и узрел ухмылку на губах Майка.
— Черт побери! Я думаю, вы очень большой лжец. Bien. (Отлично (фр.)) Подводная лодка ушла, но вы тут. Вам нужно в Сен-Пьер, а? Так берите лоцмана. Приготовьтесь, я поднимаюсь на борт.
Майк мне перевел только вот эту часть разговора.
— Ничего не выйдет! — сказал я. — Втолкуй ему, что нам лоцман не нужен, что мы не намерены его брать и, уж конечно, не намерены ему платить.
Майк перевел, лоцман пожал плечами, улыбнулся совсем невесело, включил двигатель и без дальнейших околичностей принялся на большой скорости описывать круги вокруг «Счастливого Дерзания», поднимая высокую волну и проскакивая так близко к нашему носу и корме, что я каждый раз видел, как у него на щеках играют желваки.
Шхунка была шокирована таким поведением и ясно это показала: принялась гарцевать, прыгать, встряхиваться, кокетливо покачивая бортами, всякий раз, когда на нее налетала новая волна. Ну а я понятия не имел, почему лоцман ведет себя столь возмутительно, и негодовал. Кроме того, я был под воздействием ирландского кофе, а это заведомо воинственный напиток.
Надо сказать, что среди наших спасательных средств имелась ракетница военных лет. Я прыгнул в люк и вернулся с ней. Когда лоцман в следующий раз оказался у кормы, я выпустил ракету в двух футах над крышей его каюты. Он отвернул с такой поспешностью, что черпнул правым бортом воды. И не вернулся, а на пределе скорости понесся ко входу в порт, где исчез за молом.
Это, бесспорно, был один из самых упоительных подвигов моей морской карьеры, но нельзя не признать, не самый благоразумный. Когда полчаса спустя мы протарахтели между молами и вошли в порт, первое, что мы увидели, был отряд жандармов на государственном причале.
Майкл высказал мнение, что их вызвали, чтобы оказать нам официальный прием. Но влияние ирландского кофе сходило на нет, и меня одолевали сомнения. А потому, вместо того чтобы гордо подойти к пристани и пришвартоваться, я остался в ста ярдах от пирса, застенчиво описывая круги, а жандармы, таможенники, представители службы иммиграции и все возрастающее число прочих граждан настоятельными жестами приглашали нас причалить.
И тут Майк привлек мое внимание к двум портовым катерам, буксирчику и лоцманскому катеру, которые все поспешнее брали на борт жандармов. Выяснилось, раз мы не слишком торопились встретиться с ними, они заторопились встретиться с нами. Я показал им спину, и «Счастливое Дерзание» обратилась в бегство. Нет, вовсе не в трусливое бегство. Думается, при таком перевесе сил даже Нельсон не пожелал бы вступать в бой.
Результаты этого досадного недоразумения могли бы оказаться неприятными, если бы удача не улыбнулась нам. Мы медленно, с достоинством трюхали по проливу, и туг нам повстречался возвращающийся в порт баркас. Внушительная надпись на носу «Орегон» была мне знакома, как и шкипер. Теофиль Дечеверри был потомком баскских рыбаков, обосновавшихся на острове триста лет назад. Тео был могучим жизнерадостным человеком с оглушительным басом, влиятельной персоной на острове и, слава Тебе, Господи, мой добрый друг со времени моего предыдущего посещения Сен-Пьера.
Тео тоже меня узнал. Его приветственный рев перекрыл грохот обоих наших двигателей. Он прижал «Орегон» к нашему борту с таким самозабвенным восторгом, что «Счастливое Дерзание» по сей день хранит рубцы от этой встречи.
— Фар-р-рли! Чер-р-рт возьми! Наконец-то ты снова в Сен-Пьере. C'est bon! C'est magnifique! (Это хорошо! Это великолепно! (фр.)). И на собственном bateau (судно (фр.)) ты приплыл!
— Oui, Теофиль, — ответил я, когда мне удалось вставить словечко. — Я тут, но je ne pense pas (Я не думаю (фр.)), что останусь тут долго. Regardez-vous (Посмотри-ка (фр.)) вон туда! — И я указал на быстро нагоняющую нас флотилию.
Тут за дело взялся Майк. Он толково объяснил, что произошло. Тео принялся хохотать, как взбесившийся морж, а отхохотавшись, прыгнул к нам и велел мне застопорить двигатель. Вскоре нас окружила Оборонная эскадра Сен-Пьера, и некоторое время царила оглушительная неразбериха.
Когда все более или менее уладилось, «Счастливое Дерзание» с Тео у руля вернулась в порт под дружеским эскортом флотилии. Прекрасное качество сен-пьерцев: хотя они легко вспыхивают, но и прощают столь же быстро.
Они показывали себя с лучшей стороны и когда речь шла о всяких других мелочах, о которых я позабыл позаботиться перед отплытием из Грязной Ямы. Например, я не озаботился получить официальное разрешение заходить в иностранные порты. Не побеспокоился я и зарегистрировать шхуну, так что никаких документов у меня не было. Ни документов. Ни флага. Ни порта приписки, и даже названия на носу и корме.
Не успели мы причалить, как Тео спустился вниз вместе с начальником таможни и еще двумя-тремя официальными лицами в форме. Начальник оказался не слишком покладистым. В одном из зубов у него было большое дупло, и он пессимистически его посасывал, пока Тео убежденно заявлял, что в нашем случае никакие документы не требуются. Начальник отказывался этому верить, и все они долго и горячо препирались без всякого толка, пока на Тео вдруг не снизошло озарение. Вот что он поведал нам позже:
— Понимаете, я сказал им, что раз ваша шхуна не принадлежит ни одной стране, ее нужно удочерить. Я напомнил им, что по крови мы все баски и что некогда баски были самыми великими мореходами в мире, хотя теперь, оккупированные Францией и Испанией, мы не имеем ни единого судна, плавающего под нашим флагом. Так почему же, спросил я их, нам не удочерить эту отличную маленькую шхуну? Мы поднимем на ней флаг Семи баскских провинций. Да, и порт приписки, и документы — все на баскском языке! И тогда по океанам будет плавать одно судно под флагом нашей древней родины! Что они могли ответить!
Естественно, они ответили «да», и с таким энтузиазмом, что моего мнения никто не спросил. Вот так «Счастливое Дерзание» перестала быть ньюфаундлендским судном и стала флагманом торгового флота басков.