Книга: Шхуна, которая не хотела плавать
Назад: Глава десятая РОСА, РОЖДЕННАЯ ТУМАНОМ
Дальше: Глава двенадцатая ГИГАНТСКАЯ АКУЛА И ГИГАНТСКАЯ БАСКСКАЯ ИДЕЯ
Глава одиннадцатая
БЁРИНСКИЕ РЕБЯТА
Я проснулся около полудня, проснулся внезапно с неясным ощущением тревоги. Мне снился сон: я командовал «Куин-Мэри» и должен был войти в порт Литл-Бёрина. Все стекла в рубке были замазаны черной краской. На мне были черные очки, а кругом стоял черный ночной мрак, туман и…
Я проснулся. В каюту лился солнечный свет. «Счастливое Дерзание» приплясывала на якорной цепи, волны пошлепывали ее по носу, одаряя жизнью и движением. В снастях свистел ветер, а по мачте резко хлопал фал.
Я сонно слез с койки, прошел на корму, час поработал с насосом, а потом, исполнив свой долг, выбрался на палубу.
День был изумительный, сверкающий солнцем, полный кипучей энергией… Шторм урчал над окружающими холмами, гнал по лазурному небу клочья туч, но внизу, в длинном ответвлении искрящегося залива, дул только свежий бриз. Тумана не было и в помине. А вот о людях и бурлении жизни свидетельств хватало.
Мы стояли с краю флотилии рыбацких судов, гребных лодок, баркасов, среди которых затесались две маленькие каботажные шхуны. Один большой баркас плясал на якоре всего в двадцати ярдах от нашей кормы. В четверти мили к востоку расположилась деревушка из ярко выкрашенных домиков с аккуратными сушилками для рыбы и помостами, с уютной деревянной церквушкой. Залитые белым солнечным светом, на конце маленького причала шестеро ребятишек терпеливо удили керчаков. Вереницы празднично одетых мужчин и женщин двигались по береговой дороге, ведущей от их домов к церкви. И ни единого рыбозавода в пределах видимости!
Ко мне присоединился Джек — красноглазый, чумазый, с всклокоченными волосами (не знаю, какой вид был у меня, поскольку зеркала на борту не имелось), и мы вместе приветствовали нашего первого посетителя. Это был пожилой человек в лучшем своем костюме. Он неторопливо подгреб к нам на плоскодонке. Подойдя к борту, он повернул голову и обозрел нашу шхунку.
— Доброго утречка, шкипер, — сказал он наконец. — В тумане, значит, шли?
Я сознался в этом.
— Ну-ну, — сказал он и метко сплюнул в воду. — В тумане, значит, э? И много раз прежде в заливе бывали?
Я сказал, что мы никогда прежде в Бёринском заливе не бывали.
И тогда он воздал нам высшую хвалу.
— Пожалуй что, тумана-то черней и гуще я в жизни не видывал. Пожалуй что, не хотелось бы мне в такую темь в залив входить.
Мы в благодарность за столь лестный отзыв пригласили его подняться на борт, но он отказался. И сам пригласил нас к себе на берег, заверив, что его хозяйка горда будет угостить нас своим воскресным обедом. Когда мы начали было отказываться, ссылаясь, что с ног до головы перемазаны, а чистой одежды у нас нет, он и слушать не захотел. Заверив нас, что вернется через часок, он погреб назад, ни разу не оглянувшись.
Так нас приняли в Бёрин-Коуве, и это было началом теплейшего, чудеснейшего человеческого общения, какое мне только доводилось знавать. В этом нашем холодном мире обитателям Бёрин-Коува мало найдется равных.
К несчастью, Джек не смог остаться, чтобы сполна насладиться их гостеприимством. В Бёрин-Коуве имелся телефон, и он по глупости воспользовался им, чтобы поговорить с Торонто. Немедленно по тонким проводам на него обрушился водопад срочнейших деловых проблем, и Джек, неукротимый в борьбе с морем, тут увял. Для него плавание кончилось. В лучшем случае временно. На следующий день он поднялся на борт дряхлой машины для долгого возвращения в Сент-Джонс по почти не существующему шоссе через Бёринский полуостров. Очень угнетенный и весьма обескураженный мыслью о его отъезде, я хотел отправиться с ним, но он сразу меня осадил.
— Ты, черт побери, останешься на борту, — сказал он мне своим военно-морским голосом. — Я уговорю Майка Донована составить тебе компанию. Бедняга же не знает, что его ждет. А тогда вдвоем отгоните шхуну в Сен-Пьер. Там, если хочешь, можешь ее оставить, но в Сен-Пьер прийти она должна, чтобы я мог позднее вернуться на нее. Ты понял?
Я понял и с неохотой согласился. Я чувствовал себя несколько виноватым. Плавание наше трудно было счесть приятным путешествием, которое предвкушал Джек. Тем не менее счесть его совсем уж полной неудачей было нельзя. Когда я, попрощавшись, вернулся на шхуну, выяснилось, что он оставил после себя кое-какую память. У носа, точно современный вариант баронского герба, красовался корсет Джека из стали и резины. Какую бы душевную травму ни причинила ему «Счастливое Дерзание», она, во всяком случае, заставила его забыть о болях в спине.
Следующие дни были невероятно безмятежными и приятными. Я обзавелся свитой мальчишек, которые почти все носили фамилию Молтон и были, используя местное выражение, «сметливыми парнишками». Когда мне приходилось браться за какую-нибудь работу — красить ли палубу, менять снасти или уплотнять сальники, они всегда оказывались рядом, чтобы помочь. И нередко выяснялось, что они лучше меня знают, что и как следует сделать. И частенько они превращали меня в ленивого зрителя, которому оставалось только наблюдать, как они выполняют за меня мою работу.
Когда я сталкивался с проблемами, которые были не по зубам ни мальчишкам, ни мне, на выручку приходили взрослые обитатели деревни. Один, например, потратил три часа, чтобы сплавать за сварочным аппаратом и всем необходимым, когда понадобилось водворить на место выхлопную трубу. Другой заметил, что у меня нет трубы цепного ящика и якорная цепь все глубже вгрызается в планширь. Этот человек, тоже Молтон, откопал эту трубу в чьих-то запасах, притащил ее на шхуну и водворил куда следовало с великим мастерством, причем сделал все это по собственному почину, без всяких просьб с моей стороны.
На вторые сутки моего пребывания в Бёрин-Коуве шторм усилился и повернул, так что возникла опасность, как бы якорь «Счастливого Дерзания» не пополз. И тут на лодке подъехали двое мужчин, застенчиво поднялись на борт и предложили помочь мне перегнать шхуну через залив. В Спун-Коуве стоянка надежнее. А когда я перебрался туда, в тот же вечер десятилетний мальчуган один переплыл залив, выгребая против сильного волнения, дабы доставить мне мое белье, которое его мать по доброте душевной выстирала для меня в Бёрин-Коуве.
Покидая Грязную Яму, «Счастливое Дерзание» выглядела неприлично грязной, скверно выкрашенной и вообще была в полном дезабилье. Бурное плавание не улучшило ее внешности, но после нескольких дней в Спун-Коуве она стала больше похожей на корабль. Поблескивала свежей краской. Каюта была вычищена и вымыта, выглядела чистенькой и перестала пахнуть, как заброшенная бойня.
Даже обалдуйку покрасили, перед этим поручив ее умелым заботам старого дяди Джона Молтона, который знал о таких двигателях куда больше их конструктора. Дядя Джон заставил ее заработать, он улестил ее, чтобы она заводилась и для меня, причем только тогда, когда ее об этом попросят.
В Спун-Коуве я растолстел. Все тамошние хозяйки, казалось, жаждали, чтобы я обязательно позавтракал у них, пообедал или поужинал, а когда я совсем разжирел и начал придумывать предлоги не покидать шхуны, это меня не спасло. Робкий стук в стенку каюты возвещал появление робеющей девочки с накрытым салфеткой блюдом, а на нем рыба, поджаренная с ломтиками хлеба, только что запеченная треска, моченые яблочки (ньюфаундлендское название морошки) или какой-нибудь другой шедевр кулинарии.
По вечерам появлялись мужчины, чтобы поболтать. Двое-трое их усаживались в каюте, и начинался неторопливый, с долгими паузами, разговор об их жизни, об их будущем. До сих пор они жили хорошо. Преуспевающие рыбаки, они построили крепкие дома, которые их жены содержали в безукоризненной чистоте — дома с водопроводом, ванными и прочими современными удобствами. Им принадлежали большие, добротные рыбные склады с обширными чердаками для сетей, хорошие, крепкие помосты и отличные рыболовные суда — их они сами построили из бревен и досок, на которые пошли деревья, поваленные за долгую зиму «за городом».
Однако в их голосах слышались обертоны недоумения и даже страха. Политика нового (после вхождения в Конфедерацию) ньюфаундлендского правительства, направленная на безуспешную попытку перевести экономику опоясанного морем острова на индустриальные рельсы по материковому типу, означала смертный приговор рыболовству, кормившему островитян на протяжении пяти веков. Зарабатывать на жизнь в море становилось все труднее. Мужчины в годах оставались ему верны, но молодежь, включая и пареньков, взявших меня под свою опеку, не имела тут будущего, ей оставалось только эмигрировать в материковую Канаду.
Кто-то из собеседников вспомнил, что, едва придя к власти, тогдашний и вечный премьер Джозеф Смолвуд рекомендовал жителям Ньюфаундленда сжечь их помосты, вытащить на берег суда и лодки, выбросить сети и прочее снаряжение, «потому что вам уже никогда не надо будет ловить рыбу. На берегу найдется работа для каждого из вас!».
— С тех пор десять лет прошло, — задумчиво продолжал рыбак, чье лицо в смутном свете керосиновой лампы выглядело темным и напряженным. — Десять лет, а работы, которую он нам обещал, — один воздух да пена. Хорошо еще, что мы и слушать его не стали, не то сидеть бы нам на пособии, как тысячи ребят сидят теперь в маленьких портах. Мы-то на Бёрине и суда свои сберегли, и снаряжение, и рыбу ловим не хуже, чем прежде. Только вот теперь за рыбу-то мы всего ничего выручаем.
— Да, — добавил другой, — рыбы тут по-прежнему хоть отбавляй. Да потрать Джои все миллионы, которые он повыбрасывал на каучуконосы да кондитерские фабрики, да помог бы нам построить траулеры, вот такие, как у норвежцев, мы сейчас сидели бы прочно.
— Работа! — сказал третий с горечью. — Он нам только одну работу нашел — копать себе могилу.
Тяжело было слушать их, видеть, до какого отчаяния и безнадежности их довели. Однако в Спун-Коуве жизнь маленьких портов еще не пришла к концу. Я испробовал, пока оставался там, вкус почти идиллического существования и смаковал каждую его минуту.
Например, день, когда мы дубили паруса «Счастливого Дерзания».
Дубление — старинный процесс, в течение которого сети вымачивают в кипящей смеси морской воды, жира тресковой печени, дегтя и живицы. Дубление предотвращает гниение сетей под водой и от плесени на суше. В прошлом тем же способом нередко обрабатывались паруса шхун. Правильный дубильный процесс придает парусине сочный темно-кирпичный цвет, и такие паруса без всякого вреда для себя выдерживают недели дождя и тумана, не требуя никаких дополнительных забот.
За несколько дней до моего водворения в Спун-Коуве рыбаки собрались для общего дубления сетей, и «дубильная лоханка» — гигантский котел вместимостью в сто с лишним галлонов был еще полон малоблагоуханным дубильным составом, в просторечии «варевом». Меня пригласили воспользоваться им, и двое четырнадцатилетних парнишек, Аллан и Джеральд Молтоны, вызвались все для меня наладить.
На следующей заре меня разбудил невероятно едкий запах, вливавшийся в каюту. Когда я вышел на палубу, кромку воды нельзя было рассмотреть за пологом черного дыма. Мальчики хлопотали на берегу. Они разожгли огромный костер под дубильным котлом и подкладывали в него свертки «выбракованных» просмоленных сетей. В сотне-другой футов над ними на склоне холма две багроволицые негодующие дамы поносили ребят пронзительными голосами. Они как раз устроили стирку, и их развешанное на веревках белье стремительно приобретало темно-серый оттенок. Мальчики не обращали на них ни малейшего внимания, и дамы (ньюфаундлендские дамы всегда знают, что им нанесли поражение) забрали белье и скрылись в дверях, чтобы дождаться более благоприятного часа.
Пока варево разогревалось, отряд мальчишек лазал по шхуне, отвязывая паруса. Затем паруса перетащили к большой сушилке для рыбы (но без рыбы!) и расстелили их там под жарким летним солнцем.
И тут началась потеха. Шесть парнишек, вооружившись ведрами, сновали взад-вперед между котлом и сушилкой. Ведра опорожнялись на паруса, и дымящееся варево втиралось в парусину березовыми вениками. Еще до истечения часа все вокруг стало темно-красным. Мальчишки словно перевоплотились в племя беотуков, индейцев, изначально населявших Ньюфаундленд. Даже море вдоль берега стало ржаво-коричневым. Я сидел в стороне сложа руки и с робким почтением следил, как ребята снуют в облаках пара, вопят, как души грешников, и трудятся, как красные дьяволы.
День выдался очень жаркий, и к тому времени, когда котел опустел, ребята готовы были устроить перерыв. Один робко спросил, не хочу ли я искупаться с ними. Я захотел, и они повели меня вверх по склону за порт к своему любимому озерку. Это была очень долгая прогулка через ельники по каменным осыпям и вверх, почти к самому гребню самого высокого холма. Озерко было мелким, и солнце прогрело воду до вполне сносной температуры. Мы все разделись и некоторое время плавали, а потом Аллан и еще кто-то извлекли из тайника в траве ивовые удочки и принялись удить. Я подумал, что это просто погоня за мечтой — менее рыбного водоема трудно было бы придумать. Они, однако, немедленно начали вытаскивать гольцов вполне приличных размеров, которых называли «илистыми форельками». Но как бы там эти рыбы ни назывались, вкус у них, когда я вечером сел ужинать с ребятами, оказался очень недурным.
Я уже почти решил, что с удовольствием проведу остальную часть лета — если не всю оставшуюся мне жизнь — в Спун-Коуве, как приехал Майк Донован, кипя энергией и энтузиазмом. Идиллии пришел конец. Вновь мне пришлось смириться с продолжением плавания по серым беспощадным волнам.
И сразу возникли осложнения. Первым был Майк. Его никак нельзя было назвать опытным мореходом. Насколько ему удалось вспомнить, в плавание ему довелось отправляться три раза в жизни. Последние два он совершил во время войны на военном транспорте из Америки в Европу и обратно. Что касается первого, то в возрасте шести лет он на самодельном плотике вышел на простор пруда в одном из парков Торонто. С плотика он свалился, но был спасен конным полицейским, который въехал на лошади в пруд, чтобы извлечь Майка из ранней могилы. В остальном ни о море, ни о судах, больших и малых, он не знал ничего. Майка это ничуть не смущало — по оптимизму он бьет все мировые рекорды, — но меня немножечко тревожило.
В Спун-Коув Майк добрался из Сент-Джонса на «фольксвагене». Теперь он извлек из машины два самых больших чемодана, какие мне только приходилось видеть. Как он умудрился запихнуть их в свою малютку, я понятия не имею. Одного из них хватило бы, чтобы в каюте «Счастливого Дерзания» не осталось места для людей. Он весело зашвырнул этих гиппопотамов на палубу и прыгнул на нее следом за ними. Майк прирожденный прыгун — длинный, худой, долговязый — и непоседа.
— На кой черт тебе эти чемоданы? Что в них? — спросил я с ужасом.
— Библиотечные фонды. Или, по-твоему, я директор библиотек только по названию? Я сумел выцыганить эту поездку, только убедив министра просвещения, что намерен открыть библиотечные филиалы на юго-западном берегу Ньюфаундленда. Не хочешь же ты выставить меня лжецом?
— Нет, — сказал я, — не хочу, Майк. И потому считай, что ты уже открыл свой первый филиал в рыбном складе.
Тома Молтона вон там. А теперь забирай эти чертовы сундуки с моей палубы, пока ты не утопил шхуну.
Дружелюбие и покладистость — одна из лучших сторон в характере Майка. Бодро насвистывая, он уволок чемоданы в рыбный склад и поставил их за кучей соленой трески. Затем вернулся на борт, согнулся в три погибели и забрался в каюту, предварительно предъявив четыре бутылки рома «Биг диппер». Явно библиотечные фонды Ньюфаундленда включают кое-что получше, чем клей и формуляры.
Я счел разумным ускоренно ознакомить Майка с принципами кораблевождения, прежде чем покинуть Бёрин, и результатом явился спектакль, какого в Спун-Коуве еще никогда не ставили.
Занятия почти не продвинулись, но уже собрали толпу зрителей — множество маленьких мальчиков и девочек, десяток пожилых джентльменов и пестрые вкрапления рыбаков. Они выстроились на помостах справа и слева от нас и молча наблюдали, как я вожу Майка по шхуне, указывая на все более или менее важные снасти и называя их. Он бойко следовал за мной, кивал и повторял названия. Поскольку он изучал несколько языков и свободно владеет по крайней мере тремя, названия он запоминал с легкостью. Затем я обучил его таким процедурам первой необходимости, как ставить паруса, опускать паруса, выбирать шкоты, бросать якорь, спускать кранцы за борт. Все у него получалось отлично.
Зрители, которые прежде даже не подозревали, что на свете бывают люди, которые понимают в судах так же мало, как Майк, начали проникаться к нему симпатией. Наконец я приказал ему пойти на корму и спустить плоскодонку на воду.
Он выполнил команду почти безупречно. Почти. Допустил лишь одну ошибку — намотал фалинь плоскодонки на запястье, перед тем как столкнуть лодку за борт.
Инерция увлекла плоскодонку в сторону от шхуны, и она увлекла за собой Майка на конце фалиня. На поверхность он вынырнул с несколько выпученными глазами, так как вода была ледяной, и стал водить ими из стороны в сторону, словно в поисках конного полицейского. Увы, нигде в Бёрине такого не нашлось бы. А потому он по-собачьи подплыл к плоскодонке, закинул на нее руку, ногу… и перевернул лодочку на себя.
Мы слышали его голос изнутри ее — он, видимо, ухватился за скамью. Он выкрикивал, как ни грустно, слова, которые могли оказаться ирландскими ругательствами, но доносились они до нас так глухо, что мы их толком не разобрали. Он энергично брыкал ногами и медленно, но верно направлял перевернутую лодку в гавань. Смахивала лодка на громадную морскую черепаху, только звуки издавала совсем не черепашьи.
Кто-то из парнишек успел несколько прийти в себя, сел в лодку и кинулся в погоню. Извлечь Майка на свет Божий он не сумел, а потому просто отбуксировал плоскодонку к берегу. В конце концов ноги Майка коснулись дна. Он поднырнул и, дрожащий, посинелый, воздвигся над водой.
Если бы он тут же отказался от мысли о плавании, забрался бы в свой «фольксик» и покатил домой, это было бы вполне понятно. Но Майк не таков. Шлепая к берегу, он изобразил широчайшую свою улыбку и наиирландейший свой выговор.
— Бегорра! — произнес он на языке своих предков. — Лучшего и не придумать, чтобы плавать под дождем, а?
Он покорил сердца обитателей Спун-Коува и мое тоже.
Неосведомленность Майка во всем, что касалось моря и судов, имела свою положительную сторону. Она обеспечивала ему душевное спокойствие. В его глазах «Счастливое Дерзание» была самой крепкой шхункой, какие только знавал мир. Он доверял ей безоговорочно. И продолжал доверять, даже когда она делала все, чтобы его разочаровать. Нет, не думайте, меры предосторожности он принимал. Когда он в этот вечер забрался на свою койку, то потратил минуту, чтобы прибить к доске в изголовье большую медаль с изображением святого Христофора, покровителя плавающих и путешествующих.
Хотя я, в отличие от Майка, не католик, изображение это все еще остается там, где он его поместил. Ведь кто-то же да оберегал нас в последующие дни! Был то святой Христофор или Морской Старик, окутано мраком неизвестности. Сильно подозреваю, что потребовались их совместные усилия, чтобы вызволять нас то из того, то из этого.
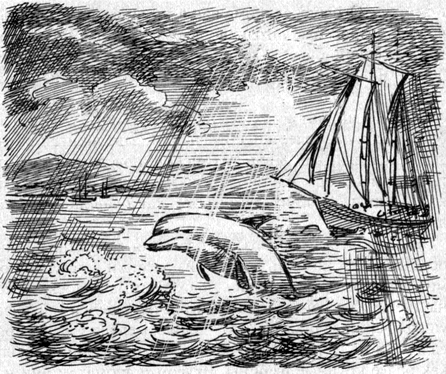
Назад: Глава десятая РОСА, РОЖДЕННАЯ ТУМАНОМ
Дальше: Глава двенадцатая ГИГАНТСКАЯ АКУЛА И ГИГАНТСКАЯ БАСКСКАЯ ИДЕЯ

