Водяной

Водяной живет в озере, там у него и дом под камнем. Водяной не очень великий, даже маленький, черноватый, на черта похож, а ус у него рыжий. Жена его из русалок — водяниха, Палагеей звать. Поля, а ребятишки — водяники, вроде чертенят, только что на пальцах перепонка. Держит водяной коров много бурых, — большое хозяйство.
За большим болотом на круглом озере остров, и не раз видали, как из воды на остров выходили коровы и траву щипали, видали и самого водяного: сядет себе на камень и сидит, медным гребнем расчесывает свои крепкие лохма.
Ходил по лесу Афоныга — Афоныге что и делать, как в лесу бродить! и зашел Афоныга к круглому озеру за большое болото, уморился, прилег на траву отдохнуть да и заснул. А как проснулся, и видит: четыре бурых коровы на острове пасутся.
Положил Афоныга на себя крест да прямо на коров этих… И только что ухватить корову наметил, из воды как свистнет — озеро заволновалось, и коровы в воду. Ну, Афоныга не больно испугался, не сплошал, и как-никак, а двух коров перенять ухитрился, и пригнал домой к себе в лес.
И долго жили у Афоныги эти коровы, по два ведра в день молока давали, вот какие коровы! Разбогател Афоныга, разбурел, опился молоком сладким, пьет — не лезет, и уж бродить по лесу не может, совесть и заговорила.
Стало беспокойно Афоныге, все не так, все не так как-то, не по-настоящему, не по правде. И вздумал Афоныга этих коров зарезать. И зарезал. Ввечеру зарезал, а наутро хвать, ни мяса, ни шкур, и мясо, и шкуры украл кто-то, нет ничего.
Досадно стало Афоныге — ни молока ему, ни коров, ни мяса ему, ни шкур коровьих — ничего. Как не досадно! Думал Афоныга, думал и подал в суд: на соседа думал — вороватый такой сосед жил Мамыка.
И пока Афоныгино дело в суде тянулось, подошла осень, а у Афоныги не выходят из головы коровы, не может забыть коров: нет-нет да и вспомнятся они ему, бурые, сытые — два ведра в день молока давали.
Сидит раз Афоныга вечером, раздумывает, и все о коровах, а на воле так и шумит и шумит — осень. И слышит, стучит кто-то. Афоныга к воротам, отворил калитку и видит: так, не очень великий, даже маленький, черноватый такой, ус рыжий, в коротком камзоле, а шляпа соломенная, стоит у ворот, на Афоныгу смотрит.
— Напрасно, — говорит, — ты, Афоныга, из-за коровьих кож с соседом тягаться вздумал — кожи я взял! — сказал и пошел, ходко пошел к озеру.
Афоныга его сейчас же признал — водяной, конечно! — и помирился с соседом, прекратил тяжбу с Мамы-кой, и по-старому, по-прежнему в лесу бродит, лешней живет.
1912
Лигостай страшный
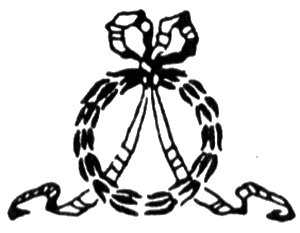
Жил-был добрый человек, и Бога чтил, и людей не забывал: Богу — свечка, бедным людям — хлеб. И жил так добрый человек с женою и сыном, не роптал. И вот померла жена, заскучал старик без хозяйки, стал прихварывать и почувствовал, что и его конец приходит.
Говорит старик сыну:
— Нечего мне тебе оставить, нет у меня ничего: что зарабатывал — все проживали. А вот как помирать твоей матери, пекла она калач, калач подгорел, но я его сберег — оставляю тебе горелый калач. Съешь ты его с тем моим другом, который никакой скупы не берет.
Помер добрый человек, похоронил сын отца. Какие оставались деньги, все на похороны пошло. И уж ничего в Доме нет, хоть шаром покати, а есть хочется. Вспомнил тут Сергей об отцовском наследстве — о калаче, отыскал горелый калач, хочет его закусить, да слова отца стали в памяти: съесть калач с тем другом его, который прибыли себе не берет, — положил калач за пазуху и пошел отцова друга искать.
Идет Сергей по дороге, и встречается ему старичок белый, седатый.
— Куда, — говорит, — молодец, Бог несет?
— Иду искать отцова друга, который никакой скупы не берет, — и рассказал Сергей старику об отцовском горелом калаче.
— Я отцов друг.
Посмотрел Сергей на отцова друга: старичок бел седатый, с церковкою в руке.
— Нет, ты — святитель Христов, Никола Угодник! — поклонился угоднику можайскому и дальше пошел.
Идет Сергей по дороге, и едет навстречу ему всадник на белом о белых крыльях коне, золото так и играет. Испугался Сергей, хочет в сторону свернуть.
А всадник кричит:
— Куда, молодец, Бог несет?
— Иду искать отцова друга, который никакой скупы не берет, — и рассказал Сергей всаднику об отцовском горелом калаче.
— Я отцов друг.
Посмотрел Сергей на отцова друга: по локоть руки — красно золото, по колено ноги — чисто серебро, во лбу звезда, на голове зеленый венок.
— Нет, ты — храбрый святой Георгий! — поклонился пастырю святому и дальше пошел.
Идет Сергей по дороге, устал, и ночь его настигает, и есть ему хочется. И попадает ему на дороге страшный, высокий, грудь и бедра толстые, в поясе тонкий, длинные пальцы, зубатый, ребратый, голенастый, лигостай — страшный.
— Ты куда идешь? — скорчил рожу лигостай страшный.
— Иду Отцова друга искать, который никакой скупы не берет.
— Я самый и есть!
Посмотрел Сергей на отцова друга: лигостай страшный.
— Почему, говоришь, отцов ты друг?
— А потому, я у отца душу вынул.
«И вправду, — подумал Сергей, — точно, что друг, только больно уж страшный!»
Вынул Сергей из-за пазухи горелый калач, уселись они на пень, съели калач.
Лязгнул зубами лигостай страшный.
— Поди, — говорит, — в город, тамошний царь худ, ищет человека, про свою смерть знать хочет. Поди ты к царю и скажи, что знаешь про его царскую смерть. Меня никто не видит, а ты увидишь. Я без корысти, я отцов друг! Если сижу я в головах у царя, царь помрет; если стою я в ногах, царь будет жить.
Простился Сергей с лигостаем страшным, пошел в город, ну трубить:
— Я, — говорит, — про царскую смерть знаю!
Дошла весть до царя, послал царь разыскать Сергея.
Нашли Сергея и привели к царю.
Помолился Сергей, посмотрел на царя: лежит царь на кровати, едва уж дышит, а лигостай стоит в ногах у него страшный, рожу корчит.
Поклонился Сергей царю:
— Трудно хворали, ваше царское величество, тяжело, да Господь даст здоровья, будете живы.
И стало царю полегче, потом совсем легко, а потом и вовсе поправился и позабыл про всякую хворь. На радостях царь наградил Сергея крестом и велел насыпать ему из государственной казны полный мешок золота.
Нацепил Сергей крест себе на шею, забрал под мышку золото, поблагодарил царя и пошел из города домой: хватит ему на его век да еще останется!
Идет Сергей дорогой, застигла ночь, присел Сергей на пень отдохнуть, а лигостай тут — страшный стал у пня.
— А, — говорит, — здорово, Сергей Иваныч!
— Здравствуй, страшный!
— Много ль собрал?
— Эво сколько, доверху полный! — Сергей показал страшному золотой свой мешок.
— Ну, не очень-то… — лигостай тряхнул мешком, — фальшивые! Иди ты в другую землю, там тоже царь худ, скажи, что про царскую смерть знаешь. Буду я в головах сидеть, и ты скажи царю: не будет ему житья, смерть будет. А ему трудно, он только этого и хочет, смерти хочет. И он наградит тебя: царем вместо себя поставит. И ты будешь царствовать тридцать лет. Знай: в который час корону примешь, в тот же самый час через тридцать лет и помрешь. Помни! Приготовься! Я приду.
Простился Сергей с лигостаем страшным, пошел в ту землю, где царь хворал.
— Я про царскую смерть знаю! — трубит Сергей.
Узнали, кому следует, Сергея схватили да к царю.
Привели Сергея к царю, и уж на пороге видит Сергей: страшный расселся лигостай у царского изголовья, рожи корчит.
— Ваше царское величество, помрете!
А царь корону с себя снял да на Сергея.
— Царствуй, добрый человек, спасибо тебе! — и помер.
Помер царь, сел царем Сергей.
Хорошо царствовал Сергей и все дела государские исправлял верно. Тихо, мирно, было в его царстве. Богатели купцы торговлей, мужики много сеяли хлеба, — земли было вволю, собирали и того больше, и было где скоту кормиться, лугов было вдоволь, разбойники сидели за крепким караулом, никто не жаловался.
Все в делах, все в заботах, и не заметил царь, как прошли годы, и наступил тридцатый, последний его год.
«Ах, — схватился царь, — лигостай придет!»
И такая напала тоска на него, такая долит печаль, невесело, неважно все, не занимают дела.
«Лигостай придет, страшный придет!» — печалился царь.
И от печали разнемогся, и ничего уж не помогает, одно на уме: «Лигостай придет!»
Наступили последние сутки, пришел последний час. И кончились последние минуты, осталась всего одна последняя минута.
«Пойду в сады мои, прощусь…» — царь встал и к двери.
А на пороге лигостай.
— Чего ты, — говорит, — куда собрался, Сергей Иваныч? — сам рожу корчит.
— В сады мои проститься, хочу проститься…
— А ты чего же раньше-то? Я же тебя предупреждал, — лигостай взял под руку царя, — ну, пойдем!
И они ходили вместе по саду, как два друга, мертвый царь да лигостай страшный. Царь все прощался. И не было куста, не было деревца, с кем бы Царь ни простился. Со всем белым светом простился царь и говорит:
— А что, страшный, как я помру, будут по мне плакать?
А лигостай как скорчит рожу.
— Ревут, — говорит, — третий день ревут, уж третий день, как ты помер: в ту самую минуту, у порога, как встретились мы, ты и помер! Спасибо за любительский калачик!
Лигостай лязгнул зубами, страшный, отвел свою бескорыстную страшную руку, и остался царь один, не царь — душа человечья.
1911
Хлоптун
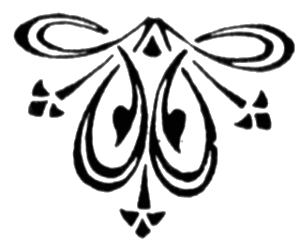
1
Жил-был мужик с женою. Жили они хорошо, и век бы им вместе жить, да случился трудный год, не родилось хлеба, и пришлось расстаться. Поехал Федор в Питер на заработки, осталась одна Марья со стариком да старухой.
Трудно было одной Марье. Кое-как год она перебилась, к осени полегче стало. Ждет мужа — нет вестей от Федора. Ждать-пождать, — не едет Федор. Да жив ли?
А тут говорят, помер. Бабы от солдата слышали, что Федор помер. Ну, Марья в слезы, убивается, плачет.
— Хоть бы мертвый приехал, посмотреть бы еще разок! — так Марья плачет, так ей скучно.
Прожила она в слезах осень, все тужит: без мужа скучно.
А Федор вдруг на святках и приезжает.
И уж так рада Марья, от радости плачет: вот не чаяла, вот не гадала!
— А мне говорили, что ты помер!
— Ну, вот еще помер! И чего не наскажут бабы!
И стали они жить да поживать, Федор да Марья.
2
Все шло по-старому, будто никогда и не расставались они друг с другом — не уезжал Федор в Питер, не оставалась одна Марья без мужа — век вместе жили. Все попрежнему шло, как было. Все… да не все: стало Марье думаться, и чем дальше, тем больше думалось:
«А что, как он мертвый?»
Случится на деревне покойник, Марье всегда охота посмотреть, ну, она и Федора зовет с собою, а он, чтобы идти к покойнику смотреть, нет, никогда не пойдет.
Раз она уж так его упрашивала, приставала к нему, приставала — покойник-то очень уж богатый был — насилу уговорила. И пошли, вместе пошли.
Приходят они туда в дом, где покойник: покойник в гробу лежал, лицо покрышкой покрыто. Собрались родственники, сняли покрышку, лицо открыли, чтобы посмотреть на покойника. Тут и все потянулись: всякому охота на покойника посмотреть. С народом протиснулась и Марья. Оглянулась Марья Федора поманить, смотрит, а он стоит у порога большой такой, выше всех на голову, усмехается.
«И чего же это он усмехается?» — подумалось Марье, и чего-то страшно стало.
Начал народ расходиться. И они вышли, пошли домой.
Дорогой она его и спрашивает:
— Чего ты, Федор, смеялся?
— Так, ничего, я… — не хочет отвечать.
А она пристает: скажи, да скажи. Федор молчит, все отнекивается, потом и говорит:
— Вот как покрышку сняли с него, а черти к нему так в рот и лезут.
— Что ж это такое?
— А хлоптун из него выйдет.
— Какой хлоптун?
— А такой! Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто, и не признаешь, а потом и начнет: сперва ест скотину, а за скотиной и за людей принимается.
И как сказал это Федор, стало Марье опять как-то страшно, еще страшнее.
— А как же его извести, хлоптуна-то? — спрашивает Марья.
— А извести его очень просто, — говорит Федор, — от жеребца взять узду-оборот и уздой этой бить хлоптуна по рукам сзади, он и помрет.
Вернулись они домой, легли спать.
Заснул Федор. А Марья не спит, боится.
«А что если он хлоптун и есть?» — боится, не спит Марья, не заснуть ей больше, не прогнать страх и думу.
Куда все девалось, все прежнее? Жили в душу Федор да Марья, теперь нет ничего. Виду не подает Марья, — затаила в себе страх, — не сварлива она, угождает мужу, но уж смотрит совсем не так, не по-старому, невесело, вся извелась, громко не скажет, не засмеется.
Четыре года прожила Марья в страхе, четыре года прошло, как вернулся Федор из Питера, пятый пошел.
«Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто и не признаешь, а лотом и начнет: сперва ест скотину, а за скотиной за людей принимается!» — и как вспомнит Марья, так и упадет сердце.
И уж она не может больше терпеть, не спит, не ест, душит страх.
— Не сын ваш Федор… хлоптун! — крикнула Марья старику и старухе.
— Как так?
— Так, что хлоптун! — и рассказала старикам Марья, что от самого от Федора о хлоптуне слышала — последний год живет, кончится год, съест он нас.
Испугались старики:
— Съест он нас!
Всем страшно, все настороже. И стали за Федором присматривать. Глядь, а он уж на дороге коров ест.
Обезумела Марья, трясутся старики.
Достали они от жеребца узду-оборот, подкараулили Федора, подкрались сзади, да по рукам его уздой как дернут…
Упал Федор.
— Сгубила, — говорит, — ты меня! — да тут и кончился.
Тут и все.
1911
Мертвец

Лежал мертвец в могиле, никто его не трогал, лежал себе спокойно, тихо и смирно. Натрудился, видно, бедняга, и легко ему было в могиле. Темь, сырь, мертвечину еще не чуял, отлеживался, отсыпался после дней суетливых.
Случилось на селе о праздниках игрище, большой разгул и веселье. На людях, известно, всякому хочется отличиться, показать себя, отколоть коленце на удивленье, ну, кто во что, все пустились на выдумки.
А было три товарища — три приятеля, и сговорились приятели попугать сборище покойником: откопать мертвеца, довести мертвеца до дому, а потом втолкнуть его в комнату, то-то будет удивленье: сговорились товарищи и отправились на кладбище.
На кладбище тихо, — кому туда на ночь дорога! — высмотрели приятели свежую могилу и закипела работа: живо снесли холмик, стали копать и уж скоро разрыли могилу, вытащили мертвеца из ямы.
Ничего, мертвец дался легко, двое взяли его под руки, третий сзади стал, чтобы ноги ему передвигать, и повели, так и пошли — мертвый и трое живых.
Идут они по дороге, — ничего, вошли в село, скоро и дом, вот удивят!
Те двое передних, что мертвеца под руки держат, ничего не замечают, а третий, который ноги переставлял, вдруг почувствовал, что ноги-то будто живые: мертвец уж сам понемножку пятится, все крепче, по-живому ступает ногами, а, значит, и весь оживет, оживет мертвец, будет беда — да незаметно и утек.
Идут товарищи, ведут мертвеца — скоро, уж скоро дом, вот удивят! Ничего не замечают, а мертвец стал отходить, оживляться, сам уж свободно идет, ничего не замечают, на товарища думают, которого и след простыл, будто его рук дело, ловко им помогает.
Дальше да больше, чем ближе, тем больше, и ожил мертвец — у, какой недовольный!
Подвели его товарищи к дому, в сени вошли.
А там играют, там веселье — самый разгар, вот удивят!
— А Гришка-то сбежал, оробел, — хватились товарища, и самим стало страшно, думают, поскорее втолкнуть мертвеца да и уходить, — Гришка сбежал!
Открыли дверь — вот удивятся! — хотят втолкнуть мертвеца, а выпростать рук и не могут, тянет мертвец за собой.
А правда, в доме перепуг такой сделался — признали мертвеца — кто пал на землю, кто выскочил, кто в столбняке, как был, так и стал.
Тянет мертвец за собой, и как ни старались — рвутся, из сил выбиваются, держит мертвец, все тесней прижимает.
— Куда ж, — говорит, — вы, голубчики, от меня рветесь? Лежал я спокойно, насилу-то от Бога покой получил, обеспокоили меня, а теперь побывайте со мной!
Совсем как все, говорит, только смотрит совсем не по-нашему! Нет, не уйти от такого, не выпустит, — совсем не по-нашему!
Собралось все село смотреть, а эти несчастные уж и не рвутся, не отбиваются, упрашивают мертвеца, чтобы освободил их, выпростал руки.
А он только смотрит, крепко держит, ничего не сказывает.
Стал народ полегоньку отрывать их от покойника, не тут-то, кричат не в голову, что больно им. Ну, и отступился народ. Отступился народ, говорят, что надо всех трех хоронить.
И видят несчастные, дело приходит к погибели, заплакали, сильней умолять мертвеца стали, чтобы освободил их.
А он только смотрит, еще крепче держит, ничего не сказывает.
И два дня и две ночи не выпускал их мертвец, а на третий день ослабели мертвецкие руки, подкосились мертвецкие ноги, да их тело-то, руки их с мертвым, с телом мертвецким срослись — хоть руби, не оторваться!
Господь не прощает.
И начали они просить у соседей прощенья и у родных. Простились с соседями, простились с родными. И повели их на кладбище с мертвецом закапывать.
И так и закопали равно вместе — того мертвеца неживого, а этих живых.
Здравствуй хозяин с хозяюшкой,
На долгие веки, на многие лета!
Мирские притчи

Муты
Ходила старуха за морошкой в лес. Набрала старуха полный бурак и заблудилась: ходит по лесу, выйти не может. А Леший-шишко — ему только того и надо — рад, что старуха домой попасть не может. Леший тут как тут.
И не в старухе дело, в старухе-то ему корысть невеликая, а спасалось в лесу два старца, две избушки в лесу стояло, стращали старцы прогнать Лешего из леса, вот на них и был у Лешего зуб.
И говорит Леший-шишко старухе:
— Что, бабка, не можешь ли ты сделать со старцем, смутить, значит, грех произвести?
Страсть напугалась старуха, инда дрожь на сердце, на все готова старуха, и рада старуха на старости лет до конца своего хоть заячьей, хоть беличьей говядиной питаться, лешиным кушаньем любимым, только бы домой ей дойти.
— Ты, бабка, покличь старца, да щелкни его в лысину, скажи: «На другому оставь!» Только и всего. Я тебя, Федоровна, домой сведу! — и пошел, будто кур, пошел, не откликнется.
Делать нечего, пошла старуха за Лешим, да к избушкам и вышла, где старцы спасались.
— Отче, отворите окошко! — стучит старуха к старцу.
Отворил старец окно, наклонился к старухе, а она его шлеп по лысине:
— На, другому оставь! — и пошла прочь.
А старец не успел окна затворить, другой уж идет к нему: слышал другой старец, что старуха-то сказала.
— Что, — говорит, — чего тебе дали?
— А не дали ничего.
— Да как же ничего, сам слышал: оставь другому.
Поспорили. Дальше — больше, и такой грех вышел, переругались старцы, и уж в чем только не обвинили друг друга — и спасенье их ни во что пошло, хоть опять в дупло полезай, да сызнова все грехи замаливай.
А старуху Леший из лесу вывел, домой свел.
Господен звон

Жил один старик в лесу. А ушел старик в лес, чтобы Богу угодить, Богу молиться. И много лет жил так старик в лесу, все молился. И чем больше он молился, тем ясней ему было, что жизнь его угодней становится Богу, — все он у Бога узнает и в святые попадет. Так и жил старик.
Ну, и приходит к старику, уж Господь его знает какой, странник — калика прохождающий.
— Бог помощь, — говорит, — лесовой лежебочина!
А старику обидно:
— А как так я лежебочина, я Богу молюсь и тружусь, труды полагаю, потею!
— Потеть-то потеешь, — сам улыбается странник, — а когда у Господа благовест, к обедне звонят и пора обеда, чай, не знаешь! А вот на поле крестьянин благочестивый, тот знает — и пошел.
Ушел, уж Господь его знает какой, странник — калика прохождающий, ушел, и остался старик один и взял себе в разум: «Как же так, жил он столько лет в лесу, в лес ушел, чтобы Богу угодить, молился, думал, что уж все у Бога знает, в святые попал, а и того не знает, когда к Господней обедне благовестят?»
И решил старик: идти ему на поле, искать того человека, который звон Господен слышит.
И вышел из леса, идет старик по полю и видит: мужик поле пашет.
— Бог помощь! — подошел старик к пахарю.
— Иди себе с Богом, добрый человек! — поздоровался пахарь, а сам, знай себе, пашет.
И хотел уж старик дальше идти: что с такого возьмешь, так, мужичонка корявый, да присел на межу отдохнуть и раздумался.
Сидит старик на меже, молитву творит, а пахарь все пашет. И долго сидел так старик и, хоть корешками питался, о корешках мысли пошли, а пахарь все пашет.
Терпел старик, терпел, встал.
— А обедал ли ты, добрый человек? — не вытерпел, встал старик.
— Какой там обед, еще у Господа благовест не идет! — ответил пахарь, а сам, знай, все пашет.
И опять присел старик на межу: и уж и голод забыл, и молитву не творит; сидит, ждет, слушает, когда у Господа заблаговестят.
А пахарь допахал полосу, поставил лошадь, снял шапку, перекрестился.
— Ты чего, добрый человек, перекрестился?
— А вот благовест к обедне начался, звон Господен, обедать пора, — сказал пахарь, вынул краюшку, присел закусить.
Слушает старик, — ничего не слышит, слушает, — никакого звону не слышит.
И долго стоял так старик и ничего не услышал. И ясно ему, этот пахарь, мужичонка корявый, больше его у Бога знает.
И пошел старик назад в лес и опять стал молиться, и домолился старик, в святые попал.
1911
Глумы
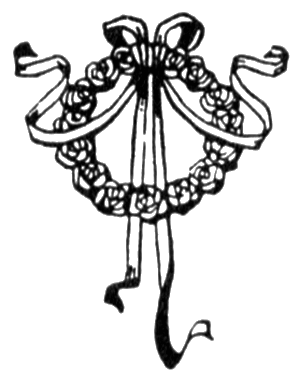
Скоморох
Царствовал царь на царстве, на ровном месте, как сыр на скатерти. Охотник был царь сказок послушать. И дал царь по царству указ, чтобы сказку сказали, которой никто не слыхивал:
«За то, кто скажет, полцарства отдам и царевну!»
Полцарства и царевну! Да этакой сказки сказать никто не находится.
А был у царя ухарёц — большой скоморох, — плохи были дела, стали гнать скоморохов, — и сидел скоморох с голытьбой в кабаке. Сидел скоморох в кабаке, крест пропивал.
— Что ж, Лексей, — говорят скомороху, — или не хочешь на царской дочке жениться? — подымают на смех, гогочут.
Подзадорили скомороха царской наградой: была не была, хоть в шубе на рыбьем меху, да уж впору ему царю сказку сказывать.
Приходит из кабака скоморох к царю во дворец, говорит царю:
— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.
Всполошились царские слуги, собрались все малюты скурлатые, вышла и царская дочь — Лисава, царевна прекрасная.
Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.
— Сказывай, слушаю, — сказал царь.
И стал скоморох сказки сказывать.
— А как был у меня батюшка — богатого живота человек. И он состроил себе дом, там голуби по кровле-шелому ходили, с неба звезды клевали. У дома был двор — от ворот до ворот летом, долгим меженным днем голубь не мог перелетывать!.. Слыхали ли этакую сказку?
— Нет, не слыхал, — сказал царь.
— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.
Потупилась царевна Лисава прекрасная.
— Ну, так это не сказка, а присказка: сказка будет завтра, по вечеру, — встал скоморох и ушел.
День не видали скомороха на улице, не сидел скоморох в кабаке, вечером явился к царю.
— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.
И опять собрались все скурлатые, вышла и царевна, Лисава прекрасная.
Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.
— Сказывай, слушаю, — сказал царь.
И стал скоморох сказки сказывать.
— А как был у меня батюшка — богатого живота человек. И он состроил себе дом, там голуби по крыше-шелому ходили, с неба звезды клевали. У дома был двор, — от ворот до ворот летом, долгим меженным днем, голубь не мог перелетывать. И на этом дворе был выращен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом — другой, в трубы трубят и в роги играют, а друг другу лица не видно и голоса не слышно!.. Слыхали вы этакую сказку?
— Нет, не слыхал, — сказал царь.
— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.
Вспыхнула царевна Лисава прекрасная.
— Ну, и это не самая сказка, завтра будет настоящая! — шапку взял да и за дверь.
Видит царь, человек непутный, не полцарства жаль, жаль царевну Лисаву, и говорит своим слугам:
— Что мои, верные слуги, малюты, а скажем, что сказку слыхали, и подпишемте.
— Слыхали, подпишем! — зашипели скурлаты.
Тут царский писчик столбец настрочил, скрепил, и все подписались, что слыхана сказка, все ее слышали. Тем дело и кончилось.
С утра сидел скоморох в кабаке, пить не пил, пьян без вина.
— Что ж, Лексей, — подзадаривала голь, — полцарства и царскую дочь?
— Не допустят! — каркала кабацкая голь.
В третий раз третьим вечером приходит скоморох к царю.
— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.
А уж скурлаты на своих местах, задрали нос, брюхо выпятили: так и дадут они скомороху полцарства и царскую дочь, — хитер скоморох, скурлат вдвое хитрей. Вышла и царская дочь Лисава, царевна прекрасная.
Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.
— Сказывай, слушаю, — сказал царь.
И стал скоморох сказки сказывать.
— А как был у меня батюшка — богатого живота человек. И он состроил себе дом, там голуби по кровле-шелому ходили, с неба звезды клевали. У дома был двор, — от ворот до ворот, долгим меженным днем, голубь не мог перелетывать. И на этом дворе был выращен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом — другой, в трубы трубят и в роги играют, а друг другу лица не видно и голоса не слышно. И была еще на дворе кобылица: по трои жеребят в сутки носила, все третьяков-трехгодовалых. И жил он в ту пору весьма богато. И ты, наш великий царь, занял у него сорок тысяч денег. Слыхали ли этакую сказку?
— Слыхал, — сказал царь.
— Слыхали! — гаркнули скурлатые.
— Слыхали? — сказал скоморох, — а ведь царь до сих пор денег мне не отдает!
И видит царь, дело нехорошее: либо полцарства и царевну давай, либо сорок тысяч денег выкладывай. И велит скурлатам денег сундук притащить.
Притащили скурлаты сундук.
— На, бери, — сказал царь, — твое золото. Поклонился скоморох царю, поклонился царевне, поклонился народу.
— Не надо мне золота, не надо и царства, дарю без отдарка! — и пошел в кабак с песнями.
А царевна Лисава прекрасная стоит бела, что березка бела.
Потихоньку, скоморохи, играйте.
Потихоньку, веселые, играйте,
У меня головушка болит,
У меня сердце щемит!
Вот и сказка вся.
1912
Пес-богатырь

Был один охотник — лесной человек.
Шайками на охоту не любил ходить охотник — был у него верный пес, непростое ружье. Благословил его ружьем лесник-колдун, как помирать пришел час старику, а пса разжился у знакомого от злой сучки. И немало забот ему было со псом: год растил щенка в погребе, караул держал — пронюхали звери, что будет пес-богатырь, и сколько подкапывались зубом к погребу, утащить хотели песика, зверь это все понимает! — уберег от зверей, и вышел пес ему верный, а злой — в мать. Верный пес, непростое ружье — куда хочешь, и ночью надежно.
Случилось охотнику под Егорьев день заночевать в лесу. Под Егорьев день жутко в лесу! Расклал он огонек, давай на огне сало печь, и слышит, голос в лесу — так пастух днем скотину пасет, кнутом хлопает, кнутом кто-то хлопает, инда по лесу отголосок идет. Прислушался — кому б это быть? — а уж треск пошел и близко, все ближе к огню.
И стали один за другим выходить к огню волки — подойдет волк и ляжет к огню. Так и идут, и идут гужом, как скот дружный, с полдесятины кругом огня место заняли — все волки. А за серыми пошли белые — начальство волчиное. И с белыми на белом коне сам Егорий.
— Добрый ночлег тебе, охотник! — сказал Егорий.
Догадался охотник, верно, сам Егорий на белом коне среди белых волков, по его повелению и волки пришли, поклонился охотник Егорию.
— Вот вы, Храбрый Егорий, сказали: добрый ночлег мне, — а думаю так, ненаровчатый этот попал мне ночлег, сроду мне случая не было такого — по такому табуну волков видеть.
— А не нужно было под Егорья ночевать на охоте! Мне завтра праздник! — глядит Егорий строго.
Ну, охотник и замолчал, сам понимает, не нужно было ему в лес ходить на охоту под такой праздник, против ничего не скажешь: провинился.
А пес охотников, Знайко, бурчит и бурчит.
— Да что твоему псу нету покоя, бурчит и бурчит? — строго глядит Егорий.
— Какой тут покой, ведь это все песьи губители, вот он и сердится! — потрепал охотник своего верного пса.
— А были когда случаи, чтобы пес твой с волками боролся? — строго глядит Егорий.
— Как не бывать, случалось, штуки три и четыре нападали на пса, да он им не поддавался, Знайко-то! — и стало не по себе охотнику, чует — лесной человек! — будет беда!
— А ну-ка, вели ему с двумя моими волками побороться! — сказал Егорий.
И жалко охотнику пса и ничего не поделаешь, согласился, — перечить нельзя, — согласишься!
— Что ж, — говорит, — пускай поборются.
Ну, Знайко долго с волками не ворызгался — у Знайки клыки вершка по три торчали, кроянул пес клыками одного волка и другого. Чуть живые побежали волки прочь от стану.
— Ишь, какой злой, знать, и пятерым не поддастся! — и повелел Егорий пяти волкам со псом драться.
Пять волков напустились на Знайку, а Знайко еще ярей стал и сердитей, трех так и кончил, а двух перервал.
Семь уж зверей перерезано, семь волков, а псу ничего — ничего не вредилось.
— Десять волков напущу!
И по слову Егория кинулись волки на Знайку, десять волков.
Да не тут-то: как пятерых, так и этих, кончил пес, а сам невредимым остался.
— Нет, охотник, — сказал Егорий, — уж теперь и мне своих зверей жалко, а свяжи-ка ты пса!
И связал охотник Знайку, ослушаться не посмел, связал охотник своего верного пса: передние ноги и задние.
И тогда бросились волки на Знайку, стали грызть связанного пса и загрызли пса до смерти.
А сколько порезал пес, сколько ранил волков, и вот покончили пса!
Загоревал охотник.
— Вы, — говорит, — святой угодник, а поступили беззаконно, зачем приказали мне связать моего пса!
— Правда, незаконно я поступил, — ответил Егорий, — я за то тебя наказываю, что не должен ты был под мой праздник ночевать на охоте. Я над зверями пастырь — по моему повеленью режут звери скотину. И вот я со своим стадом и настиг тебя наказать.
Поднялись волки и пошли от огонька, один за другим, пошли волки гужом, как скот дружный, а за серыми белые — начальство волчиное, и среди белых на белом коне отъехал Егорий.
Остался в лесу охотник. И прошла ночь, погас огонек, светать стало. И пошел охотник домой, один, без своего верного пса.
Тоскливо было ему без своего верного пса.
И приснился охотнику ночью его Знайко, будто говорит ему Знайко:
— Эх, хозяин, Михайло Михайлыч, было б тебе не вязать мне всех ног, не поддались бы мы и всему стаду Егорьеву, мы прошли бы леса все, все пущи, никаких зверей не боялись. Эх, хозяин!
Проснулся охотник, еще тоскливее стало: было б ему не вязать всех ног Знайке!
— Эх, пес мой верный!
Да так затосковал, так затосковал охотник, что от тоски и помер.
1912
Летчик

Был один охотник Архип. Сам сивый, лоб бараний, усы котовы, а глаз круглый-птичий. На зверя и птицу слово знал.
И как выйдет, бывало, Архип с ружьем в поле либо в лес, помолится, поклонится, покурлычит, а их уж видимо-невидимо зверей всяких, и текут, и брызжут, и мечутся, и скачут с отцами, матерями, со всем родом-племенем, со всем заячьим причетом безоглядно, безразлучно, безотменно, бесповоротно, шибко и прытко белые, красные, черные, бурнастые, разношерстные, разнокопытные, рыси, росомахи — весь подубравный зверь.
Глядь, ловушки и ставушки, тенета и опутины верх полны: там который прилепился головкою, там задел ножками либо хвостиком, а там всем крылом влез.
Ельник, речка, водотопина были Архипу в честь и радость, и помогали ему, как свой брат, подземные жилы, тайные ключи, поточины.
Вот и стал раздумывать Архип, как бы ему на небо попасть, поглазеть на Божью небесную тварь — на солнце, луну, на мелки часты звезды и на планеты.
Поднялся Архип со светом, помолился на восход красна солнца, на закат светла месяца, на тихую зарю утреннюю и вечернюю и пошел в лес. Вырубил он лысину, стал строгать стружки. Строгал, строгал, настрогал большой костер, закрыл его мокрою рогожею, зажег стружки. Загорелись стружки, Архип на рогожу стал: жаром его вверх подымать будет, он и полетит, — так держал в уме Архип.
Его и стало подымать вверх на воздух, на вышние небеса дальше и дальше. И летит уж он без шапки об одном сапоге — перетерял дорогою, летит он, как стрела из тугого лука, как молния из облачной гряды.
Летел, летел Архип, а как остановился да осмотрелся: земля-то вроде Божьей коровки — такая она маленькая, не видать земли, вот на какую угодил Архип высоту!
Ну и ходит Архип по небесам. Туда ткнется, сюда сунется, народу никакого нет, и одни-то звезды над тихой водой, тихо чистые теплятся, поют божественное.
Прожил неделю Архип, скучно стало — земли не видать: без земли-то человеку скучно!
И ходил он, ходил по небесам, нашел веревку и видит: много накладено ее на облаках и без всякого присмотру.
Думает себе:
«Свяжу веревку, спускать буду, до земли хватит!»
Спустил он всю веревку, привязал за дерево — большое стояло, без корня, без листьев, а дерево — и стал спускаться.
Спускался он, спускался, и такой вышел грех: кончилась веревка, — на полверсты не хватает, не больше.
А ветер свистит, качает, носит его над долиною, носит его над горами. Понесет над долиною, — все города, все деревни видны. И кричит Архип, да кому услышать, а и услышат, чай, за ворону примут!
Вот несет его ветер над гладким местом.
«Развяжу-ка я узел!» — думает Архип: летавши-то измызгаешься, и не такое в голову полезет.
И развязал: только уши запели.
И угодил Архип прямо в дряп по грудь и с руками, — вылезть не может.
Прокатилось время весеннее, налетели разные птицы, прилетел и лебедь. Видит лебедь на болоте сено, а у лебедя известно: где бы ни нашел он кусочек, тут и гнездо делать. Принес лебедь с берега землицы, огладил лапками кочку — Архиповы-то волосья лебедь за кочку принял! — яйцо положил, другое, третье и начал парить.
А волк-волчище уж чует лебяжье гнездо, только попасть не может. Подкараулил волк, когда лебедя не было, яйца лебяжьи съел, гнездо разворотил и расселся отдохнуть, серый.
Архип как зубом цап его за хвост, а волк как прыгнет— из дряпа Архипа и выдернул.
Так Архип и вышел.
— Нет, ребята, — сказывает, — не нужно на небо летать!
И с тех пор, словно на смех, как прикатится весеннее время, глядь, а уж который-нибудь охотник рубит лесину, строгает стружки, раздувает костер, тяп да ляп — полетел!
Конечно, без земли человеку скучно, да охота пуще неволи: хочется поглазеть человеку на Божью небесную тварь — на солнце, луну, на мелки часты звезды и на планеты.
Мужик-медведь
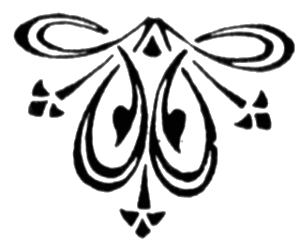
Жил в лесу лесник, стояла у лесника в лесу избушка. Днем лесник в лесу ходил, вечером на ночлег в избушке хоронился. Место было глухое: ни дороги, ни пути, да и не заходил никто в такие дебри и чащи. И вот однажды приходит к леснику медведь, и прямо, не спросясь, идет за печку, и там рассаживается, как свой.
Лесник не робкого десятка, а струхнул не на шутку: стрелять не смеет. А медведь все сидит, не уходит. Сготовил лесник ужин, есть захотелось. Поел сам, дал и медведю, накормил медведя. Легли спать. И спали ночь мирно.
Поутру собирается лесник в лес, а медведь из избушки на волю. И опять лесник сам заправился и медведя попотчевал. Вышел медведь из избушки, ничего не сказал, только поклонился леснику до земли низко. Один пошел в одну сторону, другой в другую.
В крещенскую ярмарку приехал лесник в город. И вот один богатый приказчик зазвал его в трактир с собою и ну угощать. И так его угощал, что лесник от удовольствия даже имя свое крещеное запамятовал.
И спрашивает лесника приказчик:
— Можешь ли ты знать, за что я тебя угощаю?
— Не могу знать, — отвечал лесник.
Приказчик ему и говорит:
— А помнишь, как я у тебя ночь ночевал?
— Когда ты ночевал?
— А был ты в своей избушке в лесу, и пришел к тебе медведь. Я самый и есть медведь.
— Как так медведь?
— Да так. Если бы ты взялся тогда за ружье, я бы тебя съел. Три года, три весны ходил я в шкуре медведем, люди испортили, обернули меня медведем.
Тут лесник чуть было ума не решился, а потом ничего — отошел.
Вернулся лесник в лес в свою лесную избушку и стал себе жить да поживать здорово, хорошо, и уж никого не боялся: заяц ли усатый забежит в избушку, росомаха ли — все за гостей, все как свои, милости просим!
Чудесные башмачки
Жил-был царь и царица, и была у них дочь царевна Курушка. Как-то стали у царевны в голове искать, вошку и нашли. Положили вошку на овцу, — сделалась она с овцу. С овцы положили на барана, — сделалась она с барана. Тут царь приказал убить ее и выделать шкуру. А из шкуры сшили Курушке башмачки.
И дал царь по всем государствам знать:
— Кто отгадает, из какой кожи башмачки у царевны, за того и замуж отдам.
Поприезжали царевичи, королевичи. Кто скажет Козловы, кто сафьянные, — никто не может отгадать.
Узнал колдун Мертвяк, пришел и объявил:
— У Курушки-царевны башмачки вошиные!
Надо царю слово сдержать. Назначили свадьбу.
Горевал царь: страшен колдун Мертвяк, как сокрыть царю от колдуна любимую дочь?
И придумал царь: посадить царевну на козла, увезти ее прочь, будто с сеном козел.
Вот поставили столы, за стол посадили клюку, нарядили клюку царевной, ну, ровно царевна!
Вот едет на свадьбу колдун, а козленок навстречу.
— Козлик, козлик, дома ли Курушка-царевна? — спрашивают поезжане.
— Дома, дома, вас, гостей, давно к себе ждет.
И другая лошадь ехала — спрашивали, и третья, и сам Мертвяк спрашивал:
— Козлик, козлик, дома ли Курушка-царевна?
— Дома, дома, вас, гостей, давно к себе ждет.
Так и проехали, а козлик с царевной дальше помчался.
Мертвяк приехал к царскому двору, выговаривает:
— Что же ты, Курушка, что же ты, царевна, не встречаешь меня, не кланяешься? — да в горницу.
А в горнице стоит за столом Курушка, не кланяется.
Ближе подошел Мертвяк, все ответа нет, да как бросится на нее — клюка и упала.
Обманут Мертвяк. Надули колдуна. Стал Мертвяк разыскивать царевну, весь дворец обошел, — нигде ее не может найти. Догадался колдун, поехал в погоню за козлом вслед.
Говорит царевна:
— Козлик, козлик, припади к матери-сырой земле, не едет ли Мертвяк за нами?
— Едет, едет, едет и близко есть.
Царевна бросила гребень.
— Стань лес непроходим, чтобы не было птице пролету, зверю проходу, Мертвяку проезду, впереди меня будь торна дорога широкая.
Мертвяк приехал — Мертвяку застава.
Скликнул Мертвяк мертвяцкую силу, навезли топоров, пил. Секли, рубили, просекали дорогу. Расчистили дорогу и опять Мертвяк погнался за Курушкой. Нагоняет царевну.
— Козлик, козлик, припади к матери-сырой земле, не едет ли Мертвяк за нами?
— Едет, едет, едет и близко есть.
Царевна бросила кремень.
— Стань гора непроходима до неба, чтобы не было птице пролету, зверю проходу, Мертвяку проезду.
Гора и стала.
Скликнул Мертвяк мертвяцкую силу, стали сечь да рубить, просекли дорогу, и снова погнался Мертвяк.
— Козлик, козлик, припади к матери-сырой земле, не едет ли Мертвяк за нами?
— Едет, едет, едет и близко есть.
Царевна бросила огниво.
— Стань огненна река, чтобы не было Мертвяку проезду.
Приехал Мертвяк — нет проезду. Кричит Мертвяк царевне:
— Брось мне, царевна, твои башмачки, я — Мертвяк, я не возьму тебя замуж.
Царевна бросила башмачки. Сел Мертвяк и поплыл, и доплыл до середины реки и утонул.
А Курушка царевна поехала в другое царство и там вышла замуж за морского разбойника.
1908
Жадень-пальцы
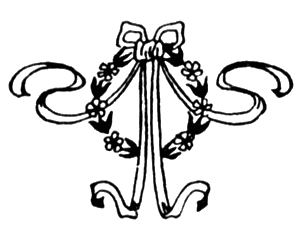
Были три сына. Жили они с матерью со старухой. Жили они хорошо, и добра у них было много. Старуха-мать души не чаяла в детях. Только и думы у старой, что о детях, чтобы было им жить поспокойнее, побогаче, повеселее. И задумала старуха, — помирать ведь скоро! — захотелось матери еще при жизни благословить добром сыновей, добро разделить — каждому дать его часть.
И разделила мать добро свое поровну всем, все сыновьям отдала, а себе ничего не оставила. Что ей добро, богатство, зачем оно ей на старости лет — помирать ведь скоро! — как-нибудь век доживет, не оставят, небось, любимые детки, дадут ей угол дожить свой век.
Сыновья получили добро, не разошлись, все вместе дружно остались жить, как наперед вместе жили. Только матери-старухи уж никому теперь не надо. Гнать её не гонят, да лучше бы выгнали: трудно, когда ты не нужен!
Сели сыновья обедать, а никто за стол не посадит матери.
Лежит мать на печке голодная.
— Господи, хоть бы Ты мне смерть послал!
А проходил о ту пору по селу старичок-странник, зашел старичок в избу к братьям — хлебушка попросить.
— Господи, хоть бы Ты мне смерть послал! — молится мать.
Старичок и спрашивает:
— Что же это так, сами кушаете, а матери не даете?
— А нам ее никому не надо! — отвечают сыновья, знай себе ложкой постукивают.
— А продайте, — говорит старичок, — коли не надобна.
Сыновья к страннику, живо все из-за стола выскочили.
— Купи ее, дедушка, купи, сделай милость! Лишняя она, обуза нам с ней.
— Господи, хоть бы Ты мне смерть послал! — молится мать.
— А выведите ее, ребятки, за забор, там и денежки получите! — сказал странник, пошел из избы, вон из избы пошел.
Дети к матери, стащили старуху с печки, поволокли: двое под руки, третий сзади. Вывели из избы старуху да к забору и уж там, за забором, хотели они от нее отступиться, а рук и не могут отдернуть…
Старуха приросла к ним.
А с тех пор и живут так, не могут освободиться: сами едят и мать кормят.
1912
Медведчик

1
Шел медведчик большой дорогой, вел медведей. С медведями ходить трудно — медведь так в лес и смотрит, тоже поваляться охота в теплой берлоге — берлога просладена медом! — вот и изволь на скрипке играть, отводи душу медвежью.
За Филиппов пост наголодался медведчик, нахолодался. Плохо нынче скомороху. И то сказать: без скомороха праздник не в праздник, а всяк норовит лягнуть тебя побольнее, либо напьются, нажрутся, и скомороха не надо.
Застигнул медведчика вечер: куда ему с медведями, такое позднее время! А стоял на дороге постоялый двор богатый. Просит медведчик у дворника пустить на ночлег. А дворник и слышать не хочет, отказывает.
Прошел слух, будто ездят по большим дорогам начальники, проверяют перед праздником чистоту у дворников. И была дворнику грамотка подброшена, что ночью нагрянет к нему начальник для проверки. Вот дворник, кто б ни попросился, всем и отказывал.
— Я не пускаю не то что тебя с твоими супостатами, я и извозчиков не пускаю, обещался нынешнее число сам губернатор у меня быть.
А работник дворников говорит дворнику:
— Хозяин, — говорит, — отведу я их в баню; в предмыльник поставить медведёв, а сами в бане упокоются.
Уперся дворник: и то и другое, и неудобно, и что губернаторские кони услышат запах медвежий, на дворе будут пугаться.
Плохо дело. А уж ночь охватывает, ночь — звезды, крепкий мороз. Просит медведчик, медведей ему жалко — как льдинки, звезды горят, крепкий мороз.
Ну, дворник и согласился.
— Отведи их в баню с медведями, — сказал дворник работнику, — да затвори покрепче, а ключи у себя держи, кто знает!
Отвел работник медведчика в баню, запер ворота и стал с хозяином звонка слушать, гостей поджидать.
2
Остался медведчик с медведями в бане. И тепло ему и медведям тепло, да все неспокойно что-то, сам не спит и медведи не спят: Миша лапу сосет, а медведица Кулина ноздрями посвистывает. Не мёртво, никак не уснуть, то Кулину погладит, то Мишу потреплет.
О чем медведица думала, невдомек медведчику, только что-то недоброе думала, губой пошлепывала, или чуяла недоброе, да сказать не могла? Миша тот свое думал: пройтись бы ему на пчельню пчелок поломать! Охотник был до меда медведь, лапу сосал.
Стал медведчик, потрогал лапы, потрогал уши медвежьи.
«Постой, — подумал, — прочитаю заговор, чтобы медведей ножи не брали, кто знает!»
— Мать-сыра земля! — поклонился медведчик Мише, поклонился Кулине, — мать-сыра земля, ты железу мать, а ты, железо, поди во свою матерь-землю, а ты, древо, поди во свою матерь-древо, а вы, перья, подите во свою матерь-птицу, а ты, птица, полети в небо, а ты, клей, побеги в рыбу, а ты, рыба, поплыви в море, а медведю Мише, медведице Кулине было бы просторно по всей земле. Железо, уклад, сталь, медь на медведя Мишу, на медведицу Кулину не ходите, воротитесь ушьями и боками. Как метелица не может лететь прямо и приставать близко ко всякому древу, так бы всем вам не мочно ни прямо, ни тяжко падать на медведя Мишу, на медведицу Кулину и приставать к медведю Мише и к медведице Кулине. Как у мельницы жернова вертятся, так бы железо, уклад, сталь и медь вертелись бы круг медведя Миши и медведицы Кулины, а в них не попадали. А тело бы медвежье было не окровавлено, душа не осквернена. А будет мой приговор крепок и долог.
И только что медведчик заговор кончил, слышит, колокольчик у ворот брякнул, да все резче и громче.
3
Слышит работник, звонят у ворот, поднялся, и хозяин поднялся, тоже услышал.
— Беги, — говорит, — скорей, отворяй!
Работник к воротам, отворил калитку посмотреть, а у ворот люди — не такие, он назад, калитку запер да к хозяину. А уж разбойники давай сами бить и ломать, сорвали ворота да в дом, и сейчас же — овса, сена коням, а себе вина и закуски.
Хозяин видит, дело-то плохо приходит, старается угодить гостям, и вина и хлеб-соли полон стол наставил. А им все мало, до денег добираются, вот куда метят!
— Довольно, — говорят, — тебе, хозяин, копить, уж накопил достаточно, — да за сундук дворников и взялись.
Тут хозяин улучил минуту, пока молодцы из сундуков выбирали, да и пришепни работнику, чтобы в баню сходил к медведчику, помощи попросить медведями.
Работник в баню к медведчику, рассказал медведчику, какая беда у хозяина. Мигнул медведчик Мише, мигнул Кулине, вывел медведей из бани к дому, приказал им службу.
Кулина сердитей и сильнее Миши, велел ей медведчик в дом идти и управляться, насколько есть мочи, да чтобы маху не давала, а Мише приказал в сенях ждать.
— Случаем тронутся утекать молодцы, — сказал медведчик, — маклашку давать им немилосердную!
Поклонились медведи медведчику, рады, дескать, приказание исполнить, стал Миша в сенях, поднялась на задние лапы медведица и пошла в дом.
А разбойники деньги все обобрали, и опять стали гулять, уж в дорогу пили и закусывали, да как посмотрели на это чудовище — космато, велико, голова, что квашня, — от страха так и ужаснулись.
Ну, Кулина не робкая, не заробела, давай их ломать во все свои силы — кому руки прочь, кому Ногу прочь, кому черепанку взлупила.
Разбойники за ножи, а нож не берет — погнулись в кольцо ножи, невредима медведица, видят, не сладить, и давай уходить, а Миша в дверях. И кто в сени выскочил, так тут и пал.
Так перебили медведи всех до единого, а было всех двенадцать молодцов, двенадцать разбойников.
— Собакам собачья честь! — сказал дворник, забрал себе двенадцать коней разбойничьих и до утра чистил и прибирал с работником дом и двор.
А медведчик, чуть свет, в путь пошел, повел медведей. До звезды ему надо добраться до города, пристать к колядовщикам.
Без скомороха, без медведчика и праздник не в праздник, и пир не в пир, коляда не настоящая.
ИЗ КНИГИ
«УКРЕПА»
Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе
Шишок

Если другой раз и человека нипочем не берет пуля, то против нечистой силы что плевок, что пуля.
Стояли солдаты в земле не нашей, очереди дожидались и заскучали, стоявши. Вот он и задумал подшутить над ними.
— Стреляйте, — говорит, — в меня, сколько влезет, мне ничего не будет! — и стал сам мишенью.
Ну, и выискались охотники, нацелятся — выстрелят, а он сейчас же пулю из себя, и несет тому, что стрелял.
Диву давались солдаты.
А был один старичок в обозе, — угодники-то нынче, слышно, все туда, на войну ушли! — и говорит старичок солдатам:
— И чего вы, други, мудрить над собой даетесь, да и добро попусту изводить грешно!
— А как бы нам, дедушка, его осилить?
— А очень просто, — старичок-то все знал, — только зря не годится: отместит, окаянный.
Стали приставать к старику, скажи да скажи. А уж шишок, видно, сметил и что-то не слышно стало. Старичок и открыл тайность.
— Очень просто: пуговицу накрест разрежь, заряди ружье и стреляй, — завертится!
Ну, схватились было искать, туда-сюда…
А тут такое пошло, не до того, уж: вдруг повалил настоящий, гляди, не зевай, — силища страсть, и откуда только берется, так и прет.
Да Бог дал, из беды вышли.
Отстал от товарищей Курин, из третьей роты, не завалящий солдат, во! — папироску закуришь. Туда пойдет, нет дороги, повернет в сторону, — и того хуже. Так и пробирался на волю Божью, а уж едва ноги волочит, ой, пришлось туго!
Бредет Курин мимо пруда и видит: сидит на плотине… узнал, он самый, ногами в воде бултыхает, а рожу на Курина, язык высунул, дразнит:
— Что, мол, ничего, солдат, не сделаешь!
И так это Курину досадно стало, вспомнил он старичка, про что старичок-то сказывал, подошел поближе к плотине, живо отхватил пуговицу, зарядил ружье, прицелился да как трахнет.
Так того в прах.
— Ага! — словно обрадовался кто-то.
Только и услышал Курин, ноги соскользнули.
И сказывали, без вести солдат сгинул.
1915
Урвина
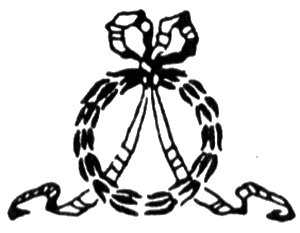
Девки устроили с парнями вечеринку. И началось не-ладом: одни девки своих парней больше пригласили, чтобы любы им были, а тех не пригласили, которые другим были любы, ну, и разожглись друг на друга. И хоть с виду и помирились, и пошло, как ни в чем, веселье — пляс и смешки, и хихиньки, да в сердце-то затаили.
Одни девки своим парням песни поют, другие — своим, парни пьют да девок пот' уют. А как подпили, уж все перемешалось, только стон стоит. И чего-чего не вытворяли, на какие выдумки не пускались, а все будто мало.
Тут сердце-то и заговорило: одна обиженная девка и пришепни счастливой, а той — море по колено. Подговорила та свою подругу, оделись, да тихонько из избы и вышли. И — ведь что придумать! — на кладбище пошли девки, вынули там двух мертвецов из общей могилы, завернули мертвецов в рогожи, да на своих косах и приволокли в избу, да за печку Их и поставили.
А сидела на печке девчонка Машутка и все видела, — испугалась девчонка мертвецов-то, молчит, прижалась в уголок, сердешная.
Девки вошли в горницу, посмеиваются, а никому и не вдогад, что там за печкой, какие такие гости пожаловали.
Уж стали мертвецы пошевеливаться.
— Что, брат, разогреваешься?
— Разогреваюсь, брат.
— И я, брат, разогреваюсь.
Машутка-то на печке не пикнет, а вся изба, ей горя нет, пляшет, ой, весело!
В самую полночь девка обиженная, что на такое дело надоумила, и говорит подругам счастливым:
— Спойте вашим молодцам песенку, да повеселей, плясовую! — сама подмигивает: понимай, каким молодцам запечным!
Девки и запели песню веселую. И проняла до сердца мертвецов песня: мертвецы вдруг стали огненные, как головни горящие, языки высунули, изо рта пламя пошло, жупел, а сзади вытянулись, помахивают собачьи хвосты.
Как их в песне-то стали величать, как они из-за печки-то выскочат, да в горницу, и давай плясать по-своему и кривляться, и ломаться, и кувыркаться, да девок и парней лягать, пламенем, жупелом палить, да за бороду, да за косы рвать.
Куда тебе и хмель вон, ноги подкосились: кто где стоял, так тут ничком и грохнулся.
А мертвецы, знай, пляшут, не могут стать — дали им волю, и рады бы, не могут, пляшут — половицы вон из полу летят, посуда прыгает, все вдребезги, все в черепки.
До петухов мертвецы плясали и, как запел петух, так сквозь землю и провалились, инда земля застонала.
Поутру пришел народ, смотрят — кто без головы, кто без руки, кто без ноги, кто без бороды, кто без косы, и все мертвы, а посреди избы — урвина, сама бездонная, дна не достать.
А Машутку сняли с печки, едва откачали девчонку: и! напугалась-то как, сердешная! Машутка про все и рассказала.
Кабачная кикимора

1
Кабак стоял на юру у оврага, овраг осыпался, и кабак чуть лепился на овраге. Дважды в неделю в селе были большие базары, и в кабаке шла большая торговля. Да целовальник не долго сидел в кабаке, живо проторговывался: находили недочет, а, главное, большую усышку вина и рассиропку. В откупной конторе много было толку о кабаке, и странно было, что все целовальники рассказывали одно и то же, как ровно в полночь кто-то в кабаке вино цедит, когда же зажигали свечку, видели вроде хомяка — хомяк бег от бочки и прямо под пол, в нору. Кабак перестали снимать, и даже даром, без залогу, никто не снимал, кабак стоял заброшен.
Один пьянчужка, не раз штрафованный и пойманный в приеме краденного, промотался и попал в большую крайность, а был он человек семейный, не глупый и отчаянная голова. Ему-то откуп и предложил кабак. Пьянчужка согласился: все лучше, чем ходить из кабака в кабак.
В первую же ночь целовальник заготовил свечку, спичек, положил топор на стойку, выпил полуштоф и завалился спать.
— Теперь хоть сам черт приходи, никого не боюсь! — и заснул.
И слышит целовальник, кто-то цедит из разливной бочки, зажег свечку, топор в руку, осмотрелся и — к бочке. Видит, печати целы и только кран полуотворен. Постукал топором в бочку — звук не тот, вина, стало быть, меньше; сорвал печать, накинул мерник, — так и есть: трех ведер как не бывало.
— Черт что ли отлил! Коли черт, покажись! Я чертей не боюсь, до чертиков не раз допивался, не привыкать стать видеть вашего брата! — и уж протакаял так, как душе хотелось.
Под полом, раздался треск — стала половица поворачиваться, и стало из-под пола дерево вырастать. Все растет и растет — сучья, ветви, листья, и все выше и шире, уж закрывают кабак и склонились над головою.
Целовальник взмахнул топором и ну рубить.
— Так, брат, вот как по-нашему! Я тебе удружу.
Вдруг топор словно во что воткнулся — нет возможности сдвинуть: чья-то рука удерживала топор.
— Пусти меня! — целовальник не струсил, — знаю, черт, пусти! Я рубить буду!
И слышит, над самой головой кто-то тихо так и кротко:
— Послушай, любезный, не руби! Это — я.
— Да ты кто?
— Мы с тобой будем друзьями, и ты будешь счастлив.
— Да кто ты? Говори толком! И топор пусти, выпить хочу.
— Ну, брат, поднеси и мне.
— Да как же я тебе поднесу, коли тебя не вижу!
— Ты меня никогда не увидишь… впрочем, когда прощаться буду, может, покажусь.
— Правду говоришь?
— Давай выпьем, потом и поговорим.
— Ну пусти ж топор.
Топор высвободился.
Целовальник зашел за стойку, взял штоф и хотел наливать.
— Послушай, любезный, — остановил его голос, — ты много не пей. Для нас довольно и полуштофа. Возьми вон тот, у него донышко проверчено, в нем, брат, вино хорошее, не испорчено еще.
— А ты откуда знаешь? Я сам принимал посуду: все полуштофы были целы.
— А ты ходил отпускать вино-то мужику?
— Ходил.
— Тебе нарочно дистаночный и подменил полуштоф, чтобы наперед узнать, будешь ли здесь мошенничать.
Целовальник взял полуштоф, посмотрел перед свечкой — и вправду, на дне дырка проверчена, воском залеплена.
— Ну, чертова образина, теперь уж я верю, что ты черт.
— А ты не ругайся, друзьями будем. Угости лучше!
Целовальник налил два стакана, свой выпил, сам скосился, что будет — другой стакан поднялся и так в воздухе и опрокинулся, будто его кто пил, и так сухо, что и капли не осталось, только кто-то крякнул:
— Ну, брат, спасибо за угощенье.
— Спасибо-то, спасибо, а ты мне расскажи, кто ты.
— Расскажу потом., А теперь слушай: всякий день в полдень и в полночь ставь в чело на заслонку стакан вина, да на меду лепешку. Этим я и буду кормиться, а ты себе торгуй. И не бойся ни поверенных, ни дистаночных, ни подсыльных, я буду предупреждать: за версты узнаешь, кто едет и кто подослан. Ложись и спи. Да образов, пожалуйста, не ставь, да и молебны не служи. А как я отсюда через год уйду — от кабака до кабака скитаюсь, вот я какой! — так и ты выходи, а то худо будет. Слышал?
— Слышал.
— Так и поступай.
Целовальник выпил еще стакан и лег.
А дерево стало все меньше и меньше, ниже и ниже, и скрылось под полом, и половица опять легла на свое место, как ни в чем не бывало.
И свечка погасла.
2
На другой день был базар.
Целовальник поутру встал рано. Торговля открылась хорошая, и он, полупьяный, торговал целый день и ни в чем не обсчитался. К вечеру проверил выручку и смекнул, что лучше торговать и не придумаешь, а что ночью тот ему говорил, он все исполнил: не забыл угостить и в полдень и в полночь и вином и лепешкой.
С этого для целовальник торговал всем на зависть. Никогда он не попадал под штраф, а продавал вино рассиропленное, он всегда знал, кто из дистаночных или поверенных приедет к нему за проверкой, и был наготове.
Диву давались ловкости его, а больше тому, что хоть пил, а пьян не напивался.
Прошел год.
И вот в годовую полночь, когда целовальник, по обыкновению, спал себе мирно на стойке, вдруг по кабаку голос:
— Прощай, брат. Ухожу. Завтра и ты выходи!
— Ну, что ж! — целовальник поднялся, — ты мне все-таки покажись!
— Возьми ведро воды и смотри.
Целовальник взял ведро, зажег свечку и стал смотреть на воду. И увидел, прежде всего, себя, ну, лицо известное, и долго только это одно и видел, инда в глазах зарябило, и как-то вдруг с левого плеча увидел другое — черноглазый, чернобровый и как мел белый, а в щеках словно розовые листочки врезаны.
— Видишь?
— Вижу.
Кто-то вздохнул, и все пропало.
И всю ночь в трубе был вопль и плачь.
3
Целовальник наутро не ушел, а, как всегда, отворил кабак — хотел еще зашибить копейку. Но попался: нагрянул дистаночный и жестоко оштрафовал.
Тут только он схватился и сейчас же сдал должность. И уж больше не целовальник, купил он на награбленные деньги постоялый двор, перестал пить и сделался набожным человеком.
1914
Магнит-камень

Шел улицей старец по духовному делу и повстречал молодых: парня с молодой хозяйкой. Загляделся старец на молодуху сколько жил он на белом свете, сколько видывал всяких, а такой не видел.
Где, добрый молодец, ты такую красавицу взял?
— Господь дал, дедушка.
Может ли это быть… Дай-ка я помолюсь, даст ли?
— Даст и тебе, дедушка.
С тем и попрощались. Молодые пошли по своим делам, а старец повернул в свое скитное место.
И круглый год молился старец Богу, просил Бога дать ему такую красавицу, как тому встречному счастливому парню. А был старец великой веры, и молитва его была горяча и чиста и неустанна.
Случилось о ту пору, задумал царь царевну замуж выдавать, и кликнул царь клич по всему царству, чтобы охотники ко дворцу явились смотреть царевну. А была царевна такая красавица, краше ее и не было.
Дошел клич и до старца. В последний раз помолился старец и вышел из своего скитного места и прямо к царскому дворцу. Подходит к воротам и просится в палаты с царем поговорить. Доложили часовые, и велел царь пустить к себе старца.
Пал старец перед царем на колени.
— Что ты, дедушка? — спрашивает царь.
А старец подняться сам уж не может, стар очень.
Поднял его царь, усадил с собой. Отдышался старик.
— Ну, что же ты, дедушка?
— Да вот наслышался про вашу дочку-царевну, свататься пришел. Отдадите или нет?
Слушает царь, ушам не верит. Что за притча? Сперва-то даже страшно стало: не указание ли какое? Стал расспрашивать старика, откуда он и какой жизни. И рассказал ему о себе старец, как от юности своей ушел он от мира и в чистоте прожил в трудах скитских.
Видит царь, старик жизни хорошей, и говорит ему:
— Послушай, Федосей, человек ты толковый, до таких лет дожил, дай Бог каждому, сам ты понимаешь, ну куда тебе жениться?
А старик одно свое заладил, и ничем его не собьешь и никаким словом не остановишь: пришел царевну сватать, да и только.
— Я с дочери воли не снимаю, — говорит царь, — ступай к ней: как она скажет, так и будет.
Простился старец с царем, и провели старика к царевне в палату.
— Что тебе, дедушка, надо? — спросила царевна.
— Да вот сватать вас пришел. Пойдете или нет?
Переглянулась царевна с сестрами и говорит:
— Подумаю, — говорит, — выйдите на немного в прихожую.
Вышел старец. Стоит у двери, дожидается, а сам думает:
«Господи, неужели по молитве моей не дастся мне!» — и вспоминает, как тот парень сказал: «Дастся и тебе!»
А уж от царевны требуют.
— Ну, что, царевна?
— Я пойду за тебя, — говорит царевна, — дай только отсрочки с добром справиться!
А сестры ее тут же стоят и смеются.
— А сколько, царевна?
— На три года.
— На три года! Да я до той поры умру, царевна. Нет, либо нынче, либо завтра свадьба.
— Ну, хоть на два года, — просит царевна.
Старик не сдается.
— Ну, хоть на год!
— На три недели, царевна.
— Ладно, — согласилась царевна, — только так просто я за тебя не пойду, а достань ты мне магнит-камень, тогда и пойду.
А сестры ее тут же стоят и смеются.
Попрощался старец с царевной и пошел себе из дворца.
Не то, что достать, а он сроду родов не видывал, какой это магнит-камень.
Вышел старец в чистое поле, стоит и повертывается на четыре стороны.
— Господи, даешь мне царевну, а где я магнит-камень найду?
И видит, в стороне леса чуть огонек мигает. И пошел он на огонек. Шел, шел — а там келейка стоит. Постучал — не отзываются, отворил дверь — нет никого. И вошел в келейку, присел на лавку, сидит и думает:
«Где же я магнит-камень найду?»
И отвечает ему ровно бы человечьим голосом:
— Эх, Федосей, выпусти меня, я тебе магнит-камень достану.
— Кто ты?
— Все равно не поймешь, зачем тебе.
— Где же ты сидишь?
— В рукомойнике; выпусти, пожалуйста.
Старик думает, чего же не выпустить, коли магнит-камень достанет! Да насилу отыскал рукомойник: от старости-то очень глазами слаб стал.
И выпустил, — словно что-то выскользнуло, — не то мышь, не то гад.
Бес разлетелся с гуся и улетел.
«Ну, — хватился старик, — чего это я наделал!»
А уж тот назад летит, и камень в лапах.
— Вот тебе, получай!
Осмотрел старец камень, потрогал — вот он какой магнит-камень! А сам себе думает: «Как же так, освободил он нечистую силу, и за то в ответе будет!» И говорит бесу:
— Вот ты такой огромный, гусь, а залез в такую малую щелку?
А бес говорит:
— Да я, дедушка, каким хочешь могу сделаться!
— Ну, сделайся мушкой.
И вот бес из гуся стал вдруг мухой, самой маленькой мушкой.
Старец инда присел: не упустить бы.
— Пожужжи!
Бес пожужжал.
— Ну, полезай теперь на старое место, а я посмотрю, как это ты туда пролезешь…
Тот сдуру-то и влез… Влез, а старец его и зааминил.
Не с пустыми руками, с камнем — с магнитом-камнем пришел старец к царевне.
— Вот тебе царевна, — и показывает камень.
Посмотрела царевна: магнит-камень!
— Ну, стало быть, судьба моя, собирайся венчаться.
А старец и говорит:
— Нет, царевна. Куда мне? Я год молился. Я только Господа исповедал. И теперь вижу, и больше мне ничего не надо. Прощай, царевна.
И пошел в свое скитное место, доживать в трудах последние дни.
1914
Яйцо ягиное
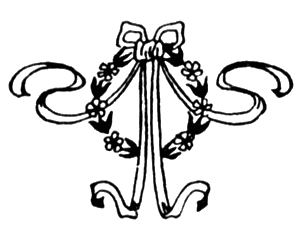
1
Баба-Яга снесла яйцо.
Куда ей? — не курица, сидеть нет охоты. Завернула она яйцо в тряпицу, вынесла на заячью тропку, да под куст. Думала, слава Богу, сбыла, а яйцо о кочку кокнулось — и вышел из него детеныш и заорал. Делать нечего, забрала его Яга в лапища и назад в избушку.
И рос у нее в избушке этот самый сын ее ягиный.
Ну, тут трошка-на-одной ножке и всякие соломины-воромины и гады, и птицы, и звери, и сама старая лягушка хромая принялись за него вовсю — и учили, и ладили, и тесали, и обламывали, и вышел из него не простой человек — Балдахал-чернокнижник.
А стоял за лесом монастырь и спасались в нем святые старцы, и много от них Яге вреда бывало, а Яга-баба на старцев зуб точила.
И вот посылает она свое отродье.
— Пойди, — говорит, — в Залесную пустынь, намыль голову шахлатым, чтобы не забывались!
А ему это ничего не стоит, такое придумает — не поздоровится.
И вот, под видом странника, отправился этот самый Балдахал в Залесную пустынь.
2
Монастырь окружен был стеною, четверо ворот с четырех сторон вели в ограду, и у каждых ворот, неотлучно, день и ночь пребывали старцы, разумевшие слово Божье: у южных — Василиан, у северных — Феофил, у восточных — Алипий и у западных, главных — Мелетий.
Балдахал, как подступил к воротам, и затеял спор, и посрамил трех старцев.
— Кто переспорит, того и вера правей! — напал нечестивый на последнего, четвертого старца у ворот главных.
И день спорят, и другой, и к концу третьего дня за-слабел старец Мелетий.
Замешалась братия. И положила молебен отслужить о прибавлении ума и разумения. Да с перепугу-то, кто во что: кто Мурину от блуда, кто Вонифатию от пьянства, кто Антипе от зуба. Ну, и пошла завороха.
А уж Балдахал прижал Мелетия к стене и вот-вот в ограду войдет и тогда замутится весь монастырь.
3
Был в монастыре древний старец Филофей, прозорливец, святой жизни. И как на грех удалился старец в пустынное место на гору и там пребывал в бдении, и только что келейник его Митрофан с ним.
Видит братия, дело плохо, без Филофея ума не собрать ниоткуда, и пустилась на хитрость, чтобы как-нибудь дать знать старцу, сманить с горы. А случилось, что на трапезу в тот день готовил повар ушки с грибами. И велено ему было такой ушок сделать покрупнее да с грибом вместе письмо запечь, да, погодя, поставить в духовку, чтобы закалился.
И когда все было готово, подбросили этот каленый ушок к главным воротам на стену перемета.
И вот, откуда ни возьмись, орел — и унес ушок.
4
Старец Филофей сидел в своей нагорной келье, углубившись в Святое Писанье. А келейник прибирал келью, понес сор из кельи, глядь — орел кружит. И все ниже и ниже и прямо на Митрофана, положил к ногам ношу и улетел.
— Что за чудеса! — со страхом поднял Митрофан ушок каленый да скорее в келью к старцу.
И как раскрыли, а оттуда письмо, и все там прописано о старцах и о Балдахале.
«Хочет проклятый обратить нас в треокаянную веру! Соблазнил трех старцев, за Мелетия взялся, и ему не сдобровать».
— Что ж, идти мне придется, что ли? — сказал старец.
— Благословите, батюшка, я пойду! — вызвался келейник.
— Под силу ли тебе, Митрофан? — усумнился старец. — А ну-ка, давай испытаю: я представлюсь нечестивцем Балдахалом и буду тебя совращать — толковать Писание неправильно, а ты мне говори правильно.
Митрофан крякнул, подтянул ременный пояс и ну вопрошать старца. И, ревнуя о вере, в такой пришел раж, всего-то исплевал старца и, подняв персты, ничего уже не слыша, вопил:
— Победихом!
Не малого стоило старцу унять его.
Опомнившись, с рыданием приступил Митрофан к старцу, прося прощение.
Старец сказал:
— Бог простит. Это знамение — победишь проклятого!
И, благословив на прю, дал ему кота, зеркальце да зерен горстку.
— Гряди во славу!
5
С котом под мышку вышел Митрофан на великую прю.
А Балдахал давным-давно прикончил с Мелетием, вошел в ограду, да в монастырских прудах и купается.
— Пускай-де с меня сойдет вся скверна: упрел больно с дураками!
Услышал это Митрофан и тут же, на бережку, расположился, достал кувшин, напихал в него всякой дряни, да и полощет: обмыть старается. А ничего не выходит, все дрянь сочится.
Балдахал кричит:
— Дурак, в кувшине сперва вымой!
Заело Митрофана:
— А ты чего лаешь, сам себе нутро очисти!
— Экий умник, — рассмехнулся Балдахал, — тебя только недоставало.
И началась у них пря.
И с первых же слов стал нечистый сбивать с толку Митрофана. Растерялся было Митрофан и видит — мышка указывает усиком Балдахалу по книге. Митроха за кота: выпустил Варсофония. Варсофоний за мышкой — и пошел уж не тот разговор. Да не надолго. Опять нечистый взял силу. И видит Митрофан — голубь ходит по книге, лапкой указывает Балдахалу. Митрофан за зерно, посыпал зернышка — и пошел голубь от книги, ну клевать, наклевался, отяжелел и ни с места. И Балдахал запнулся. Да вывернулся проклятый. И не знает Митрофан, что ему и делать: ни слов нет, ни разуму! И вспомнил тут о зеркальце, вытащил его, да как заглянет — и сам себя не узнал: откуда что взялось! Балдахал только глаза таращит, и вдруг поднялся над землею и понесся. Осенил себя Митрофан крестным знамением и за ним вдогонку, только полы раздуваются да сапог о сапог стучит. И занеслись они так высоко к звездам, там, где звезды светятся и не дай Бог коснутся: завьют, закрутят и падешь, как камень.
— Эй, — кричит Митроха, — гляди, не напорись!
— А что там? Что такое?
— А вот подбрось-ка туда космы.
Балдахал сграбастал пятернею свои космы да и подбросил — и хоть бы волосок на голове остался, гола, что коленка. «Ну, слава Богу, хоть голова-то уцелела!»
И раздумался. Видит, что враг — добрый человек: предостерег! И удивился.
Тут его Митрофан и зацапал, и повел в заточение.
6
Кельи в монастыре стояли без запора — так и по уставу полагалось, да не к чему было: разбойники братию не обижали. И только одна казна книжная под замком держалась, чтобы зря книги не трогали да не по уму не брали. В эту казну книжную и заточил Митрофан Балда-хала.
И там трое суток держал его, нечистого, без выпуска.
В первый-то день, как завалился Балдахал на книги, так до полудня второго дня и дрыхнул без просыпа, а потом, надо как-нибудь время убить, взялся перебирать книги. И вот в одной рукописной — подголовком ему служила — бросилось в глаза пророчественное слово.
А написано было, что в некое новое лето явится в Залесную пустынь нечестивец, именем Балдахал, и обратит в свою треокаянную веру четырех привратных старцев — Мелетия, Алипия, Феофила, Василиана, а с ними замутится братия, и один лишь келейник святого старца Филофея, Митрофан, смирит его.
Вгляделся Балдахал в буквы, потрогал пергамен, понюхал — времена древние, и устыдился.
«И чего я такое делаю, окаянный!» — и давай жалобно кликать.
И тогда на клич его жалкий на утро третьего дня пришел Митрофан и с ним старцы и братия, посрамленная от нечестивого, пал Балдахал пред ним на колена, раскаялся и обратился к правой вере. И перед лицом всего собора дал крепкую клятву переписать все книги, загаженные им в заточении, и новую написать в осуждение бывшего своего нечестия.
1915
Спрыг-трава

Затеял один дошлый на Ивана-Купалу спрыг-траву искать — цвет купальский. Известно, сами морголютки неладные и те тогда ладно жить с тобой будут!
Вымылся он в бане, надел чистую рубаху, достал белый платок, да с платком, как стемнело, и пошел в лес. И в лесу там на поляне очертил три круга, разостлал под папоротником платок, присел, ждет, что будет.
Вот слышит, шум по лесу, треск, какие-то звери дерутся, а там стук, чего-то делают, и словно земля вся начинает кончаться, и вдруг набежал вихорь страшный — приблизилась полночь.
И ровно в полночь тихо папоротник расцвел, как звездочка.
И стали цветки на платок падать, и насыпало много, как звездочки.
Тут зря зевать не годится, завязал он цветы в узелок, но только что ступил, откуда ни возьмись медведи, начальство, саблями так и машут.
— Брось, — кричат, — а то голову долой!
И за руки хотят схватить.
И вдруг война началась, такая пошла резня — беда! Из пушек палят, раненые валятся.
— Из-за тебя проливаем кровь! Брось!
И появилась высокая каменная стена, и воткнуты в стене копья прямо перед глазами, того и гляди, выколют глаз. И стала земля проваливаться, и остался он на одной кочке. Все водой заливает — буря страшная, волны так и хлещут. Снег пошел.
Тонет народ, кричит, просят бросить цветок.
— А то, — кричат, — измаялись наши душеньки!
И вдруг, видит, запылала деревня, и дом свой видит — горит, и какие-то черные с крючками топочут вокруг.
— Не пускай! Не пускай его! Пускай горит!
А ветер так и воет, подкидывает бревна, несет головни, вся земля горит.
Не жив, не мертв, дрожкой дрожит, а держит узелок, не выпускает из рук — будь, что будет! А они, черные, уж так и этак стараются достать его: крючки закидывают, да не могут, — за кругом стоят.
И рассвело. Солнце взошло. Слава Богу, миновалось. Он и пошел из лесу, а лес зеленый, птицы поют — заслушаешься.
Шел, шел — узелок в руке держит.
Вдруг слышит, позади кто-то едет. Оглянулся — катит в красной рубахе и на него, налетел на него, да как жиганет со всего маху, узелок из рук и выпал.
Смотрит — ночь, как была ночь. И нет ничего, один белый платок под папоротником лежит, а сам он как есть мокрый: купальская росная была ночь.
1914
Банные анчутки

Во всякой бане живет свой банник. Не поладишь — кричит по-павлиньи. У банника есть дети — банные анчутки: сами маленькие, черненькие, мохнатенькие, ноги ежиные, а голова гола, что у татарчонка, а женятся они на кикиморах, и такие же сами проказы, что твои кикиморы.
Душа, девка бесстрашная, пошла ночью в баню.
— Я, — говорит, — в бане за ночь рубашку сошью и назад ворочусь.
В бане поставила она углей корчагу, а то шить ей не видно. Наскоро сметывает рубашку, от огоньков ей видно.
К полночи близко анчутки и вышли.
Смотрит, а они мохнатенькие, черненькие у корчаги уголья, у! — раздувают.
И бегают, и бегают.
А Душа шьет себе, ничего не боится.
Побоишься! Бегали, бегали, кругом обступили, да гвоздики ей в подол и ну вколачивать.
Гвоздик вколотит:
— Так. Не уйдешь!
Другой вколотит:
— Так. Не уйдешь!
— Наша, — шепчут ей, — Душа, наша, не уйдешь!
И видит Душа, что и вправду не уйти, не встать ей теперь, весь подол к полу прибит, да догадлива девка, начала с себя помаленьку рубаху спускать с сарафаном. А как спустила всю, да вон из бани с шитой рубахой и уж тут у порога так в снег и грохнулась.
Что говорить, любят анчутки проказить, а уж над девкой подыграть им всегда любо.
Выдавали Душу замуж. Истопили на девишник баню, и пошли девки с невестой мыться, а анчутки — им своя забота — они тут как тут, и ну бесить девок.
Девки-то из бани-то нагишом в сад и высыпали на дорогу и давай беситься: которая пляшет, да поет что есть голосу невесть что, которые друг на дружке верхом ездят, и визжат и хоркают по-меренячьи.
Едва смирили. Пришлось отпаивать парным молоком с медом. Думали, что девки белены объелись, смотрели — нигде не нашли. А это они, это анчутки ягатые, нащекотали усы девкам!
Дурная молва пошла, перестали баню топить.
Приехал на ярмарку кум Бублов, печник, сорвиголова, куда сама Душа! Вздумал с дороги попариться, его стращают, а ему чего — Бублов! — и пошел в баню.
Поддал, помотал веник в пару, хвать — с веника дождик льет, взглянул, а он в сосульках. Как бросит веник, да с полка хмыль из бани, прибежал в горницу.
— Ну, — говорит, — теперь верю, что у вас за баня.
— Это тебе, кум, попритчилось, видно! — смеются.
Ну, при честном народе рассиживаться нагишом не очень годится, сходили в баню за Бубловой рубахой и штанами, принесли узелок. Развернули, а они все-то в лепестки изорваны. Так все и ахнули.
Вот, они какие, анчутки банные.
А малым ребятам они ничего не делают, и днем при них не скрываются, по своим делам ходят, как при своих, черненькие такие, мохнатенькие, ноги ежиные, а голова гола, что у татарчонка.
1914
ИЗ КНИГИ
«ЗАВЕТНЫЕ СКАЗЫ»

Царь Додон
В некотором царстве, в некотором государстве царствовал сильный и могучий царь Додон. И было это царство богатое и сильное — с краями полно, не насмотришься: всякий тут лес, всякая ягода, всякие птицы водились, и не только что хлеба было всем вволю, но и всякого добра и всего невпроед было, да и скотины развелось очень довольно.
Задавал царь пир за пиром пьяные-распьяные, и было в его царстве веселье, как еще ни в одной державной стране, разливанное, и гости, отплясав ночь в три ноги, возвращались под утро домой без задних ног.
Разными диковинками славился Додонов двор, и шла его слава далеко — дошел слух до Кощея-бессмертного. И уж собрался сам Кощей в гости к Додону побывать, уж сел Кощей на ковер-самолет, да только сажен десять не долетел, потому что ему нельзя как-то в Русь, и воротился домой.
А диковинки и вправду были знатные.
Жил у царя на чердаке ворон; — ворон, если бывала надобность, пускался из слухового окошка за тридевять земель, приносил царю от Лягушки-царевны золотое яблоко, а с золотым яблоком живую воду и мертвую. Царь тем яблочком лакомился, а живую воду в квас подбавлял и всегда после бани с квасом кушал в свое удовольствие, а кстати, и чтобы век свой продлить — подбадривал старую кость, приходящую в ветхость, мертвой же водой для развлечения мух да тараканов морил.
Хранился у царя в хрустальной шкатулке перстень — перстень, если метнешь его с руки на руку или на палец наденешь, так сию же минуту и перенесет тебя куда хочешь.
Царь шкатулку держал у себя под головами, а перстень надевал только раз в году на свои именины, и то на обедню.
В стойле стоял златогривый конь златохвостый и никуда на коне никто не ездил, и никуда коня не выпускали, а была проверчена в конюшне щелка, через ту щелку все на коня глазели да диву давались.
У красного крыльца лежала свинка-золотая щетинка, испускался от свинки свет такой сильный, и никакого другого не надобилось света, и других огней на царском дворе не зажигали: хоть в самую темень иди, не споткнешься, и нечего бояться — не разобьешь носа; трогать же свинку пальцами и гладить руками никому не дозволялось — обнесена она была крепкой решеткой, и лишь издали кланялись свинке, поминали чушку добрым словом.
По саду разгуливал олень-золотые рога, днем златорогий любовался на себя в тихом озере, на ночь в пещеру спать уходил и спал до зари как простой человек.
И жила еще у царя птица-колпалица — на птице куда хочешь летай, только было б птице что есть, а птица есть хоть и ела, и не так чтобы много, да норовила за раз в один присест все запасы прибрать и волей-неволей отрезай пожирнее кусок от себя да человечиной корми птицу, а то не летит.
Царь на птице никуда не летал, а держал птицу в клетке над своим троном, и тут же у трона гусли висели самогуды и так сладко звяцали, уши развесишь.
На дворе на привязи в собачьей конурке, как собака, сидела Ведьма: день под окнами ползала немытая, ночью тявкала по-собачьи.
Как-то в сердцах предсказала Ведьма царю смерть от червя. И приказал царь Ведьму казнить, — разложили на дворе костер и Ведьму сожгли, а червей всех, сколько их ни было и какие только могли появиться; велено было доставлять ко двору и давить, а которые юрки, тех на месте приканчивать.
Высоко сидел царь Додон на перловом вырезном троне в красных веселых палатах. Окружены были царские палаты трехстенною крепостью, на стенах наведены были струны с колокольчиками.
Сидел царь высоко во всей своей царской государственной славе, давил червей да лакомился золотым яблочком, а вкруг него все гости, да все пьяные, плетут рассказ, поют, пляшут, удивляются царским диковинкам.
А диковинки и вправду царские!
Но из всех диковин диковинка, чудо из чудес, диво из див, росла дочь у царя царевна Олена — краса неоцененная, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Прошло там сколько, не год, не два, и стали вести носиться, что поспела царевна невестой под венец. И стали из иных земель цари, короли да принцы к Додону съезжаться, и стал Додон собирать царскую свадьбу.
А пока приданое готовили, удальцы женихи свою удаль перед царевной развертывали. И перевернулось все царство Додоново: очень уж царевна была всем завидлива, и зарился всякий в жены себе царевну взять. И бранились, дрались соперники, убивали друг друга до смерти, резали прямо ножами, а не то так иным делом изводили.
Вот заструнили струны, зазвенели колокольчики — наступили смотрины царские. И пошли сваты со свахами невесту охаживать, приданое-добро смотреть, всякую мелочь вдоль и поперек отрагивать, во все запускать свой глаз, такие дотошные — да так и обычай велит. И ни мало ни много, целый день трудились, — одного серебра сундуки ломятся! — и лишь под вечер согласно решение вынесли: порухи нет никакой, невеста красавица, и все как надо быть, во всей красе царской, и лучшей невесты поискать не отыщешь. А ловкостей разных — няньки да мамки научают этому делу невест — порассказала царевна на загладку сватам так много, и пальцев для счета не хватит, и такие хитрости выказала, что и сами сваты, народ дошлый, да и те не выдержали, совсем очумели да впопыхах вон сломя голову, в сени дух перевести.
И только с сыпильным мешочком, подвязав его себе крепко, вернулись сваты к царевне.
Уже готовились ударить во все колокола, готовилась царевна выбрать себе мужа, а царь зятя, как вдруг чей-то лихой глаз открыл в царевне такое… и когда про такое сват перешепнул на ухо свату, и с уха на ухо всем стало известно, всех такой оторопь взял, и вмиг весь Додонов двор ровно языком слизнуло. Повскакали женихи со сватами живо на коней, а свах кто за что — кто за седло, кто на хвост, и все до одного поминай как звали!
И с той поры никого, хоть бы кто, хоть бы самый завалящий принц, никто не являлся женихом к царю.
Посылал Додон сватов от себя, сулил царь полцарства отдать, и рад-то был царь с диковинками расстаться, лишь бы выдать дочь — да один у всех сказ:
— Не можем да не годимся. Не годимся да не можем!
Одна-одинешенька не весела томилась царевна. Утром выйдет в сад, бродит как тень и только посеред дня заходила на птичий двор кормить любимых цыцарок.
А царя совсем старость осилила, и от живой воды пользы не стало. И хоть червяков всякий день давил Додон с сотню, а то и побольше, да смерть не обманешь: червем подползет она, ой, червь, ой, зубатая!
И задумался царь, думая себе, гадая крепкую думу, как быть, да чтоб и все было. Думал царь, думал и вздумал думу: велел царь созвать со всего царства всех сколько ни есть, бояр, всех-на-всех в красные свои палаты.
И сошлись к царю бояре все, расселись по местам, порасправили бороды и начали думать, как быть, да чтобы и все было. Думали-думали, уж думали-думали, гадали-гадали, и то думали и се думали, и так и этак прикладывали, и ничего не выдумали. Так и разошлись.
А жил у царя во дворцовой клетушке один человек, а звали его Лука-водыльник, а был он, водыльник, не велик, не мал, но такой, что всякому приметен: сухонький, востренький и всего-навсего об одном-единственном глазе, да и тот не в показанном месте — во лбу над носом, а уж догадлив — ни на какую стать.
Появился Лука в Додоновой земле, еще когда Додон молод был и большие войны вел, уходя, бывало, на долгие сроки со своею сильною ратью в дальние земли, а появился Лука просто чудом из темного подземного царства, где люди в кадках с водою живут и все впотьмах делают.
Невезло Луке на первых порах, все прошибался, все не по-людски выходило, ну, да потом попривык и уже так во всем наловчился, что и самые первые комнаты — покои царские у царя прибирал и птице-колпалице клетку чистил.
И случилось однажды, отправился Додон войной на Дракона, а Луку, как верного человека, поставил при Вороне находиться и, если что Ворону понадобится, все исполнять беспрекословно.
И случилось с Лукой о ту пору одно невеселое дело.
Пристрастился Лука у Ворона жить, воду пить и, не зная меры, — до воды Лука большой был охотник, — в один прекрасный день так опился, что пришлось попа звать, Луку соборовать. Суток трое бились с больным, воду из него трубами выкачивали и только на четвертые сутки, как царю с войны воротиться, с Божьей помощью кое-как отходили беднягу. И с той самой поры почувствовал Лука к воде отвращение и никогда, даже богоявленской, никакой ни капельки ее в рот не брал, а питался круглый год ягодой, кореньями да калеными орехами.
Еще больше приблизил царь Луку и со временем назначил его главным вельможей, а любил его как родного, и за сметливость особенно — как бывало у них меж собой что сказано, так было и сделано.
А Лука умел угождать царю: из ничего, просто так, сделает тебе кошелек бумажный или так на языке играть примется, что всякий со смеху помрет и всякому поплясать охота, если даже и невмоготу тебе. А тут у Луки обнаружилось вдруг такое пречудесное качество, что царь, не знай уж чем еще наградить Луку, приказал вписать Луку о здравии в поминанье на вечное поминовение: поминать Луку во всех церквах и здешних и нездешних вечно.
Бог знает, каким образом и неизвестно откуда, сыпался из Луки вроде пепла песок какой-то желтый, и как, бывало, сядет Лука с царем судить да рядить, так после обязательно целый мешок этого песку соберут, а то и с лишком. А известно, на Додоновой земле песку самородного и в помине не было, и всякий этим песком, слегка подсушив, и пользовался. И наклали из Лукина песку посреди столицы Додоновой гору высоченную, чтоб на Красную горку солнце встречать, на Маслену с горки кататься.
Вот какой был этот Лука хитрец — важный человек.
И надо же такому случиться, незадолго до смотрин царских отправился Лука на богомолье и пропал на долгое время.
В какие страны заходил одноглазый, по каким монастырям и угодникам молился, ничего не известно, а может, просто-напросто лазил к себе в темное подземное царство и там коротал дни в кадке со своими одноглазыми приятелями, кто ж его знает!
И когда вернулся Лука, Додонова царства узнать нельзя было.
На царском дворе все приуныло: цветы в саду стали вянуть, деревья сохнуть, трава поблекла, а царь мышей уж не топчет.
Тридцать три года стукнуло царевне — тридцать и три, и красна, и краше нет ее в свете, а толку никакого.
Разведал Лука дело — Лука до всего доберется! — забрал золотую мерку да с меркой тихонько и прошмыгнул в терем к царевне, вымерил всю ее меркой, да с меркой прямо к царю и, не говоря худого слова, перед царем мерку и стал раскладывать. А как разложил всю до последнего кончика, в глазах у царя так и помутнело.
Уж на что сам Лука не в пример другим — другой раз затруднительно бывало Луке с места на место передвинуться, ровно б привязал ему кто полено к поясу, да и то куда!
Тут-то вот царь все и понял.
— Нельзя ли его каким образом достать, чтобы было впору?
А Лука подумал, подумал да и говорит:
— Слышал я, что за девять девятин в десятом царстве у Таракана такие водились, да кто ж их знает, может, и перевелись.
— А ты что ни дать, дай, а уж достань, Бог с ним, что тараканский.
Так и порешили.
И дал царь одноглазому службу: ехать Луке к Таракану искать царевне подходящее.
Не малое время околачивался Лука со сборами — и мылся, и чистился, и всякие платья примерял, чтобы на люди честь-честью показаться. И когда все справил по-хорошему, сел на коня, сверкнул глазом и в путь пустился.
Едет Лука долго ли коротко ли, близко ли далеко ли, только доехал до стояросового дуба, а под дубом человек лежит, невесть чем желуди с дуба сшибает.
Поздоровался Лука с Желудиным.
А Желудиный и говорит:
— Далеко ль, молодец, путь держишь?
— А вот, — говорит Лука, — у царя Додона есть дочь Олена, тридцать и три года… Красна, краше нет, так послал меня царь искать ей жениха.
Желудиный только крякнул.
Тут Лука вынул Оленину мерку и ну раскладывать: раскладывал, раскладывал, дошел до кончика…
— Э, нет, не моя, поезжай дальше! — отмахнулся Желудиный.
Лука было выспрашивать и то и другое, и нет ли у кого так, чтобы впору, а Желудиный и в ус не дует, знай себе желуди с дуба сшибает.
Делать нечего, попенял Лука Желудиному, пришпорил коня и дальше в путь.
Ехал Лука, ехал, подъезжает к речке, а на берегу стоит себе человек, так, не очень казистый, а между тем протянул невесть что канатом — перевоз держит. Люди всякие за него царапаются и паром тащут.
Заприметил Луку Канатный, поздоровался.
— Сколь далече, молодец, путь держишь?
— Да вот, — говорит Лука, — у царя Додона есть дочь Олена, тридцать и три года… красна, краше нет, так послал меня царь искать ей жениха.
Канатный только крякнул.
Лука за мерку и ну раскладывать, а как дошел до кончика, задергался Канатный, инда волны пошли.
— Э, нет, не моя, поезжай дальше!
Невесело едет Лука.
Пропало, видно, дело, хоть назад возвращайся, не будет мужа царевне, некому будет передать и царство, пропадет Додоново царство.
И только что это подумал, как захрапит под ним конь и ни шагу.
Осмотрелся Лука: что за причина? И глазу не верит: перед ним табун лошадей, а невесть что обогнулось вокруг табуна да концом в кобылу, а пастух окаянный лежит да придерживает.
Увидел и Луку Табунный, поздоровался.
— Далеко ль, молодец, путь держишь?
— Да вот, — говорит Лука, — у царя Додона есть дочь Олена, тридцать и три года… красна, краше нет, так послал меня царь искать ей жениха.
Табунный только крякнул.
Вынул Лука мерку и ну раскладывать: раскладывал, раскладывал, разложил всю до самого кончика да и еще вершков семь от себя на запас пустил.
— Ага, — закричал Табунный, — самая моя!
Обробел Лука, не знает, что и делать — и так уж и сяк к Табунному прилаживается.
— Вот то и то тебе, братец, дам.
И золота ему сулит и всякую всячину представляет, только бы согласился к Додону ехать — больно уж подходящее.
А Табунный и говорит:
— Да я и так с удовольствием, только надо сюда двенадцать троек пригнать, да обмотать его клубками покрепче, да на телеги класть, а тогда поедем.
Сверкнул Лука глазом. Не прошло и минуты, ровно из-под земли стали двенадцать троек, а ниток — целые версты — и туда и сюда, знай — только обматывай.
И сейчас же, не медля, принялись мотать.
Мотали, мотали, прикрутили его да на телеги и в путь.
И одно поле проехали — ничего, и другое — благополучно, а третье попалось, да как на грех кочковатое, возьми да и растряси его, а оно во всю свою длину длинную и вытянулось.
— Эй, — кричит Табунный, — отстегните пристяжных да заезжайте вперед, больно мошкара всю головку заела.
Что тут делать, отстегнули, заехали, глядь, а головку — какая мошкара! — двенадцать волков как теребят.
Бросились на волков, отогнали, да слава Богу, уж столица рукой подать.
Народу высыпало видимо-невидимо, завидели молодца, все диву дались.
А Табунный невесть чем как размахнется, да прямо в пепельную гору — в Лукин песок весь с головкой и въехал.
Тут кто с чем: кто с топором, кто со скребком — тянули, тянули, насилу из горы его вытащили.
Заструнили струны, зазвенели колокольчики, ударили во все колокола да скорее за свадьбу.
Царь Додон на радостях приказал у свинки-золотой щетинки решетку разломать, чтобы свинку трогали, а Луке одноглазому, осыпав его с ног до головы золотом, два глаза вроде человечьих вставить велел; птице-колпалице крылья подрезали, чтобы не было птице соблазна на человечину зариться; оленя златогривого к высокому столбу привязали, чтобы на виду был олень, а червей, если остался еще хоть один червяк, всех повелел помиловать.
И задал Додон пир на весь мир.
И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.
Чудесный урожай
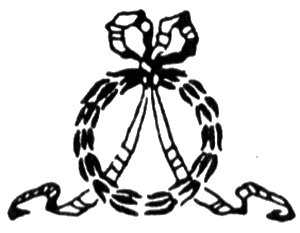
Богатый крестьянин Архип Семенов жил в одном селе с бедняком Осипом Ивановым. Полосы у них были рядом. И когда они сеяли рожь и сошлись на конце полосы, подошел старичок странник, похожий на помершего прошлой весной попа Савелия, и, обратясь к Осипу, спросил:
— Что сеешь, крещеный?
— Рожь, добрый человек, — ответил Осип.
И странник, благословив поле широким крестом, сказал:
— Уроди Бог рожь.
И обратясь к Архипу, когда тот поворачивал, спросил:
— Что сеешь, крещеный?
— Что сею, то и сею, — недовольно ответил Архип, — колки сею.
— Уроди Бог колки, — сказал старичок, благословляя широким крестом Архипово поле.
Зазеленела зеленя у Осипа, поднялась высока рожь — не налюбуется. А у Архипа поле гладкое да голое, что попова ладонь, а на голи Бог знает что: такой выскочит толстый стебелек, разовьется да под шляпку, ну, и стоит, как гриб боровик.
Тяжко стало Архипу и не то, что пропала рожь, а срам велик: дома дочки-невесты плачут, выйти на улицу боятся, а соседи подтрунивают:
— Что, мол, Семеныч, что за пшеница на поле у тебя такая выросла?
А другой и без обиняков ляпнет, не слушал бы.
Приехал на село цыган Гамга, коновал, Архип к нему. Осмотрел цыган поле, инда крякнул, а помочь ничему не может.
— А иди ты, — говорит, — в монастырь и спроси у отцов, как тебе горе избыть.
С тем и уехал.
Собрался Архип на богомолье.
И где по дороге какая церковка попадалась или часовня, везде молебны служил и свечки ставил: уж больно срам-то его одолел. А как вошел в монастырь и видит, на стене старичок написан, поджилки и затряслись: узнал странника, да уж поздно.
Отстоял Архип обедню, а после обедни с богомольцами к затворнику. Стал у окошечка, дожидается, когда затворник выглянет и все пойдут подходить, кто за благословением, кто с бедою.
Выглянул затворник, дошел черед до Архипа; Архип все ему про свое поле, и как сеял и что потом вышло.
— Батюшка, помоги, от сраму деваться некуда.
А старец даже ногами затопал.
— Поди ты, — говорит, — прочь, окаянный, и с колком своим. Не в святой обители тебе место, ступай к жиду поганому.
Поклонился Архип и пошел.
И думает себе:
«К какому это жиду велит старец идти?»
А жил на селе беднеющий портной Соломон.
«Должно, что к Соломону!» — решил Архип да, не заходя домой, прямо к Соломону.
И Соломону про свое поле — да чего и рассказывать: у всех на глазах поле-то, разве что слепой не увидит!
— Эка беда, — сказал Соломон, — твое горе не горе, а клад: возьми серп, полей росной водой, подковырни какой поспелее да и неси домой, а потом в сахарную бумагу его, да перевяжи, и вези продавать. Да продавай-то не сразу: сто рублей за колок, да сто рублей за секрет. А секрет вот какой: скажешь «ну!» — пойдет работать, скажешь «тпру!» — отпадет.
Поблагодарил Архип Соломона, посулил с каждой сотни рубль и довольный вернулся домой.
Не узнать Архипа: или в уме помутился? Ему колком тычут, а он, знай, в бороду посмеивается. Или чего задумал?
Рано поутру вышел Архип, благословясь, и пошел с серпом в свое голое поле. Росной водой помочил он серп, подковырнул позрелее — целую полосу нажал и домой. А на другой день нагрузил телегу и с товаром в город.
— Стержень! Кому надо стержень? — скрипит телега, покрикивает Архип.
А сидела у окна молодая вдова, уперлась локтем в подоконник: тесно ей в комнатах, сна забыть не может. И слышит: телега, купец с товаром. Очнулась, крикнула Пашу:
— Поди узнай, что такое?
В скуке, известно, чему не рад — на каждый клик встрепенешься.
Вернулась Паша, а сказать не может, только фырчит в передник.
— Да ты с ума сошла! Позови сюда мужика, сама посмотрю.
— Стержень! Кому надо стержень? — тянет за окном Архип.
Побежала Паша и уж не одна вернулась.
— Да что это такое? Давай сюда!
— Стержень, барыня, стержень! — заладил свое Архип.
А как развернула Палагея Петровна сверток, так и заалелась и скорее его в сторону.
— Сколько стоит?
— Сто рублей.
— На, бери.
И сейчас же денежки на стол.
И не успел Архип из дверей выйти, а рука уж сама к свертку, развернула Палагея Петровна, вынула, а он ровно пробка, — нечего с ним.
— Паша, — кричит, — Паша, беги, догоняй мужика, скажи, чтоб вернулся!
А Архип знает, шажком едет.
И вернула его Паша.
— Секрет сказать? — подмигнул Архип, — можно: сто рублей.
Да скажи он двести, все и двести дала бы.
Положила Палагея Петровна покупку в комод и до ночи сколько раз не утерпит, вынет, развернет, посмотрит, а как ночь пришла, не надо и сна.
А наутро и весела, и не кричит на Пашу, и окно забыла. Да и что ей: сны не снятся.
И пошли дни — разлюли, не вдовьи.
Собралась как-то Палагея Петровна в город к родственнице генеральше.
Все ей были очень рады, а больше всех сам хозяин: взглянет на Палагею Петровну и точно весь взмокнет.
А Палагея Петровна, как обед кончился, домой.
Ну, ее удерживают, чтобы переночевала — и погодой прельщают и деревенским воздухом! — она и слышать не хочет. А наконец и призналась, что забыла дома одну вещь и без нее заснуть не может.
— Эка, о чем горевать! — обрадовался хозяин, — да я сейчас отряжу Тишку: Тишка живой рукой слетает, накажите только, что доставить.
Палагея Петровна согласилась.
И не прошло и минуты, поскакал Тишка из усадьбы в город за вещью. И благополучно доехал, получил сверток от Паши, сунул его в задний карман и немедля назад.
Выехал на большую дорогу — ехать свободно.
— Ну! — крикнул Тишка.
И пропал: как выскочит из кармана-то да как вдвинет и пошел, и пошел…
Тишка понять ничего не может, холодный пот прошиб, нахлестывает, скачет, а это зудит и зудит, и чем больше поднукивает Тишка, тем пуще.
Шляпа так над головой и поднялась — на волосяном дыбе.
И уж не помнит, как и доскакал.
— Тпру! — крикнул несчастный и, вдруг освобожденный, хлопнулся наземь весь в холодном поту и уж раскорякой едва вошел на крыльцо.
До поздней ночи сидели на балконе.
Вечер был прекрасный, гостья необыкновенно оживленна — она была так рада, что ее неразлучный сверток с нею! — и оживление ее сводило с ума хозяина.
Он почему-то все принимал к себе и так уверился, что когда в доме все затихло, он тихонько прокрался в комнату к Палагее Петровне.
Лунная ночь была, лунный свет кружил голову и застил глаза, — генерал, пробираясь по комнате, задел за стул.
— Ну! — пробормотал он с досадой.
И пропал, как Тишка.
Сверток упал на пол, развернулся, и что-то впилось в генерала.
Бедняга, ничего не понимая, со страха стал на колени, а оно не отпускает. Лег на ковер — не легче. Или это ему снится? Потрогал сзади: нет, живое. И нет избавления.
Теряя всякое терпение, шмыгнул на балкон, с балкона в сад.
— Ну! Ну! — кряхтел он, ничего не соображая.
И, обессилев, растянулся ничком на дорожке.
А наутро нашли в саду генерала: скончался! — а это — глазам не верят, — это, как перо, торчит сзади.
Диву дались, пробовали тащить, да оно, как загнутый гвоздь, ни клещами, ничем не возьмешь. Да так и похоронили. И много было слез, но больше всех убивалась Палагея Петровна.
1912
Султанский финик
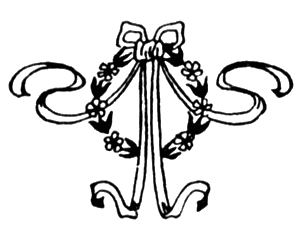
В одном шумном сирийском городке жил бедный купец Али-Гассан. Торговлю получил он по наследству от отца, но душа его вовсе не лежала к прилавку, и его можно было провести как угодно и выманить все, что хочешь. И все его дело шло так, что не только не приносило прибыли, а часто просто в убыток.
Али-Гассан сидел в своей лавке, занятый одной своей мечтою.
Странная это была мечта! Ему непременно хотелось жениться, но так, чтобы жен у него было столько, сколько дней в году, и даже больше, а он только этим бы и занимался.
Торговал он финиками.
Финики всевозможных сортов разложены были в цветных коробках, да и так лежали на лотке, и другой бы на его месте, ну, как его отец, нашел бы чем заняться, распоряжаясь таким живым янтарем, а ему что финики, что ломаное железо, торговля его соседа.
Озорники, подсмеиваясь над ним, говаривали, что его собственный турецкий финик для него дороже всех фиников земных и небесных.
И были правы: все ведь мысли его были собраны на одном этом.
И если в лавке, где его отвлекали покупатели, он ухитрялся, занятый собой, просто не отзываться на отклик, вы представляете его у себя в комнатенке вечерами, где он оставался сам-друг до утра.
Он усаживался в уголок, курил и весь отдавался своей мечте, и, случись пожар, он не заметил бы, да так и сгорел бы: в его мечте было самое острейшее желание, полыхавшее пуще всякого пожара.
И однажды, заперев свою лавку, сидел он так со своей мечтою, весь окутанный дымом, и вдруг, точно от удара, он сразу очнулся и увидел, как из дыма выступило крылатое лицо Гения и крылья, вьюнее дыма, вьюнились от стены к стене.
— Али-Гассан, — сказал Гений, — проси что хочешь: первые твои три желания будут исполнены.
Али-Гассан не заставил себя ждать.
— Хочу быть, — сказал он и по своей застенчивости показал знаком, — …турецкого султана.
— Хорошо, — ответил Гений, — еще что?
— И чтобы никогда не опускаться.
— Ладно.
— А больше мне пока ничего не надо.
И не успел Али-Гассан затянуться, как желание его осуществилось.
Султан Фируз, славившийся в молодости своей любовной неутомимостью, с возрастом, когда обыкновенному человеку еще только наступала самая пора, должен был лишиться прекраснейшего из удовольствий. Желания у него еще бывали по воспоминаниям, но на большее он ни на что не годился.
Все, что можно было сделать, все было сделано искуснейшими врачами, и султан, потеряв всякую надежду, понемногу свыкался с мыслью о своей негодности.
В тот вечер было назначено заседание Совета.
Султан по обыкновению бесстрастно решал дела и вдруг почувствовал такую полноту и крепость, от которой занимался дух, горели глаза, и на побледневшем лице, как роза, расцвела улыбка.
Не веря себе, султан прервал заседание и поспешно вышел.
К великому удивлению приближенных, он направился прямо в гарем, изнывавший и отчаявшийся увидеть бодрым своего государя. Скрывая улыбку, всякий глазами показывал и сожаление, и насмешку, а один из евнухов бросился скорее за ложкой, чтобы в нужную минуту прийти на помощь: без ложки не обходилось, когда султан по воспоминаниям искал невозвратимых наслаждений.
Выбор пал на прекраснейшую из жен, юную смуглянку Нуруннигару. И со всей былою страстью султан ее обнял и уж не мог сдержать сердца, которое рвалось в груди, как в первую любовь.
И почувствовал Али-Гассан, как ударился он точно бы в мешок мягкий и что-то горячее обдало его и всего стеснило, дышать нечем, и до того неудобно сжимает, вот оболдеет — и вспомнил он о последнем третьем желании своем, которое не мог сказать Гению, и, собрав последние силы, уже захлебываясь, прошептал, как утопающий хватаясь за соломинку.
— О, великий и всемогущий Гений, хочу быть Али-Гассаном!
И сию же минуту очутился в своей комнатенке.
И что такое сталось, не узнать Али-Гассана: какая у него лавка, какие сладкие свежие финики, какой богатый выбор, и сам какой приманщик — не хочешь, купишь.
Торговля с каждым днем шла в гору, и в короткий срок сделался Али-Гассан купцом богатым, но и богатый не обзавелся домом, а жил одиноко, как и раньше, без жены — без жен, о которых мечтал когда-то с такой огненной волшебной страстью.
1909
Назад: ИЗ КНИГ
Дальше: ПРИДВОРНЫЙ ЮВЕЛИР[346]

