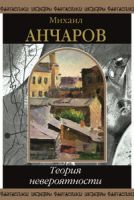ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ
I
Ветры и судьбы!..
Ветры и судьбы жесточайшего времени!..
Хлестали суровые ветры по всей Россиюшке, заметая следы кровавых лет.
Красная Армия дотаптывала в смертельных схватках последние разрозненные отряды белых…
К концу 1919 года почти вся Енисейская губерния была освобождена партизанами от интервентов и белогвардейцев.
Дивизии, дивизии, полки и полки Пятой Красной Армии, перевалив Урал, неудержимо двигались в глубь Сибири, вызволяя от белогвардейцев город за городом, уезд за уездом.
Отпузырился взлетевший в верховные правители России кровавый адмирал Колчак. Год назад он оповестил мир, что въедет в Москву на белом коне, вышло так, что кубарем покатился на Восток!
Омск пал. Верховный правитель бежал, и про него распевали:
Табак японский,
Правитель – омский,
Табак скурился,
Правитель смылся…
В тылу белогвардейцев восстания крестьян охватывали уезды, вплотную подступая к Транссибирской магистрали, а за Красноярском тасеевские партизаны в середине декабря перехватили горло железной дороги.
Отборной колчаковской армии во главе с генералом Каппелем довелось отступать на Восток тайгою, минуя партизанские пожарища. В пути теряли обмороженных, сами добивали раненых…
В Минусинском уезде образовалась партизанская республика.
II
В конце декабря белые бежали из Красноярска…
С одним из недобитых отрядов в деревушку Ошарову на Енисее приехала Дуня Юскова со своим «последним огарышем судьбы» Гавриилом Ухоздвиговым.
Деревня сразу наполнилась под завязку драными и обмороженными воителями.
Рота капитана Ухоздвигова вместе с казачьим полком приступила к реквизиции лошадей, продовольствия, шуб и полушубков, теплых штанов и шапок – давай, давай!
На всю роту у капитана Ухоздвигова – одна трехдюймовая пушка, три пароконных упряжки со станковыми пулеметами и боеприпасами да еще кошева самого капитана.
Казачий полк забил все ограды, избы, бани, подкармливая лошадей. А сами казаки чистили под гребенку хозяев – вопли, слезы не трогали белых воителей.
Реквизиция! Реквизиция!
Дуня в шубе и пуховом платке шла улицею с капитаном Ухоздвиговым, уговаривая его бежать на прииски, минуя тракты.
– Если в Белой Елани Головня – нас не тронут. Ты же не командовал карательными отрядами!
– Тебя оставят, меня – шлепнут, – оборвал рассуждения Дуни сутуловатый Гавриил Иннокентьевич. – Но помощь нам ты оказать можешь. Найдем хороших лошадей, и с каким-нибудь мужиком выедешь в разведку до Новоселовой. Есть сведения, что партизанская армия Кравченко и Щетинкина уходит из уезда на Ачинск.
– Што ты только говоришь, Гавря! Меня же там схватят как шпионку и тут же расстреляют. Или ты не понимаешь, кто такой Щетинкин?! Только попадись к нему. Мало ли я натерпелась страхов, боженька!
– Хм! «Боженька», – ворчал капитан. – Тебя не волнует ничья судьба, кроме твоей собственной. Но ты не забывай, что Мамонт Головня живым остался благодаря твоей помощи.
– Ну и что?
– А то, что если об этом узнают…
– Не угрожай, пожалуйста! Сам же меня бросил тогда на растерзание, и он же мне еще угрожает!..
– Оставим этот разговор, – отмахнулся капитан. – Что, в сущности, спасать нам? Шкуры? Армия откатывается ко всем чертям! Вся военная наука ни черта не стоит перед сермяжной, оболваненной большевиками толпой! Это же величайший позор для истории России! Адмирал смылся, генералы вприпрыжку за ним. А главком Пятой Красной Армии всего-навсего бывший поручик! Стыд и срам! У нашего генерала такое состояние, что я боюсь, как бы он не пустил себе пулю в лоб!
– Не пустит!
– Ты все знаешь! Думаешь, легко перенести такой удар, как развал всей белой армии?
Дуня примолкла. Шли улицею, взаимно недовольные друг другом. А мороз жмет, жмет, лютует…
И кого же видит Дуня! Уж не обозналась ли? Бородища красная, длинная шуба нараспашку и до ужаса знакомая морда!..
Мужика с красной бородой ведут два молоденьких прапорщика, суют ему в бока и спину маузерами, приговаривая:
– Ты найдешь, рыжий! Ты сейчас все найдешь! Волком взвоешь, подлюга!
– Осподи! Осподи! – постанывал рыжий мужик. – Игде взять тех коней? Нету у меня коней, ваши благородия! Вот вам крест святая икона спаса Суса!
– Ррразговарривааай, ррыло!
Дуня ахнула:
– Боженька! Да это же… Гавря, останови прапорщиков, пожалуйста!
Капитан задержал офицеров. Дуня вплотную подошла к мужику, присмотрелась.
– Кажется, Филимон Прокопьевич? – спросила.
– Осподи! Богородица пресвятая! Неужто это вы?! – выпалил Филимон Прокопьевич, уставившись синими глазами на барыню в шубе, поярковых пимах и ворсистом платке, пахучую – за сажень прет духмянностыо. – Дочь Елизара Елизарыча?
– Ну, конечно, Филимон!
– Самолично, осподи! Вот господа охфицеры заарестовали за коней, а игде их взять, тех коней?! Спасите меня за ради господа бога! Ущербный я, в болести пребывающий! – Филимон сдернул шапку, отвесил поклон и осенил себя размашистым крестом. Какая разница, на кого молиться? Была бы польза. С дочерью-то упокойного Елизара Елизаровича офицер, авось воссочувствует. – Спасите за ради бога! Как вроде сама богородица на путе моем тяжком, – и крестом себя, крестом, вылупив глаза.
А у богородицы зубы ядреные, сахарные, уста не миррою окроплены, греховные, а в глазах, как в смоле кипучей, чертяточки прыгают, бесятся, потешаются над рабом божьим Филимоном Прокопьевичем.
– А я его знаю, – сказала Дуня капитану.
– Как жа! Как жа! Земляки жа! В тяжкой болести пребываю, опосля Смоленскова лазурету. При белом билете, как умственно не шибко! Заобижен господом богом! За што, про што, сам того не ведаю.
Дуня расхохоталась на всю улицу, улыбнулся и капитан Ухоздвигов. Филимону то и надо: дурак он, набитый дурак – ни мозгов, ни силушки, по миру ходит с сумой который год.
– Ой, умора! «Заобижен богом»! Из «лазурету»! – покатывается Дуня. – Уж если назвал богородицей, воссочувствую. Капитан, скажи прапорщикам, пусть его отпустят.
– Как, то есть, отпустить? – уставился курносый прапорщик. – Он лошадей скрывает в тайге, господин капитан. Староста показал: хитрее этого рыжего мужика бывает только сам черт. А мы пешком будем тащиться из-за таких рыжих сволочей?
– Какие лошади? – заступилась Дуня. – Он ведь нездешний, из Минусинского уезда, Белой Елани. Там у него остались лошади, хозяйство и дом. А он еще в прошлом году убежал из дома, чтобы не принимать участие в восстании. Мы же земляки.
– Истинно так, пресвятая богородица! Бежамши, бежамши от сатанинского восстания, на какое подбили мужиков анчихристы со звездами во лбу. И батюшку мово, умом тронутова, подбили. А я бежамши пешком в одних шароварах. Где миром просил, где натощак бродил, да клял красных анчихристов, штоб им всем околеть!
– Староста не сказал, что он нездешний, – переглянулись прапорщики.
– Зоб староста-то! Это он сам тройку коней прячет в тайге, вот вам крест святая икона! И красным воспомоществование оказывал. Самолично видел, как к нему с Маны на лыжах тайно приходили бандюги красные! Али не я кровь проливал и слезы горючие от красных сатанов?
Дуня шепнула капитану, что это тот самый Боровиков – хозяин дома, где учинил над нею казнь есаул Потылицын. Отец его действительно убит во время восстания, брат – красный комиссар – расстрелян у тюремной стены. А этот – всех чертей переживет, любой масти, хоть красной, хоть белой.
– Ах, вот как! Из тех Боровиковых?!
Филимон трухнул. Легко сказать – «из тех Боровиковых»! Сколько времени таился у белокриничницы Харитиньюшки, накатывая сало на бока, и вдруг – «из тех Боровиковых»!
– Упаси господь, ваше благородие! Не из тех, не из тех! Из самоличных, следственно… Те – сами по себе издохли, как собаки, а я проживаю со Христом-спасителем.
– Это вы про отца и брата: «издохли, как собаки»?
Филимон и тут сообразил:
– Ежли хоша бы и отец взял сторону анчихристов с красными звездами во лбу, то хто он сам? И тот «оборотень», какой прикидывался Боровиковым, а ни с какой стороны не Боровиков! Вот вам крест: фамилию только запакостил!
– О! Это, пожалуй, не так ущербно сказано, – скрипнул капитан Ухоздвигов. – Вы мне по душе, Боровиков, «без красной звезды во лбу». Но помните, что вы сейчас сказали об отце и «оборотне» – комиссаре. Сейчас я вас мобилизовываю. Прапорщики найдут хорошего коня и вы повезете в Минусинский уезд Евдокию Елизаровну, свою землячку.
У Филимона в ногах жидко стало. Домой! От сладостной Харитиньюшки да к немилостивому тятеньке в лапы…
– Пооомилоосердствуйте, ваше высокоблагородие! – взвыл Филя, готовый назвать капитана даже Христом-спасителем. – Не можно мне домой. С отцом смертоубийство произойдет за восстание, на которое он праведников водил.
– Вы что, не знаете, что ваш отец погиб в восстании?
Филимон и в самом деле не имел никаких известий из дома.
– Спаси мя, не слыхивал!
– Ну, видите! – сказал капитан. – Так что вам давно пора вернуться домой и стать хозяином. Прапорщик, помогите ему собраться и приведите в сборню. А вы подпрапорщик, сообщите полковнику о старосте. И если он действительно имел дело с бандитами и спрятал лошадей – все имущество конфисковать, всю семью расстрелять! Ясно?
– Так точно!
У Филимона в брюхе заурчало – на старосту-то наврал ради спасения живота своего. Подпрапорщик ушел. Филимон переминался с ноги на ногу.
– Идите! Живо собирайтесь – и в дорогу с землячкой.
– Дык-дык, ваше превосходительство, – поднимался все выше в чинопочитанье Филимон Прокопьевич. – Ежли домой, как сказали господину, то за конями на заимку сходить надо. У красных бандитов отбил недавно – лоб в лоб схлестнулся с ними в тайге, трех укокошил, а коней спрятал, – врал беспощадно Филимон Прокопьевич. Как можно сказать, что спрятаны свои кони, когда Христом богом клялся, нет у него коней?!
– Слышите, господин капитан? – возмутился прапорщик. – Есть у него кони!
– Ясно! – кивнул капитан. – Идите с ним на заимку за конями. Быстро!
Когда прапорщик ушел с Филимоном, Дуня схватилась за живот:
– Ой, умора! Я чуть сдюжила, ей-богу. Никаких красных он не убивал и в глаза не видывал!
Капитан Ухоздвигов не смеялся:
– Ничего, мы его так повяжем – не прыгнет, не дрыгнет! Он еще нам пригодится!
Капитан с Дуней вернулись в дом деревенского спекулянта, где они остановились вместе с командиром разбитой дивизии.
Генерал Толстов лежал на жестком диване. Шинель распахнута, погон сморщился, седая голова запрокинута, как у покойника. Выслушав капитана Ухоздвигова, поднялся, запахнул полы шинели.
– Это вы хорошо придумали, капитан! Очень важно точно знать: если ушли из Минусинска в Ачинск банды Кравченко и Щетинкина – для нас это спасение! Мы так можем до весны продержаться, а затем через Урянхай и Монголию до Харбина. Третьего нам не дано. Полагаюсь во всем на вас, Евдокия Елизаровна. Если нужны деньги, капитан, берите в нашей кассе сколько требуется, на ваше усмотрение.
– Слушаюсь, господин генерал!
Толстов снова завалился на диван, закрыв холеной ладонью верхнюю часть лица…
III
Разве мог Филимон Прокопьевич оставить лошадей, которых сберег от всех напастей всякими правдами и неправдами! Одному богу известно, как он изворачивался, когда в Ошарову наезжали военные, чтоб взять у мужиков коней, скотину-животину. Филя не мешкая скрывался на заимку в тайгу – избенка в распадке гор возле Маны, отлеживал бока, топил самодельную глинобитную печь, охотился на зверя, вдосталь варил мясцо, доглядывая за тремя лошадьми: парой своих, и мерином Харитиньюшки.
«Жили-то как ладно, осподи! Кабы не война!» Про войну Филя вспомнил нечаянно. Ни белые, ни красные не цеплялись за его шаровары. Какое ему дело до них, белых и красных? Не ему власть вершить! Землю ворочать надо. А вот каким манером выжить при белых и красных – тут Филя мозговал. Не шутейное дело – выжить! «Ишь, как обернулось с батюшкой! А я, слава богу, убег! Кокнули бы. И белые вот. Эко верховодили, писали приказы про стребление красных бандитов, а таперича сами шуруют. Куды шуруют? К погибели!»
А вот и заимка Филимона. Избушка, пригон для овечек с теплым навесом, конюшня из ельника для трех коней, два стога сена рядом. Под копной соломы кошевочка – загляденье: оглобли крашены, дуга с росписью, колокольчики привязаны. Кони упитаны не меньше самого хозяина, то и разницы – умственной ущербностью не страдают, взлягивают от сытости, готовы хоть сейчас в поход.
– Бери всех трех! – приказал прапорщик.
– Не можно! – возразил Филимон. – Гавриил Иннокентьевич, с которым мы, можно сказать, дом к дому проживали в Белой Елани, как и с госпожой Юсковой, велел взять двух. А мерин – хозяйки, у которой я сымал фатеру. Да и по губам гляньте – вислые, значится, старый и по бабкам – на ноги посажен. Кляча, не мерин.
Солнце свернуло за обед, когда Филимон с прапорщиком в кошевке подъехали к сельской сборне – штабу полка. Капитан позвал его в комнату писаря, усадил на стул, сунул ручку, чтоб писал заявление про убитых красных бандитов, и положил на стол маузер – страхи господни! Филя сперва ссылался на полную неграмотность, но тогда капитан сказал: если он, Филимон, будет петлять перед ним, то согласно приказу генерал-лейтенанта Розанова, он, капитан Ухоздвигов, шлепнет Боровикова, чтоб воссоединить Филюшу с братом Тимофеем Прокопьевичем и отцом… И Филя сдался. Написал «заявленью» под диктовку капитана Ухоздвигова о всех своих «патриотических» подвигах, аж самому стало страшно: до чего же он был отчаянный белый!..
Заручившись заявлением, капитан сказал, что он проводит Евдокию Елизаровну до Езагаша, откуда Филимон с нею поедет в Даурск и Новоселово.
Филимон не забыл о вещичках, которые надо было взять у Харитиньюшки. Подъехал к избенке с Дуней и капитаном, сходил за вещами и мешком овса на дорогу – «кони допреж всего!»
Харитиньюшка вопила на всю улицу, заливаясь слезами:
– Воссиянный! Воссиянный! На кого меня покидаешь?!
Ну и все такое, бабье. Филимон покряхтывал, сопел в бороду, не по своей, мол, воле, а как «замобилизованный», возвернусь, бог даст.
Но Харитиньюшка не верила, что Филимон вернется вскорости: там у него хозяйство!.. Детишки…
– Соответственно, понаведаюсь, гляну, как домом верховодит батюшка, да раздел имущества восстребую. – И прикусил язык. Как можно «востребовать раздел» с покойного отца?
Капитан усадил Дуню, укутал в доху. Харитиньюшка долго еще бежала за кошевой, истошно взвывая: «Воссиянный, воссиянный, возвернись!»
«Воссиянный», не оглядываясь, понужал коней.
Ночевали в Езагаше в богатом доме, и капитан Ухоздвигов еще раз «прошуровал» мозги Филюши, нагнав на него страху до нового светопреставления – в зобу дыханье сперло! По всему выходило так, что сам капитан Ухоздвигов собирался жить где-то возле приисков и содержать при том «вооруженные силы»…
– У красных будешь – козыряй братом-комиссаром и отцом! – наставлял Ухоздвигов. – Ну, а в случае чего – на небеси взлетишь! У меня в тайге руки будут длинные – учти и заруби себе на носу!
Учел и зарубил на носу… Распрощались.
Теперь уже без капитана, с «пресвятой богородицей», Евдокией Елизаровной, Филя поехал дальше по морозной утренней сизости, аж стальные подползки звенели по льду Енисея. Гони, гони, Филя! «Эко захомутал, стерва! – подумывал он. – Вить заявленью выдавил из меня духовитую. Ежли попало бы в руки Головни – каюк! Вить самолично составил и прописался доподлинно Боровиковым!..»
Дуня, как залезла в кошевку, укуталась в доху, так и уснула сном праведницы. Ни мороз ее не берет, никакая худая немочь.
Отоспалась «богородица», в расспрос пустилась: верит ли Филимон Прокопьевич в бога? В православного или в тополевого? Как жил в Ошаровой?
Филя отвечал сдержанно – он не духовник, а бог для него, как и для всех, един, на небеси пребывает. И про Ошарову мало сказал.
– Ох, и молчун ты! – молвила Дуня, отворачивая лицо от ледяного хиуза. Ветра будто нет, а лицо жжет и губы твердеют, торосы занесены снегом, и такая кругом пустынность, как будто за сто верст окрест нет никакой живности – ни зверя, ни птицы, ни человека.
Дуне холодно. И скушно – глаза бы не глядели. Куда она едет? На пепелище? Что ее ждёт там, в Белой Елани? Чужие углы, немилостивые люди и вечная неприкаянность? Она не верит, что белые могут прорваться в Урянхайский край – везде красные! Спереди и сзади. В Новоселово она теперь ни за что не вернется. Может, жив Мамонт Головня со своими партизанами? Головня помилует Дуню, ну, а потом как жить? На притычке у красных? Ни приисков, ни миллионов! Все и вся «пролетариям всех стран, соединяйся»!
– Пшли, пшли! – пошевеливает вожжами Филя.
– Далеко до Даурска?
– Верст десять аль пятнадцать – хто их тут мерял, версты! – пробурчал Филимон, обметая лохмащкой заиндевевшую бороду.
– Иззябла я! – пожаловалась Дуня. – Ты хоть повернись ко мне, заслони от ветра. Иль ты не мужчина?
– Само собой, – пыхтел Филимон Прокопьевич, неумело подворачивая бок к землячке.
– Да вот так, вот так! – Дуня сама повернула к себе недогадливого земляка и полезла настывшими руками к нему за пазуху под шубу. – Ох и сытый ты, боженька! – И что-то вспомнив, сказала: – Я как увидела твою красную бороду, испугалась даже. Конь Рыжий, думаю.
– Эко! Разе кони с бородами? Гривы у них.
– Был и с бородой Конь Рыжий.
– Не слыхивал и не видывал. Поблазнилось должно. Еман – тот с бородой.
– Не еман, а Конь Рыжий! Какой же это был чудной Конь!
Помолчали, каждый потягивая собственную веревочку.
– Что же ты скажешь Меланье, когда приедем? – спросила Дуня.
– Чаво говорить? Нече. Хозяйство мое, и все тут.
– Но ведь ты двоеженец теперь?
– Как так?
– А Харитинья кто тебе? Жена! Как она бежала за кошевой-то! «Воссиянный, воссиянный!..» Хоть бы оглянулся на нее.
– Чаво оглядываться? Погрелись и ладно.
– Ох и жук! – сказала Дуня с веселинкой и завистью. – Изображаешь из себя ущербного, а хватило ума жить при собственном интересе. И коней вон каких имеешь!
Филя не любил, когда его выворачивали наизнанку – недовольно покряхтывал, пошевеливая вожжами.
– А Тимофея Прокопьевича в куски порубили!
Филя не охнул – порубили, ну и пусть. Он жив-здоров, слава Христе.
– Какой это был красивый человек! – подковыривала Дуня. – Такого и взаправду полюбить не грех.
– Ишь ты! Дык и сестра ваша, утопшая Дарья Елизаровна, такоже заглядывалась на Тимоху.
– Ой, как же меня исказнил есаул Потылицын в вашей молельной! – с маху перескочила Дуня. – Иконы, кругом иконы, свечи горят, ладаном пахнет, а меня бьют, бьют, выворачивают руки, таскают за волосы!.. Как я только в живых осталась, сама не знаю. «Святой Ананий»!.. Чтоб ему на том свете черти смолой пасть залили.
На этот раз Филя заинтересовался: в моленной горнице? «Святой Ананий»? Тот самый, которого в марте прошлого года вез Филя, и они нарвались на волков?
– Он и Меланью твою с ребятишками сжег бы с домом, – продолжала Дуня, – если бы его вместе с казаками не прикончили в ту ночь партизаны Мамонта Петровича.
– Ни сном-духом не ведал того.
– Где уж тебе, «воссиянный»! У тебя была Харитиньюшка.
Филя ничуть не устыдился – вздохнул только. Не от огорчения или натуги, а просто так вздохнулось.
Руки Дуни отогрелись за пазухой Филимона, щекочут, окаянные.
– Ой, не щекочи! Не щекочи! Из кошевы выпрыгну, ей-бо!
Дуня потешается:
– Душу хотела прощупать у тебя, да ты такой сытый боров! Сала-то, сала-то сколь накопил! Да вот что – фамилию свою нигде не называй и что мы едем в Белую Елань. Я буду за тебя говорить. Хоть с красными, хоть с белыми.
Филимон согласен: меньше хлопот.
Поздним вечером приехали в Даурск. Дуня спросила прохожую бабу: нет ли в селе белых или красных. Ни тех, ни других. Тихо.
На ночлег остановились в зажиточном доме – у Дуни водилось золотишко, и она не поскупилась – пятнадцатирублевый империал положила на ладонь хозяина за ночлег, угощенье и мешок овса для коней. У Филимона даже в ноздрях завертело от такой щедрости! Мыслимое дело – империал! Он за полтора года скопил трудом праведным и хитрым всего-навсего десяток империалов и пачку николаевок, столь же ненадежных и неустойчивых, как беспрестанно меняющиеся власти. А золото, оно завсегда останется золотом, Подумал – сколько же заплатит Евдокия Елизаровна самому Филимону? Или сунет кукиш под нос?
Хозяин с хозяюшкой расщедрились – поросенка прирезали и целиком зажарили для знатной гостьи с ее рыжебородым ямщиком, самогонкой угостили, и Филимон Прокопьевич не отказался – пропустил огненную чарочку.
В застолье разговор шел про красных и белых. Когда же кончится несусветная круговерть?
– Как жить таперича? – спрашивал дотошный хозяин, догадавшись, что гостья с империалами не иначе, как от белых пробирается в Минусинск, чтоб разведать, нет ли где прорехи у красных? – Откуда они взялись, эти красные? Ежли, как вот щетинкинцы, так это же, господи прости, голь перекатная, ачинская, поселенческая. Добра от них не ждать. В разор введут.
– Истинно в разор, – поддакнул Филя.
– Хотелось бы знать, есть ли сила, чтоб стребить красных полностью?
Филимон Прокопьевич кстати вспомнил:
– Дык во святом апокалипсисе Иоановом сказано, как семь ангелов вструбят в трубы…
– Хватит про трубы и про ангелов, – оборвала Евдокия Елизаровна, поднимаясь из-за стола. – Мы так намерзлись за дорогу, ужас. – А глазами так и режет Филимона под пятки, чтоб не болтал лишку.
Толстенькая старушка-хозяйка отвела гостям горенку – узорчатые половики, божница с иконами, лампадка, свечечки, занавески на трех окошках, бок голландской печи, обтянутой жестью, кровать с пуховой периною и пятью подушками – рай господний!..
Филимон хотел остаться в избе с хозяином, но Дуня не отпустила от себя. Когда старушка ушла, Дуня прислушалась к ее шагам, посмотрела за дверь и тогда уже предупредила:
– Про ангелов и архангелов в другой раз сны не рассказывай!
– Дык-дык – как по писанию…
– Без всяких «дык» и «тык», – укорачивала Дуня. – Едем домой, и все. Ни красных, ни белых.
– Оно так. К лешему их, – согласился Филимон.
На треугольном столике горит керосиновая лампа под стеклянным абажуром. Красная сатиновая рубаха Филимона с косым воротником, застегнутым под кадык на его толстой шее, отливает кровью, и рыжая борода на красном не так резко выделяется. Плисовые шаровары вправлены в самокатные валенки с голенищами выше колен. Дуня пригляделась к нему:
– А ты и вправду не похож на Тимофея.
Филимон который раз отверг сходство с убиенным братом.
– Нету у меня с ним схожести. Каждый в своем обличье проживает. Хоша бы вы. Как помню Дарью Елизаровну – очинно похожие, да токо все едино разные.
– Что правда, то правда, – вздохнула Дуня. – Ну и ладно. Будем спать, – сладко потянулась она, выгибаясь и закинув руки за голову. На ней была вязаная кофта с кармашками, темное платье и фетровое угревье на ногах. Вместительную дамскую сумочку и кожаный саквояж она определила на венский стул возле кровати.
– Почивайте. На экой постели вроде, как принцесса.
– То богородица, то принцесса, – прыснула Дуня. – Уж что-нибудь одно. На принцессах красные воду возят. Уж лучше останусь богородицей.
– Ох, грехи, грехи!
– Какие грехи?
– Богородицу всуе поминать.
– Не ты ли меня назвал богородицей?
– Дык согрешишь с вами!
– Грех родителя бросать, когда он идет на битву с врагами. А ты ведь бросил, не убоялся. Ну хватит про грехи! Спать надо.
– Приятственных снов.
Филя хотел уйти, но ладонь Дуни легла ему на плечо…
– Не оставляй «пресвятую богородицу» – она ведь из пужливых, – пропел медовый голос. – У старика видел какой взгляд? Как у скорняка. Не хочу, чтобы завтра он скоблил сало с твоей.шкуры и вырезал рубцы на моей. Моя шкура в рубцах. Что так уставился? Раздевайся, «воссиянный».
У Фили в ноздрях стало жарко. Экая неуемная! В глазах смола кипит, губы припухлостью манят, но разве мыслимо, чтоб с этакой краснеющей доченькой упокоиного Елизара Елизаровичг, который и полтину-то пожалел для Филимона, вдруг хотя бы на одну ночь разделить постель? Не полтину в руки, а духмяной плотью рода Юсковых завладеть! Умом рехнуться можно. Но ведь сама позвала, сама! Али насмешку строит?
Дуня как будто не видит замешательства Филимона, переступающего с ноги на ногу, спокойно сняла фетровые сапожки, кофту, расстегнула пуговки по боку платья, наклонилась, подхватила подол руками, точь-в-точь, как Филя сдирал шкуры с желтых лисиц – с хвоста и через голову. «Экое происходит! Совращенье вроде», – подумал Филимон, не уяснив, кто и кого совращает: диавол ли в образе дочери Юскова, или сам господь бог испытывает твердость духа Фили? Рядышком плоть духмяная. Вынула шпильки из узла волос, откинула чернущую гриву за спину, а глазами прожигает насквозь, и усмехается, усмехается. Белая рубашка с кружевами, должно, шелковая, французская, какими торговали нищие буржуйки на барахолке в Красноярске. Белые, белые руки – не Харитиньюшки или Меланьи, а изнеженные, соблазнительные своей наготою. На спине от белой и высокой шеи и по покатым плечам – рубцы чуть краснее кожи.
Дуня перехватила взгляд Филимона:
– Любуешься на метки есаула?
– Осподи! Этак исполосовать!..
Не стесняясь, Дуня поставила ногу на круглое сиденье венского стула, задрала рубашку, стащила резинку, а потом и шерстяной чулок с ноги. У Фили стало горячо в глотке от окаянного видения. Мнет половики под валенками. Дуня достала из саквояжа вороненый пистолет, сказала, что это у нее браунинг, положила под подушку, и сумку туда же, легла в постель, как в пенное улово Амыла.
– Ну, что ты топчешься, как мерин у прясла!.. Поставь стулья к двери. Не так! Стул на стул. Если кто войдет к сонным – стулья грохнутся на пол – проснемся. Какой ты неповоротливый. Ну вот. А теперь ложись.
Филя потушил лампу, разделся, перекрестился во тьме, успев прочитать молитву на сон грядущий, завалился на пуховик. Вздохнул. Дуня лежала к нему спиной, лицом к стене. Молчит, а он не смеет дотронуться до ее духмяного тела. Оторопь напала. Собака взлаяла в ограде, и опять стало тихо. Еще раз где-то уже в улице взлаяла собака. Угол дома треснул – мороз жучит. Слышит, Дуня мерно засопела. «Ну и лешак с ней, пущай спит!» Повернулся на правый бок и помолился:
– Слава Христе, не совратила!
И тут же вспомнилась домовитая Харитиньюшка. Уехал ли он от Харитиньюшки несовращенным, или во грехе и блуде по уши утоп, и сам того не разумеет!..
IV
Проснулся Филимон с третьими петухами. Из тепла да на дымчатую искристость мороза. Градусов под сорок. Старик-хозяин со вдовицей невесткой хлопотали во дворе. Вдовушка принесла два ведра степленной воды из бани. Филимон спасибо сказал и напоил коней. Отсыпал по мере овса в две торбы, подвесил коням на головы – пущай насыщаются красавцы. В конюховской избушке занялся сбруей – кое-где надо подтянуть, бляхи на шлеях надраить, чтоб все было чин чином.
Невестки хозяина успели подоить коров – по два ведра молока притащили. Филя прикинул: в зимнюю пору, когда коровы стельные, четыре ведра не надоишь от четырех. Наверное коров восемь. Старик тем временем скорняжничал – скоблил на стенке овечьи шкуры.
Сперва тихо, а потом все певучее зажжужал сепаратор. Эх-хе! Кабы завести такую машину – сколько было бы прибыли!..
Долго ждал, когда проснется землячка – пора бы и ехать. Пошел в горенку, зажег там лампу – серянки всегда при себе держал. Дуня так-то сладко потянулась, выпростав руки из-под одеяла. Щурясь на свет, усмехнулась:
– Воссиянный!.. Как крепко я спала. За целый век. И такой страшный сон приснился.
– В тепле с морозу завсегда сны видишь.
– Какие-то пожары, пожары! А я все бегу, бегу, а Конь Рыжий гонится за мною. Ужас! Который раз один и тот же сон вижу.
– Стало быть, сродственность поимели с Конем Рыжим, – ввернул Филя.
– Боженька! С кем только у меня не было сродственности, а все одна. – И, взглянув на Филимона: – Вот и с тобой, как сродственники спали под одним одеялом, а проснулась – одна-одинешенька. Сродственничка за всю ночь ни разу не почуяла. Ужли с Харитиньюшкой ты проживал таким же сродственником? Уйди, мерин, я оденусь.
Слова Дуни, как горячие оладьи со сковороды на обе щеки. Эко поддела под ребра доченька упокойного миллионщика!
Чаевничали – Филя глаз не поднял на землячку.
Помог ей одеться, вывел к кошевке, заботливо усадил, гикнул, свистнул, щелкнул ременным бичом, и кони понесли рысью по сонной улице Даурска, а за селом – займищем…
Бегут, бегут сытые кони, колокольчики серебром разливаются в немую пустынность, а Филе невтерпеж – стыд ворочается в сердцевине. Чтоб баба в лицо кинула, что он не мужик, такого позора никто не сдюжит.
Дуня, ничего не подозревая, пригрелась возле Филимона и крепко уснула.
– Ужо, погоди!
Свернул с дороги и легкой рысью погнал лошадей в глубь займища. По всем приметам здесь не пашни, а сенокосные угодья. Версты две отъехал бездорожьем и увидел-таки в ложбине початый зарод. Кони шагом подтащили кошеву к зароду и мордами уткнулись в сено. Филя выскочил из кошевы, разрыл сено сбоку зарода, вернулся, достал из саквояжа Дунин браунинг, спрятал себе в карман, осторожно поднял землячку и опустил на мягкое сено.
– Боженька! Чтой-то?! – очнулась Дуня.
Филя схватил ее за руки, притиснул, как клещами.
– Ты с ума сошел, мерин!
– Ежли мерин – ущерба тебе не будет, – провернул Филя.
– Пусти сейчас же! Или я тебя пристрелю, – вспенилась Дуня, изворачиваясь. – Ей-богу, пристрелю!
– Сперва я тебя застрелю, опосля ты меня! Мужика в другой раз зудить не будешь. Не брыкайся, грю! Аль я безо всякого левольверта придушу, и взыскивать нихто не станет. Отвезу до полыньи и спущу под лед.
Дуня ничего подобного не ожидала.
– С ума сошел! За что меня придушишь?
– Для порядка чтоб.
– Да ты что, Филя? Опомнись! Если ты меня придушишь…
– На Ухоздвигова надежду имеешь? Ужо погоди, в нашем уезде встретят их партизаны. Живо на небеси преставятся!
– Што тебе от меня нужно?
– Ничаво. Чтоб сродственность почуяла, гли. Ночесь позвала, а теперь волчицей рыкаешь.
– Боженька! Всю ночь дрых на пуховиках, и вдруг на морозе…
– Чаво мороз? Под зародом-то сподобнее. Духмянность от сенца экая вязкая.
– Ладно. Пусти руки.
– Царапаться не будешь? Оборони господь, ежли разозлишь меня. Я вить родного батюшку чуток поленом не пристукнул, а тебя-то моментом придушу. Левольверт твой взял себе. Ни к чему бабе с револьвертом ходить. Мущинское дело быть при оружии.
Дуня уразумела – шутки кончились, и царапаться она не будет.
– Окромя того, морду от меня не отворачивай, когда в другой раз позову.
– Как позовешь?
– Как бабу, следственно.
– Ты с ума спятил! У тебя и так две бабы.
– А у турского царя, слышал, тышча баб, и все до единой под его властью. На земле всякое происходит, а я што, сивый, не на земле проживаю?
Дуня ничего не сказала, вот так ущербный мужик с рыжей бородищей! Как же он с ней ловко управился….
Поехали Енисеем. Горы подступали вплотную…
Дуня укуталась в доху с головой, притихла. Не то было обидно, что «потерпела от рыжего» – это для нее дело привычное, а вот то, что этот рыжий устойчивее Дуни стоит на тверди земной и ни о чем особенно не сокрушается и не печалится – повергло ее в отчаяние. Для нее, Дуни, нет исхода. Чем и как жить, если утвердятся красные? В поте лица своего добывать хлеб насущный?
– Белые! – крикнул Филя.
Дуня откинула доху: на дороге двое в белых маскировочных халатах, винтовки – поперек дороги.
– Тпрру! – натянул вожжи Филимон, а по спине от шеи до зада – мороз прохватил.
Один подошел к кошеве:
– Кто такие? Откуда?
– Дык белые мы, белые, господа охвицеры! – бухнул Филя, как топором с плеча по чурке дров. – Едем, значитца, от огромятущей белой армии. Как послали…
– Штоб тебе язык проглотить! – взревела Дуня, и к людям в белых халатах: – Никакие мы не белые! Ямщик с перепугу брякнул. Едем мы…
– А ну, вытряхивайся, господин белый, из кошевы! – приказал человек с ружьем. – Быстрее! А вы, дамочка, сидите. Не баловать, предупреждаем. Винтовки на боевом взводе. Григорий, обыщи «господина белого».
– Осподи! Осподи! Да разе…
– Не разговаривать! – прицыкнул названный Григорием, ткнув винтовку в снег, приступил к обыску. Из кармана штанов Филимона, достал браунинг. – Гляди, Павел! Штучка! Та-ак. А еще что имеется?
Павел держал на прицеле дамочку, кося глазом на рыжебородого; Дуня от злости на Филимона кусала пухлые, отвердевшие от мороза губы. «Штоб тебе подавиться, – присаливала мысленно Филимона Прокопьевича. – Не она ли предупреждала «держать язык за зубами»? И вот, пожалуйста! Дьявол рыжий! Он меня сейчас продаст и наврет еще больше того».
У Филимона отобрали кожаный кисет, полный золотых, добрую пачку «николаевок», а из документов – поистертый от долгого пользования «белый билет», никаких других бумаг не нашли.
Григорий передал документ товарищу и тот сказал:
– Липа! А сейчас садись на снег, и – тихо! Руки положи на колени – лохмашки не снимать. А вы, дамочка, вылазьте.
Филя уселся на снег, предусмотрительно подмостив шубу под зад, таращась на людей в белых халатах. Кто же это такие? По одежде – белые. Филимон видел точно в таких саванах белых в Ошаровой. Ах ты, беда-то! «Чавой-то у нее вытащили из-за пазухи? Золото! Как я не ущупал, а?»
Григорий что-то прочитал, сообщив товарищу:
– Здорово, Павел! Знаешь, что это за барыня? Золотопромышленница Евдокия Елизаровна Юскова.
– Обыщи кошеву – чемодан вижу, а потом посмотри под кошевой.
Из саквояжа Дуни парень достал еще какие-то бумаги, семейную фотографию – ее в кругу братьев Ухоздвиговых.
– Ого-го-го! Дамочка с генералом! Здорово!
Павел поторопил:
– Положи карточки в баул. Вещи лучше перетряхни!
– Павел, глянь-ка! Еще деньги, деньги. Пачки, пачки! А это што?!. Бомбы! – ахнул парень.
– Ну?! Вот так барыня! – удивился Павел. – Гранаты-лимонки? Надо патрульных вызвать. Живо переверни кошеву – не спрятано ли у нее чего там?
Под кошевой ничего не оказалось.
– А ну, господин хороший, подымайся! Быстро!
Филимон, и без того перепуганный, при виде бомб вовсе ошалел. Что с ним теперь будет?!
– Становись лицом к лицу у кошевы! Руки на плечи друг другу, Быстро!
– Осподи Исусе! – топтался Филимон, положив руки в собачьих лохмашках на плечи «пресвятой богородицы», которая до того свирепо пожирала земляка глазами, как будто живьем заглатывала его вместе с дохой, полушубком и стежеными шароварами!..
И тут над самым ухом Филимона вдруг грохнул выстрел. Филимон взвыл, вцепившись в Евдокию Елизаровну так, что она не выдержала:
– Што ты меня тискаешь, дьявол?! Оторвись! Стой смирно! Не дыши!
– Куды дышать-то? Осподи! Али не сказано: лицом к лицу? Помилосердствуйте за ради Христа. Ни в чем таком не виноват, ваши… как вас… Это все она! Она!..
– Разберемся, господин хороший!
– Убогий я! Вот те крест, убогий! А эта шкура…
– Не валяй дурака! Не на тех нарвался! Расколем сейчас обоих…
Послышался цокот кованых копыт: на выстрелы примчался с берега конный патруль. Дуня увидела двух всадников при шашках и карабинах.
– Кого задержал? – спросил один из них.
– Разведка белых, – ответил тот, что стрелял из винтовки. – Отобрали браунинг и пару гранат-лимонок. Господин с бородою играет под убогого мужичка. А барыня из знатных. Надо обоих доставить в штаб полка.
– Ясно! – сказал конный. – Хорошо обыскали?
– Обыскали тщательно, но это же господа белые, сам понимаешь, с фокусами,
– Ясно! Лагутин, будешь ехать впереди, карабин наизготовку. Я за кошевой, А ну, господа, садитесь, садитесь в кошеву! И без фокусов, предупреждаю!
У Филимона тряслись руки, когда взялся за самотканые, в три цвета вожжи, усаживаясь бок о бок с Евдокией Елизаровной.
И зачем он только вылез в Ошарову с таежной заимки?! С Харитиньюшкой хотел повидаться! А теперь вот из-за этой проклятущей Дуньки… «Влип, как кур во щи. Да только вот в чьи щи? В белые или красные?» Так и не разобрался. С одной стороны, как по белым саванам – доподлинные белые. С другой стороны, морды не господские – красные, кажись.
Оглянулся на свирепую землячку:
– Дык, ежли исказнил тебя исаул, то…
– Молчи, сссволочь продажная! – И, как того не ждал Филимон, Дуня сунула ему кулаком в губы. – Я т-тебе покажу, гад! Я тебе…
– Эй вы, в кошеве! Прекратить! – крикнул всадник, следующий сзади.
– Шкура неубойная! – зло прошипела «пресвятая богородица».
Филя ухватился за облучок, приподнялся, подворачивая ноги, ощерился:
– Сама ты шкура белая! Захомутала меня на погибель со своим охвицером горбатым, штоб ему сдохнуть, сволоте! Хучь бы человек был, а вить горбатый, вислогубый, как старый мерин, хоша и при погонах со звездами. Расколют ужо обоих вас!
– Зззамолчи!
– А чаво? Аль за вас, белых гадов, голову свою подставить? Шиш вам под нос, стервам!
– Ах, ты дьявол. Вот как заговорил?! А про заявленье забыл?! – И Дуня снова сунула ему кулаком в нос.
– Тихо, барыня! Без фокусов!
Кони поднялись на извоз в деревню Трифонову, растянувшуюся по левому берегу Енисея. Дуня разглядела под срубленными елками замаскированные пушки, пулеметы, тут же партизаны с винтовками. «Боженька! – горько подумала она. – Не прорвется Гавря в Минусинск. Сколько их тут, партизан? Множество!»
Вооруженные люди в шубах, полушубках, шинелях, тужурках, в шапках и лихо заломленных папахах с красными лентами окружили кошеву: беляков захватили!
На Филимона напала икота. «Доподлинные красные, – уразумел. – А я-то брякнул, што белый и еду от огромятущей белой армии. Вить кокнуть могут с Дунькой! Дык не белый же я – обскажу про Тимоху и батюшку. – И тут же усомнился: поверят ли? Как знать». Едущий впереди всадник спешился у тесовых ворот крестового дома, передал повод одному из партизан и ушел в ограду.
Дуня задыхалась от злобы: «Надо же так влипнуть? Ох, Гавря, Гавря! Послал с этим идиотом!» И тут увидела знакомую фигуру Мамонта Петровича во френче, перекрещенном ремнями, с маузером, в смушковой папахе. А за ним – боженька! – Ной Васильевич! Конь Рыжий! В шинели внакидку.
Головня узнал Дуню, распахнул руки:
– Дунюшка! Я так и знал, что ты подъедешь к нам со всеми данными о белогвардейцах, удирающих из Красноярска! Молодчага, Дунюшка! Так и дальше держи революционный шаг – завсегда будешь, при нашем высоком уважении! Ной Васильевич! Я же говорил, что Евдокия ни в жисть не останется с белыми!
– Не поспешай, Мамонт Петрович. Поживем – увидим, – степенно сказал Ной. – Ну, выкладывай, какие новости привезла? Как дела на твоих приисках? Где твое золото?
– Кто старое помянет – тому глаз вон, Ной Васильевич, – сказала Дуня и отвернулась.
– Ладно, ладно. Я не со зла.
– Э, да это, кажись, Филимон Боровиков? – пробасил Мамонт Петрович. – Ну, как, Филимон, кончилась твоя служба у белых?
– Да что вы, Мамонт Петрович! – сказала Дуня. – Разве он мог бы служить у белых или красных? Сам у себя только. Скрывался в избушке одной вдовы в Ошаровой. Коней прятал в тайге, чтоб не отобрали при реквизиции. Расстреляли бы его, если бы не я. – И, толкнув Филимона в спину, дополнила: – Это же такой дуролом, Ной Васильевич! Увидел часовых на дороге в белых халатах и заорал: «От белых мы! От огромятущей армии!» Штоб ему околеть, идиоту!
Слова «пресвятой богородицы» для Филимона Прокопьевича были до того отрадными, что разом все страхи отошли: воскрес из мертвых! «Ишь, какая умнющая! Слава Христе, выручает». На том и успокоился вполне. Евдокию Елазаровну увели в крестовый дом, где размещался штаб Майских полков крестьянской армии, насчитывающей восемнадцать тысяч штыков. Там Дуню допросили. И когда Ной Васильевич рассказал, как она спасла его отряд в Белой Елани, отпустили на все четыре стороны.
– Стало быть, Ной Васильевич, вы теперь полком командуете?
– Стал быть, так.
– И куда же вы теперь?
– В Красную Армию пойду. Дотаптывать белых!
– А я вот еду на старое пепелище. А что меня там ждет – не знаю…
– Каждому своя дорога. Прощай, Евдокея!
– Прощайте, Ной Васильевич!
Мамонт Петрович определил Дуню, как землячку, к партизанам на ночлег и посоветовал покуда не выезжать: бой намечается не сегодня, так завтра.
Филимон тем временем отлеживал бока в конюховской избушке, Мамонт Петрович приходил к нему, допрос снял, но на этот раз Филимон отвечал только то, что сказала Дуня. Да, скрывался в тайге, жил в Ошаровой. Про вооружение белых доподлинно ничего не знает: сама Евдокия Елизаровна расскажет все, что разведала и вынюхала, про то ей лучше знать. Она вить не дура!
И настал день – грохнули пушки!..
Невдалеке от конюховской избушки лопнул снаряд – стекла в рамах запели. Конюха дома не было, и Филя с его женою, шустрой бабенкой, не дожидаясь, покуда снаряд угодит в избушку, махнули в подполье. Фекла еще не успела отойти от лесенки, как на нее верхом уселся Филимон.
– Аааай! Чаво ты сел на меня-то, леший! – взревела баба.
Рванул снаряд в ограде, заржали кони.
– Осподи! Хана моим коням!
– Спаси нас бог! Спаси нас бог! – бормотала Фекла быстро и часто, а за нею Филимон, тесно прижавшись к щупловатой бабе не ради искушения, а во спасение бренного тела: если уж угодит снарядом, авось сперва разорвет Феклу!..
Потом Фекла забилась в угол, а Филя, успевший захватить с собой доху, укутался в нее, слушал оружейную стрельбу, далекие взрывы снарядов, истово читал молитвы, и так часов шесть сряду, и когда артиллерия утихла, прикорнул на картошке да так храпанул, что проспал до следующего утра.
Разбудил Филимона горластый зов конюха.
– Эй, мужик! Вылазь. Живой ты там, али со страху дух испустил?
– Вздремнул малость, – ответил Филя, вылезая. – Для меня все эти пушки – одна полная невидимость! Обыкся на фронте, когда пребывал во Смоленском лазурете, почитай, кажинный день лупили из пушек. А я токо упокойных вытаскивал на носилках.
Оглядевшись, Филя снял доху, на него косо взглядывала баба конюха Фекла. А вот и Дунюшка – все такая же сердитая!
– Живой, лешак?
– Воистину, Евдокия Елизаровна!
– Запрягай лошадей и едем! С полками белых покончено. Полторы тысячи офицеров и казаков взяли в плен. – А в глазах Дуни темная, непроглядная осенняя ноченька.
– А мои кони как? Живы ли?
Конюх ответил за Дуню:
– Чаво подеется твоим коням? Снаряд-то разорвался посредине ограды. Двух коней вестовых убило. Стреляли, гады, прицельно по этому дому!.. Ну, каюк им всем таперича.
Когда Филимон запряг лошадей, перепуганных не меньше хозяина, Мамонт Петрович, в шинели, при шашке, папахе, вышел провожать Дуню. Филимон слышал, как грозный Головня сказал ей: «В Белой Елани, как передашь мое письмо Зыряну, займись секретарством в сельсовете. Все будут харчи. Меня поджидай, когда я возвернусь. Мы их, белых гадов, быстро разделаем».
– А разве ты не вместе с Конем Рыжим?
– Он с майцами подался в сторону Ачинска. А мы поспешаем в Красноярск. До встречи, Дуня. Жди. Партизаны идут на слияние с Красной Армией.
А с Филимоном не попрощался – будто его и не было!..
Когда выехали на трактовую дорогу к Новоселовой, Филя оглянулся на «пресвятую богородицу», сказал:
– Хана таперь всем белым! Экая силища у красных – оборони господи! А Мамонт-то, Мамонт-то, гли, чуток не генерал!.. Как он душевно с тобою…
– Заткнись, черт. Моли бога, что этот Мамонт не шлепнул тебя!
– Аль я мильенщик? С чаво меня шлепать?
– А «заявление» капитану помнишь? Идиот! Да если бы я хоть слово сказала про твое дурацкое «заявление»… Заявленье-то у капитана! А капитан удрал с какими-то офицерами в тайгу. Как мне страшно, боженька! Как мне страшно! – бормотала Дуня. Душеньку жгло как огнем. Теперь уже окончательно не быть ей ни миллионщицей, ни золотопромышленницей, все развеялось, как дым при ясной и ветреной погоде. Кого и чего ей ждать? Возвращения Мамонта?
Филимон тоже надолго примолк.
Так и ехали…
И через неделю приехали в Белую Елань – двое в одной кошеве, чуждые друг другу и вместе с тем в чем-то близкие.
Евдокия Елизаровна и Филимон Прокопьевич.
Двое в одной кошеве…
1963—1972 гг.
г. Красноярск
Назад: ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ
На главную: Предисловие