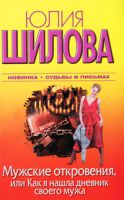Александр Лидин
Императорская охота
…свет моей жизни, огонь моих чресел.В. Набоков «Лолита»
«Господи, ну почему мне так не повезло! Почему ты не снизошел благодатью и не уничтожил меня в тот ужасный день, а подарил мне ничтожную жизнь – низменное существование, достойное разве что самых мерзких тварей земных? Почему на меня обрушились страдания, и за какие грехи ты покарал меня, Величайший из Великих? Будь проклята Императорская охота! Будь проклята Академия! Будь проклят Старший Егерь! Будь прокляты леса Эсмиральда! Аминь!»
Каждый день таил для него мучения – мучения грешника, для которого адом обернулась реальность. Каждое утро становилось пыткой, и чтобы побороть глухое отчаяние «я», заключенного в искалеченное, презренное тело, он выбирался из своего маленького обветшалого домика – лачуги, приютившейся на западной окраине городка – и отправлялся на берег.
Зимой он любовался здесь угрюмыми волнами, с суровой неприступностью Обер-ловчих вздымавшими белые шапки бурунов. Волны с шумом разбивались об угрюмые скалы и уходили в ничто, как и все в его застывшем мире. А летом над ним насмехались приходившие купаться мальчишки. Состязаясь в остроте языков, визгливая детвора корчила рожи и выплескивала запас зла, что скапливался за день в суете жизни подрастающих Охотников и Егерей.
Мальчики изводили его. Озорники дразнились и корчили рожи – не осознавая своей жестокости, совершенно уверенные в абсолютной безнаказанности, они обижали его для забавы, а вовсе не по злому умыслу. В то же время пожилые, видавшие виды люди относились к нему с угрюмой снисходительностью, милостиво даря свою доброту – которая, по его мнению, полагалась ему по праву, а не из презрительной жалости. Но взрослые всего лишь жалели искалеченного, совершенно седого парня на инвалидной коляске – жалели, словно делая ему величайшее одолжение, и тут же гордо задирали нос, наслаждаясь своим неподкупным бескорыстием.
Одинокими летними солнечными и невероятно долгими днями на пляже, возвышаясь над песчаной равниной, которую непоседливые малыши превращали то в фантастически многоликие песчаные замки, то в арену ожесточенных кулачных боев, он погружался в чтение древнего «Сунь-Укуна» и вновь, на этот раз мысленно, путешествовал по невообразимым сказочным странам, заселенным ужасными тварями. И тогда он проклинал профессию, которая в детстве, как и большинству мальчишек, казалась ему столь романтичной – но вместо радости познания неведомого принесла лишь боль невосполнимой утраты, сделав калекой.
Раньше он был Охотником Его Императорского Величества. Целых пять лет после окончания Академии он путешествовал по лесам Эсмиральда, и на его счету числилась масса нечисти. Он слыл хорошим Охотником… Двадцать семь лет. Ему еще предстояла долгая жизнь (люди Приморья доживали до девяноста, а многие и до ста лет) – жизнь никому не нужного калеки.
Сидя в своей коляске, он с завистью смотрел на голопузых мальчишек. По привычке сотворив заклятие «от водяного», они с разбегу бросались в искрящиеся прозрачные воды Зеленого моря и тут же выныривали наружу хохочущими поплавками. Как хотел бы он вот так же пробежаться по горячему, обжигающему песку, расслабившись, лениво проплыть до острова, черной скалой темнеющего у горизонта… Или залезть на холм и через дыру в старом, ветхом заборе проскользнуть в город Древних – заросшие руины, что с незапамятных веков возвышались над городом. Он много раз подъезжал на своей каталке к забору и с завистью поглядывал, как мальчишки, один за другим, протискиваются в щель между разошедшимися досками, чтобы соприкоснуться с Госпожой Историей, пройтись мимо замшелых стен или спуститься в сырые, полутемные казематы, пропитанные запахом плесени.
Вечерами, долгими тоскливыми вечерами, когда время превращается в бесконечность, словно в насмешку притормозив свой и без того медленный бег, он пил. Пил, чтоб быстрее шло время, чтобы забыться. Отрешиться от унизительного состояния, до которого докатился он – бывшая гордость Академии, герой Огненного десанта. Пил и писал стихи.
Когда ты одинок, то накинь
Плащ Печали на плечи,
Подойди и…
«О Боже! О Всемогущий Повелитель Всех и Вся, твой безропотный раб взывает к тебе! Я хочу ходить! Я хочу, чтобы ожили мои ноги… мои высохшие мертвые ноженьки! Я хочу жить! Я… Аминь!»
И он снова пил. Так продолжалось, пока он не встретил ее – свою Леонору, свою Лолиту, свою Офелию.
* * *
Обидно! В тот самый день, ставший для него Днем Возрождения, Днем Пробуждения, днем, подарившим новую жизнь, и днем первого шага к смерти; днем, когда он впервые услышал ее голос, впервые увидел ее, впервые заговорил с ней… В тот самый день он не услышал ее шагов, не распознал их среди сотен малых шумов, тихих скрипов, топтания, шарканья множества ног; не узнал их как первоначало будущего знакомства, как единственное, что несло смысл естеству его обиженного судьбой существования и таило грядущие перемены. Влекло переосмысление, переосознание окружающего мира – казалось бы, столь прочного, но на деле шаткого, словно карточный домик. Может быть, именно поэтому при всех их последующих встречах он, даже закрыв глаза и выжидая где-нибудь в тени тента, шуршащего полосатой тканью при малейшем дуновении ветерка, всегда точно выделял шорох ее по-звериному осторожных шагов из общей какофонии бессмысленных звуков пляжной жизни. Но в тот самый первый день он не почувствовал ничего. Не ведая надвигающихся перемен, он нежился под жарким, палящим солнцем и, перелистывая «Развеянные чары», пытался вникнуть в суть различия «таи и» и «сяо и».
Он не слышал, как она подошла и встала у него за спиной, чуть вытянув грациозную шею и разглядывая пожелтевшие страницы, на одной из которых неведомый ныне мастер древности тончайшими росчерками пера изобразил трех лис-оборотней. Только по тени, накрывшей книгу, он понял, что кто-то подсматривает, притаившись за спинкой его кресла. Разозлившись (вспыльчивость давно стала главной чертой его характера), он резко развернулся, готовый осыпать стоявшего позади человека серией тщательно отобранных грязных ругательств, которых постыдились бы даже матросы в припортовых кабаках. Но слова площадной брани замерли у него в горле, когда, прикрыв глаза ладонью, словно ища спасения от слепящего солнечного света, он увидел ее точеный профиль на фоне ослепительно выжженного, почти белого неба.
Нет смысла описывать ее. Все равно в городке о ней теперь рассказывают по-разному. Каждый рисует свой портрет. Но в тот день она показалась ему ангелом во плоти – той, о которой следующей пьяной ночью он вывел дрожащей рукой такие строки:
И на крыльях воздушного, яркого, дикого змея
Прилетит ко мне та, кого ждал, хоть не верил, всю жизнь…
Видя его смущение, она чуть пригнула голову («о, эта грациозная шейка, этот поворот, наклон головы!») и спросила хрипловатым, нежным грудным голосом:
– Вам интересно читать такую умную книгу?
Он ничего не ответил. Как хотел бы он сейчас стать здоровым, пусть только на одну минуту. Всю жизнь за мгновение – то мгновение, когда, взяв за руку незнакомку… именно о ней, ни о ком больше он отныне не мог даже подумать… он прошелся бы по знойному пляжу… И там, в тени башни, разрушенной неведомыми завоевателями, она поцеловала бы его. Да, да, непременно поцеловала бы. Он был уверен, он знал это. И лишь поднеся руку к щеке и почувствовав подушечками пальцев иголочки семидневной щетины, он вспомнил свое отражение, увиденное в зеркале, висевшем в винной лавке (дома он не держал зеркал), куда заезжал каждый день, возвращаясь с берега. Он вспомнил изможденное, опухшее от пьянства и бессонных ночей лицо молодого старика и, пытаясь скрыться от позора – или прося прощения у Всемогущего, – он прикрыл лицо руками.
– Что с вами? Я вас чем-то обидела? Простите, я не хотела…
В ее голосе ему послышался испуг, нежность и нежелание причинить боль кому бы то ни было – пусть даже самому отъявленному мерзавцу, даже если тот и заслуживает наказания.
«О Боже! Ты дал мне силы перенести ужас убогости, кошмар беспомощности! Дай же мне сил перенести пытку уродства!»
– Нет, я вижу, что чем-то вас расстроила.
Она присела рядом, на скамейку, возле которой стояло его инвалидное кресло, и осторожно коснулась его руки. Это прикосновение что-то изменило в нем. Он почувствовал тепло этой руки, ее силу, и, посмотрев ей в глаза, робко улыбнулся. Эта улыбка, вначале заискрившаяся лишь в уголках глаз, медленно сползла на края губ и там, спрятавшись в седой щетине, придала его лицу гордое и даже несколько высокомерное выражение.
– Я… Я испугался, что оскорбил вас… тебя…– он замолчал, затянув паузу, выжидая, что она произнесет свое имя. Нежной и терзающей сердце мелодией скрипки прозвучал ответ:
– Леонора.
– Лео-но-ра, – повторил он, прислушиваясь к чуть твердому, но какому-то южному, добродушному «лео», переходящему в строгое «но», и завершающему стаккатно звонкому «ра».
Так они и познакомились.
Он узнал, что зовут ее Леонора, что она любит вышивать разноцветным бисером и живет с отцом, отставным егерем, неподалеку от маяка, на другом конце приморского городка. Испугавшись, что его имя ей не понравится, он назвался просто Охотником. А потом он долго рассказывал ей о нечисти, о лесах Эсмиральда, далеких походах, заброшенных колдовских землях и ночевках у костра на берегах бездонных черных озер…
А когда стало темнеть и большое багровое солнце окунулось в свинцовые воды Зеленого моря, они простились, но Леонора обещала, что обязательно придет на пляж на следующий день.
* * *
Вечером того же дня Охотник ( я стану называть его тем именем, что он сам себе выбрал) впервые за три года, прошедшие с момента оставления службы, не зашел в винную лавку старого Витама. Добравшись до дома, он вытащил из пыльного, пропитанного нафталином сундука охотничий мундир – тот, в котором он восемь лет назад щеголял на пляже перед Академией.
Разложив его на столе, Охотник отыскал разноцветные лычки, узорные гербовые нашивки и потускневшие, но от этого выглядевшие еще более героическими медали, которыми наградил его Император за многие славные дела. Дела, которые успел совершить он за пять лет, пока никчемным инвалидом не ушел в бесславную отставку.
Он никогда не задавал себе вопрос: кому нужна Охота? Зачем посылать бравых, здоровых парней на смерть в леса Эсмиральда? Приказы Императора не обсуждались, а опасная жизнь первопроходца, радость повелевать судьбой и оружием утверждать свое право сильнейшего пришлись ему по душе.
Когда Охотник почти закончил работу над своим мундиром, в дверь постучали. Стук заставил его вздрогнуть. Расставив руки, он, словно курица, попытался закрыть свой мундир от чужого взгляда, как курица прикрывает малых цыплят от взгляда незваного гостя – коршуна.
– Кто там? – спросил он и не услышал своего голоса. Слова застряли в гортани. На мгновение ему показалось: вот она! Наглая и бесцеремонная толпа, которая сейчас вломится в дом, в его последнюю крепость – чтобы громко рассмеяться над ним и над его неожиданно вспыхнувшей… Чу! Ни слова! Ведь это и вправду смешно: красавица и калека – опустившийся урод, пытающийся припомнить былую славу, вытащив из могилы давно погребенный труп своего величия.
Но на пороге появились не хохочущие мальцы, а старый, седой и сгорбленный лавочник Витам. Старик принес бутылку темного как чернила вина; он хотел поставить ее на стол, но увидел разложенный мундир, удивленно хмыкнул и осторожно присел на единственный в доме колченогий стул, поставив бутылку на пол перед собой. Незваный гость взглянул на Охотника и тяжело вздохнул.
– Ты не зашел, как всегда… Я подумал, что-то случилось…– неуверенно начал он, и эта неуверенность гостя свидетельствовала, что старик чувствует себя неудобно. Раньше, даже называя его Охотником, никто никогда не верил в этот титул – а, может, просто и не задумывался над его прошлым.
– Я вот как скажу, парень, – Витам снова тяжело вздохнул, внимательно глядя на блестящие нашивки. – Ты не обижайся, если что не так. Я ведь не знал… так… не со зла…
– Ладно, – устало кивнул Охотник, так и не поняв, за что извинялся перед ним Витам. – Ты принес выпить? Что ж, в последний раз…
Он достал с пыльной полки два граненых стакана и, сдув с них пыль, сам разлил темное, пахнущее летом, дурманящее голову вино.
– За тебя… Охотник!
– За тебя, старик!
И они выпили, а потом, при свете тонкой свечки пришивая нашивки, Охотник попросил старика рассказать городские новости, которые раньше никогда его не интересовали. Впрочем, зачем инвалиду знать о делах земных? Он путешествовал лишь с героями «Троецарствия»… Но ведь завтра ему придется говорить о чем-то с девушкой. Не о ветхих рукописях же! Книги нынче никого, кроме убогих, не интересовали, да и подвигами «во имя Императора» калеке хвастать не пристало.
И старый Витам с удовольствием рассказал Охотнику о коронации нового Императора, о постройке церкви в центре городка и еще о многом. В тот же вечер Охотник впервые услышал и о вервольфах-волколаках, по слухам, появившихся в округе…
Затем, когда мундир уже был готов, они выпили снова, и Охотник, взяв лютню, спел старому Витаму несколько своих баллад.
Там, за гладью стекла, ты увидишь старинные острые шпили.
Древний замок застыл в витьеватом круженьи мечты…
* * *
Ночью Охотнику приснился кошмар – темные леса Эсмиральда.
Снова его группа из пяти волонтеров-егерей – старых, опытных и чуть туповатых лесовиков, отлично распознающих опасности, но с трудом шевелящих извилинами, заплесневевшими от уставов – и трех охотников, неопытных безбородых юнцов, только что окончивших Академию и еще не вкусивших горький хлеб своего ремесла, получила приказ провести карательно-разведывательную операцию третьей степени в квадрате 8-Х. Сжимая в руках тяжелые мушкеты, заряженные серебряной дробью, прорубая путь сквозь паутину лиан-людоедов, расцвеченных, словно праздничные гирлянды, дурно пахнущими цветами самых невероятных оттенков зеленого; по колени утопая в черной, пузырящейся гнилой грязи, под палящим даже сквозь многоярусную крышу леса солнцем, они вновь отправились в тот последний, бесславный поход.
Их уже ждали. Когда они – воины в мундирах цвета хаки, вооруженные до зубов, увешанные многочисленными амулетами, защищающими от любой напасти – вступили в ту узенькую, сжатую меж двух огромных холмов ложбинку, где деревья росли чуть реже, а склоны просматривались почти насквозь, в принципе исключая засаду, их уже ждали. Василиски, уже полуокаменевшие от пусть и тусклого, но все же смертельного для их нечистой плоти солнечного света, обрушили на охотников море испепеляющего огня. Однако люди прошли сквозь огонь, залпом картечи встретили отряд Древних и, выхватив мачете, вступили в рукопашный бой. Что могли трое сопливых мальчишек, пять стариков и один Охотник противопоставить орде чудовищных обезьян со свалявшимся и дурно пахнущим раскрашенным мехом, вооруженных дубинками и короткими кривыми мечами? После марша у людей не осталось ни сил, ни храбрости, лишь желание выжить, просуществовать чуть подольше – вопреки безумной жажде убийства, охватившей врага.
А потом… Скользя по земле, мокрой от крови поверженных врагов, спотыкаясь о полувыпотрошенные, еще подергивающиеся и трепещущие в агонии лохматые тела, не успевая стирать соленый пот и кровь, сочащуюся из пореза у виска, Охотник вломился в самую гущу схватки и сразу же натолкнулся на огромного предводителя Древних – обнаженного гиганта с черной, продубленной, как панцирь средневекового рыцаря, кожей, уже повергшего на землю двух егерей. Рукоятка мачете, скользкая от крови, провернулась во влажной ладони Охотника, и клинок, прочертив по черной коже врага длинную замысловатую линию, соскользнул вниз, не причинив гигантскому убийце вреда. Древний взвыл от неопасной, но болезненной царапины и крутанул свою дубину. Последнее, что сумел рассмотреть Охотник перед страшным, дробящим кости ударом огромной суковатой дубины – круглое злобное лицо с пуговкой широченного носа, раздутые ноздри, маленькие бусинки глаз, скрытые под нависающим, плоским, как у обезьяны, лбом, и огромный рот: толстые губы, растянутые в торжествующей улыбке победителя, и белые клыки хищника-вампира, чуть выступавшие из-под них. Но сокрушенный ударом Охотник, уже ослепленный, с перебитым позвоночником, сумел-таки дотянуться до врага и последним отчаянным выпадом достал острием мачете до пульсирующей жилки на шее врага. Он уже не увидел, но почувствовал фонтан горячей крови, ударившей ему в лицо, услышал предсмертный хрип, вырвавшийся из проколотого горла врага.
Люди победили в этом бою…
А потом было возвращение сквозь лесной ад. Молодой хнычущий паренек и два оставшихся в живых волонтера по очереди тащили его – искалеченного, не приходящего в сознание, мечущегося на самодельных носилках так, что приходилось привязывать его обрывками лиан к деревянной раме.
Госпиталь. Коляска. «Вы никогда не сможете ходить». И жалостливая ненависть к самому себе. Почему он не погиб там, в лесу? Зачем его спасли? Зачем Всевышний, отринув присущую ему жалость, сохранил его жизнь?
Охотник проснулся в холодном поту и замер, вновь умоляя время повернуться вспять. И тогда он сам бы кинулся на клинки Древних, зная предначертанное Господом…
Но Леонора… Он мысленно воссоздал ее лицо, прочертил девичий профиль на черной доске ночи. И сердце его запело. Оно пело о той, которую он мечтал найти, – но которая никогда не свяжет свою жизнь с судьбой нищего калеки. «Такие девушки ждут принцев, – твердил он сам себе. – Богатых, красивых, достойных сынков Адъютантов – Егерей или Обер-ловчих».
И все же в сердце Охотника тлел робкий огонек надежды…
* * *
На следующий день, придя на берег, как и обещала, она не узнала Охотника. Да и как его было узнать, если за одну ночь из грязного замызганного калеки он превратился в элегантного Охотника, ветерана-инвалида. Кепи с гигантским козырьком и огромным значком (герб Императора – дракон на красном поле, усеянном золотыми розами) лихо заломлено на бок, а высокие походные сапоги надраены так, что больно смотреть. Слева на груди сияет десятка два медалей и отличительных значков, на правом лацкане мундира цвета хаки видна эмблема Боевого отряда. Этот приморский городок никогда не видел таких охотников – «настоящих орлов», как любил говаривать Император в далекой северной столице.
На гладко выбритом лице Охотника красовались узкие черные очки – «траур усопшим» – традиция Императорской Охоты.
Мальчишки! Они даже близко боялись подойти к излучавшей достоинство фигуре, восседавшей в инвалидном кресле, как иной Эрц-Егерь на троне. А Леонора? Она смогла лишь выдавить слабое подобие приветствия:
– Здравствуйте… Извините…
И тогда он, Охотник, подавшись чуть вперед, взял ее за руку и осторожно, точно подкрадываясь к невероятно красивой и страшно пугливой райской птице, заговорил. Первые же его слова успокоили ее. Там, за суровой линией плотно сжатых губ, она разглядела вчерашнего охотника – вздорного, сломленного жизнью калеку. Она так же нежно ответила ему, а потом, встав позади кресла и взявшись за ручки, провезла его из конца в конец по всему пляжу.
В час пополудни, когда открылся пляжный ларек, они купили фруктовое мороженое, смеясь и болтая о разных пустяках. Поднялись на холм к городу Древних. Старик-сторож – тот, что всегда с некоторым подленьким злорадством провожал взглядом каталку Охотника – теперь сам отпер ворота в окружающем руины заборе и пропустил их внутрь, даже не потребовав положенной входной платы.
Охотник и Леонора долго бродили среди развалин, и он рассказывал ей удивительные сказки «Лисьих чар» и «Монахов-волшебников». Она смеялась, а он упивался ее смехом.
Сотворив заклятие «от привидений», они спустились в подземные казематы, и гулкое эхо вторило их жизнерадостному смеху.
Вечером, приехав к себе домой (он проводил ее почти до дому, дальше она не позволила, сославшись на строгость отца), Охотник писал стихи. В тот вечер он сочинил лучшее свое стихотворение, а когда взял в руки лютню, пальцы сами нашли нужную мелодию. И в безмолвии ночи зазвучало:
Я мечтал о тебе, я видел тебя. Мы бежали с тобой по песку.
Ветер гудел, разгоняя печаль и бездонную, злую тоску.
Чайки над морем кричали нам вслед, приветствуя радость дня.
И ты смеялась. Твой нежный смех наградой был для меня.
На следующий день они снова встретились и долго бродили по городу, а вечером на «императорской» лестнице, у пристани, он читал ей свои стихи. Те, кто еще вчера насмехался над ним, над убогим калекой, – мальчишки-разносчики, мелкие торговцы и бабки-побирушки – все они толпились внизу у самой воды, внимая его громкой, немного торопливой и чуть резковатой речи:
Крылья расправила черная ночь.
Море плескалось у скал.
Всюду тебя я в ту ночь искал,
Но не нашел, устал.
И, притомившись тогда, прилег
На берегу и спал.
Мне в беспробудном, печальном сне
Сказку прибой шептал.
Он говорил: «Ведь она не та,
Что привиделась в счастья сне».
Он говорил: «Ты себе все врешь.
Она живет лишь в мечте».
Ведь я же не видел ее лица,
Я же не слушал слов,
Я лишь придумал ее вчера
Под тихое пенье ветров…
* * *
В тот день он, тогда еще молодой охотник, побывавший в лесу всего лишь пару раз, неожиданно получил увольнительную и вместе с видавшим виды толстым, веселым и нахальным Наставником впервые отправился «поразвлечься». Доехав в скрипучем дилижансе до охотничьего городка, где жили семьи охотников и егерей, находящегося в нескольких лигах от пограничных казарм Академии Императорской Охоты, они прямиком направились в сверкающий всеми цветами радуги «Домик кошечек» – старый двухэтажный особняк с огромной верандой, огороженной резными перильцами со стойками, вырезанными в виде обнаженных девушек. Внутри, в прокуренном зале, пило и веселилось десятка три охотников и егерей. Они громко произносили тосты, но из-за всеобщего шума слова было невозможно разобрать. К пирующим то и дело подсаживались полуобнаженные девушки, время от времени та или иная пара, видимо, сговорившись, поднимались наверх – в номера.
Спутнику Наставника сначала было не по себе. Но, присев за стол и опрокинув внутрь пару кружек эля, он расслабился. Когда же на эстраду выскочила высокая, размалеванная под куклу дама не первой свежести и принялась стаскивать с себя одежду под расхлябанный вой патефона, молодой Охотник уже был полностью поглощен созерцанием бледной, уже утратившей молодую упругость кожи танцовщицы. Он даже не заметил, как рядом с ним на стул присела рыжая девка, и обнаружил ее присутствие, только когда та прильнула к нему, навалившись полным, обвисшим бюстом. Ее слюнявые губы поползли по его щеке, оставляя кровавый след дешевой помады.
– Дорогой, у тебя не найдется несколько монет для такой милой крошки, как я?
Возбужденный то ли от избытка выпитого, то ли от созерцания стриптиза, он сразу же согласился и, приняв еще одну кружку эля, проследовал наверх вслед за ней. И там, на пружинном матрасе… Да, в ту ночь он получил все, о чем только мог мечтать девственник его лет. Мягкая, податливая плоть, зовущий, ласкающий рот… Он овладел проституткой, и, передохнув, повторил первый опыт. А потом…
Утром его неудержимо рвало на заднем дворе казармы. Он проклинал шлюху, дешевый эль, Наставника и все связанное с «Домиком кошечек».
Больше у него никогда не было женщин, и сейчас, пытаясь совместить тот мимолетный опыт «общения» с противоположным полом и образ Леоноры, Охотник не мог решить, как ему следует вести себя со своей новой знакомой. Мог ли он представить ее в постели с мужчиной… в своей постели. Или она и в самом деле была лишь земным воплощением его идеала? Рассуждая логически, Охотник пытался подобраться к проблеме с другой стороны. Разве он не хотел поцеловать Леонору? Наверное, да. И все же эта девушка казалась ему неким высшим существом – быть может, феей, случайно залетевшей в неухоженный сад его истомленной души?
Долгие размышления приводили лишь к мысли о бесплодности знакомства с Леонорой, и Охотник, предвидя крах своих мечтаний, расставание, рисовал в своем воображении картины невозможного. Эти фантазии все чаще мучили его. Он даже поклялся сам себе: «Если я увижу ее с другим мужчиной, я умру».
А через несколько дней, изучая «Лес категорий», Охотник с интересом обнаружил, что способен критически подойти к проблеме, которую окрестил для себя «Красавица и чудовища».
«Если разглядывать любую девушку, можно найти у нее изъян внешности. Значит, мы влюбляемся лишь тогда, когда заложенный в нас идеал накладывается на определенную личность, и наше воображение создает образ идеального существа. Далее существует два пути: или влюбленный обладает гибкой системой восприятия – тогда он чуть изменяет свой идеал в соответствии с природой его любимой. Или, наоборот, найдя в идеале изъян, он разочаровывается».
Тогда Охотник начал искать в Леоноре изъяны. Он возродил в памяти образ полупьяной шлюхи – единственной познанной им женщины, – и вновь попытался совместить его с Леонорой. Но сердце говорило другое… Он не мог сделать этого.
И тогда Охотник понял, что безумно, безнадежно влюблен.
* * *
Вечером Охотник и Леонора сидели на краю обрыва над серым морем. От заходящего солнца протянулась пунцово-алая искрящаяся дорожка, словно лучи заката добела раскалили металлическую равнину ленивых волн.
Леонора, свесив ноги с обрыва, игриво бросила через плечо лукавый взгляд на Охотника, который, подобно мрачной статуе, замер в своем инвалидном кресле чуть поодаль – на дорожке, выложенной потрескавшимися каменными плитами. Его скрытое тенью лицо на мгновение показалось девушке зловещей маской чудовища, вышедшего из потаенных детских снов.
– Вы сегодня какой-то печальный.
Охотник пожал плечами.
– А ты, как всегда, прекрасна. Закат великолепно подсвечивает твои чудесные волосы, а твой профиль…– Охотник вскинул руки над головой, словно собираясь пробить усеянный звездами свод вечернего неба, с наслаждением потянулся. – Ах, если бы я был художником, я нарисовал бы твой портрет, и он стал бы образцом красоты.
– Какие глупые фантазии! Вы мне очень льстите, – Леонора игриво повела плечами. – Вы, наверное, говорите так всем знакомым девушкам?
– Да, – Охотник обреченно уронил голову, и в этом движении крылось больше печали, чем казалось извне. – Сначала я прикидываюсь убогим, потом начинаю читать девушкам стихи, а после… после бедняжкам нет от меня спасения. Не веришь?
– Угу.
Она легко вскочила на ноги, и он на мгновение залюбовался ее стройными ногами, высвеченными на фоне заходящего солнца. Если бы она только могла вообразить…
– Почему ты встречаешься со мной?
Леонора чуть выпятила нижнюю губу, сморщила очаровательный лобик.
– Вы порой задаете странные вопросы.
– Часто?
– Не очень. Чаще говорите разные глупости, – и Леонора по-детски высокомерно пронзила его королевским взглядом. А потом, беззаботно засмеявшись, побежала по самому краю обрыва, так что камешки, выворачиваясь у нее из-под ног, сыпались в прибрежные волны.
Охотник развернул кресло и направил его по пляжу вслед за девушкой. Внезапно Леонора остановилась. Видимо, бросившись бежать, она не подумала о том, что он не сможет так же быстро двигаться за ней. Поэтому девушка вернулась и, взявшись за ручки позади изголовья Охотника, покатила кресло по пляжу.
– И все же, Леонора, почему ты приходишь ко мне? Не лучше ли встречаться с кем-нибудь из обычных парней? Годы ведь идут, а став старше, тебе намного труднее будет выйти замуж…
– Зачем говорить об этом? – в голосе Леоноры внезапно прозвучала серьезная нотка, не понравившаяся Охотнику. – Я никогда не встречала парня, в которого стоило бы влюбиться.
Но Охотник почувствовал фальшь. Он уловил ничтожный диссонанс, нарушивший ритм их беседы. Значит, у него есть соперник? Соперник! Охотник мысленно расхохотался. Он умирал со смеху, настолько нелепой показалась ему вся ситуация. Нелепой, если бы он не являлся главным действующим лицом – тем самым Арлекином, которому в конце представления достаются все шишки и зуботычины.
Дома он долго пытался мысленно нарисовать портрет своего соперника: высокий красивый парень… Но тогда почему Леонора встречается с калекой? Пресловутый женский «запасной» вариант? Какая глупость! Он же инвалид! Разве захочет кто-то связать с ним свою жизнь! Или, может быть, ей просто интересно?
«Я – интересный человек, интересный калека. Лучше бы я был простым тупым обывателем – ведь и такие кому-то нужны, какой-нибудь полногрудой матроне – толстой неуклюжей самке…» Идиллическое видение жизни добропорядочной фермерской семьи вызвало у Охотника такое омерзение, что его аж передернуло. Но как же все-таки ему быть с Леонорой? Как выйти из этого тупика? Может быть, стоит покончить с жизнью, разом дать ответ на все вопросы и сомнения? А там – мир иной, как говорят наши священники, либо иное воплощение, как твердят те же священники на востоке. Но ведь он, Охотник, с его утонченной и ранимой душой наверняка перевоплотится в какое-нибудь возвышенное существо… или в нечисть. «Вот здорово! Стану летающей, плюющейся огнем каракатицей и займусь уничтожением мечтательных охотников, наделаю из них омерзительных калек, чтобы отомстить миру за свою несчастную жизнь…»
* * *
Они встречались уже больше месяца. За это время Охотник со своими балладами, бравой выправкой и медалями совершенно неожиданно для себя сделался едва ли не самым популярным человеком в этом маленьком приморском городке. За ним толпами бегали мальчишки – те самые, что совсем недавно дразнили его. Теперь же, перешептываясь, они с застывшей завистью рассматривали блестящие нашивки и потускневшие медали.
Как-то вечером к Охотнику зашел менестрель городского Старшего Егеря. Охотник целый вечер пел ему свои старые песни – те, что были сложены уже давно, когда еще не являлся гордостью крошечного городка, а был лишь безвестным калекой, жившим только воспоминаниями о лесах Эсмиральда. Охотнику не хотелось, чтобы баллады, посвященные Леоноре, распевали для забавы за обеденным столом какого-нибудь толстосума. Но менестрель остался доволен и тем, что услышал. А Охотник думал о другом: о Леоноре, о том, как она будет одета при их следующей встрече, как улыбнется – приветливо или хмуро. А может, она лишь чуть скривит свои изящные тонкие губки…
Через пару недель в домик Охотника пожаловал сам Старший Егерь городка. Его коляска – по местным масштабам прямо-таки карета – остановилась в переулке, неподалеку от покосившегося домика инвалида, и Старший Егерь в сопровождении десятка уездных чиновников в затасканных до сальных пятен мундирах (никто из них леса даже издали не видел) прошествовал к дому Охотника.
Охотник, поджидавший Старшего Егеря (посыльный с известием о прибытии столь высокого гостя побывал у него два часа назад), вежливо приподнял за козырек свое полевое кепи младшего офицера и чуть склонил голову в приветствии.
– Рад видеть вас, господин Старший Егерь. Не сочтите за дерзость, но я не могу пригласить вас войти. Увы, пенсии Императора едва хватает на то, чтобы я смог подобающим образом обставить свое жилище. А у калеки в наше время нет возможности заработать…
– Ничего, друг мой. По долгу службы я бывал в таких трущобах, по сравнению с которыми ваше жилище – королевский замок.
Круглый, словно надутый воздушный шарик, выставив вперед огромный нос с красными прожилками, Старший Егерь вальяжно поднялся на крыльцо и, оказавшись рядом с Охотником, произнес так, чтобы стоящие в отдалении егеря и многочисленные зеваки не смогли расслышать ни слова из их разговора.
– Я прибыл к вам по важному государственному делу и хотел бы поговорить без свидетелей.
Когда они вошли в дом, Старший Егерь уселся на колченогий стул, где обычно восседал старик Витам (последнее время он зачастил к Охотнику), и сразу же перешел к делу:
– Господин Охотник, в нашем городке появились оборотни. Увы, это не слухи. Люди видели двух вервольфов… Нет, волколаки пока не воруют маленьких детей, не найдено ни одного трупа. Но они – нечисть! Нечисть в городе, господин Охотник! И по Закону Его Императорского Величества оборотни должны быть уничтожены. Но, увы, нам самим их не поймать. Мы уже пытались сделать это несколько раз, но потерпели неудачу. В нашем городе нет ни одного настоящего Охотника! Ни одного Следопыта! Если же я обращусь в Метрополию, то… вы же понимаете, потеряю лицо. В столице станут говорить, что мне потребовался отряд, чтобы изловить двух шавок с обломанными зубами…
– Но что же вы хотите от меня, инвалида? – в недоумении спросил Охотник.
– Мои егеря расправятся с чудовищами, – уверил Охотника Старший Егерь. – Но сначала нам нужно найти их логово. Приведите нас к нему. Естественно, труд будет оплачен…
Охотник хорошо помнил клятву, которую давал каждый курсант Академии: «…до конца жизни уничтожать нечисть в любом ее проявлении…» Поэтому, тяжело вздохнув, он утвердительно кивнул:
– Хорошо. Я согласен. Завтра на закате пришлите егерей. И не забудьте взять побольше серебряных пуль.
* * *
На следующий день он встретился с Леонорой в городе Древних, у старой полуразрушенной башни. Охотник, спрятавшись между двумя витыми колоннами, вдыхал йодистый аромат водорослей, отторгнутых морем, и пытался представить, как описал бы их маленький приморский городок создатель «Книги морей». Любуясь водной гладью, он пытался вообразить чудные суда Древних, когда-то заполнявшие эту гавань.
Леонора почти неслышно подобралась к нему и замерла у него за спиной. Детский трепет, предвкушение встречи… Конечно, Охотник сразу же различил тихий шорох ее шагов, но не подал вида – нельзя огорчать ребенка, даже если он уже вырос. А тем более, если безумно и безнадежно в него влюблен. А потом его оглушило веселое «Здрасте!».
– Здравствуй, – ответил он.
– Завтра я уезжаю, приехал мой жених. Он увезет меня далеко-далеко.
Слова Леоноры поразили Охотника в самое сердце. «Уезжаю», «жених», «увезти» – его Леонора не знала таких слов. В этих словах было что-то неправильное, фальшивое, словно некий безликий враг заявил свои права на последнее, что еще принадлежало ему в этом мире. Две фразы, и Охотник явственно ощутил свое истинное положение в обществе. В один миг он преобразился, превратившись из барда-ветерана в убогого калеку.
Сначала он растерялся, не зная, что сказать своей возлюбленной, а потом, с трудом одолевая предательскую дрожь в голосе, произнес:
– Почему… Почему ты никогда раньше мне ничего не говорила? И куда ты едешь? Я поеду… я провожу тебя… Я напишу…– и он замолчал, понимая, что городит совершенную чепуху. Слово «жених» набатом звучало у него в голове.
Но Леонора, казалось, ничего не замечала.
– Ничего не надо делать, Охотник. Все уже решено. Сегодня мы расстанемся пораньше. К тому же вы ведь обещали Старшему Егерю выследить оборотней…
– Откуда ты знаешь?
– Об этом говорит весь город, – Леонора широко улыбнулась ему в ответ. – Вы должны поймать чудовищ, вы же – Охотник. Весь город надеется на вас.
– Но Старший Егерь говорил, что оборотни никому еще не причинили вреда. Я дам им скрыться… Нет, я пойду к Старшему Егерю, он перенесет Охоту, он поймет…– Охотник еще шептал что-то столь же беспомощное. – Я хочу, чтобы ты осталась со мной сегодня как можно дольше… Ты мне нужна…
– Нет, прошу тебя, – Леонора приблизила свои губы к его перекошенному мукой рту, склонилась над ним. – Ты – Охотник, а я… впрочем, неважно. Я скажу отцу, и Охоту перенесут на завтра. Не вини себя, что бы ни случилось. Прощай, меня ждут.
Их губы встретились. Поцелуй? Укус? Нет, просто Охотник неудачно качнулся не в такт со своей возлюбленной и поранил губу о ее великолепные, жемчужные зубки.
Капелька крови в уголке рта.
– Леонора! – он приподнялся, опершись руками о подлокотники инвалидного кресла, потянулся за ней – но девушка уже была далеко. Еще мгновение, и ее силуэт растаял среди теней, между щербатых полуобвалившихся стен. И лишь облачко пыли на тропинке да качающиеся метелки травы говорили о том, что она и в самом деле была здесь, что ее образ не пригрезился Охотнику в хмельном бреду.
Он замер, до боли в ногтях впившись в деревянные подлокотники.
«Неужели я был таким наивным, что надеялся на иной исход! Я же должен был знать с самого начала: она никогда не сможет меня полюбить! Ведь я – калека, урод, изгой…»
Повернувшись, она ушла, а я долго смотрел ей вслед.
Сел на камни и плакал я. Туман, словно дым сигарет.
* * *
За охотником пришли на закате. Егеря принесли длинноствольные мушкеты, серебряную картечь, гирлянды чеснока, медные зеркала и факелы.
Старший из егерей – худой старик с лошадиным лицом – криво улыбался, выставляя напоказ огромные плоские передние резцы.
«Я все понимаю. Ты – Охотник. Но я бы сам завалил Зверей, если бы не Старший Егерь».
Инвалид – статуя скорби – с радостью приветствовал гостей. Казалось, он не замечал косых, недоверчивых взглядов. Он жаждал заняться хоть чем-то, иначе все мысли возвращались к Леоноре, а любое воспоминание о ней причиняло невыносимую боль. Радостно подкатив на своем кресле к недружелюбным стражам городского спокойствия, он попросил:
– Дайте мне ружье. Я хочу сам прикончить этих тварей.
Некто в желтом мундире не первой свежести, не выказав удивления, щелкнул пальцами – и тут же Охотнику вручили мушкет, мешочек с серебряной дробью и пороховницу.
– Теперь везите меня туда, где видели вервольфа в последний раз.
Тот же человек, встав за спиной Охотника, медленно покатил инвалидное кресло. Они прошли через весь город, другие охотники шествовали чуть в отдалении, а за охотой двигалась толпа горожан, вооруженных осиновыми колами, вилами и факелами. Постепенно со всех сторон в толпу вливались новые люди. Казалось, все жители городка в этот вечер вышли на улицы, чтобы увидеть, как их кумир покончит с нечистью, и насладиться величайшей из забав – убийством.
Охотника привезли на пустырь за домишками из серого песчаника с просевшими соломенными крышами. Окончательно стемнело, но многочисленные факелы превратили ночь в день. Толпа боялась неведомого, затаившегося во тьме. «Тьма – стихия нечисти», – так любил говаривать прежний Император.
Горожане волновались. Пора было открывать занавес и начинать представление. Люди видели Охотника в инвалидном кресле, они знали, что скоро прольется кровь, и жаждали вида этой крови… Но стоило Охотнику поднять руку, требуя тишины, и толпа стихла.
Вытянув вперед руки, он зашептал заклинание Следа, пытаясь вобрать в себя все невидимые простым глазом силы, затаившиеся на пустыре между домами. Этому заклинанию научил его один старый егерь, и в отличие от заклинаний, которым учили в Академии, действовало оно безотказно. Его руки тускло засветились, словно в крепко сжатых кулаках он держал по крохотному фонарику. А потом кольца зеленого света стали растекаться по площади, словно круги по воде от брошенного камня, высвечивая каждую ложбинку, каждую трещинку, каждую травинку и каждый камешек.
И в этот миг Охотник почувствовал: вот-вот случится беда, произойдет нечто страшное. Ему показалось, что на него опрокинули ведро ледяной воды. Он осознал: опять, второй раз в жизни, он утратил некий стержень – смысл существования. Ради чего в эту ночь он вышел на охоту? Ради Леоноры? Но она ушла, растворилась, как утренний туман! Ради горожан? Старший Егерь говорил, что оборотни не причинили людям никакого вреда, и лишь толпа за его спиной жаждет крови. Ради собственного престижа?..
Светящиеся кольца погасли.
Что же дальше? Но останавливаться было уже поздно. Он прошел развилку на Дороге судьбы и должен омыть свои руки в крови нечисти.
На краю поляны тусклой, едва различимой зеленоватой цепочкой высветились следы – следы волка. Егеря, взяв мушкеты наизготовку, осторожно приблизились к зеленоватому мерцанию. Поняв, наконец, что светящиеся отблески – это еще не сами волки, они уверенно направились вдоль гирлянды сияющих в воздухе пятен. Охотник знаком приказал стоящему за спинкой его кресла слуге следовать за ними. Безмолвная и настороженная толпа огромным зверем шевельнулась у него за спиной.
Светящаяся тропинка привела охоту к маленькому, аккуратному, уединенному домику на окраине городка. «Как хорошо было бы жить с Леонорой в таком домике, – пронеслось в голове Охотника. – Кстати, она вроде бы живет где-то неподалеку».
Горожане безмолвно окружили предполагаемое логовище оборотней, однако никто не решался подойти к домику ближе чем на семь-восемь шагов. Только его коляска оказалась придвинутой почти вплотную к крыльцу. Егеря навели мушкеты на дверной проем, закрытый лишь легкой занавеской.
Невесть откуда появился Старший Егерь. Выйдя из толпы, он замер перед крыльцом домика, выставив перед собой старинный серебряный кинжал, клинок которого в отблеске факелов казался залитым кровью. Такое дорогое оружие Охотник видел лишь в музее Академии.
– Выходите, мерзкие твари!
Старший Егерь сделал паузу, выжидая, а потом снова закричал. Охотнику, не разобравшему первое слово, показалось, что правитель не говорит, а каркает, словно старый простуженный ворон.
– …выходите! Иначе мы подожжем дом! Мы ждем!
Тюлевая занавеска слегка качнулась – словно от случайно пролетевшего мимо и чуть зазевавшегося ветерка. Из тьмы на мгновение мелькнула волчья морда, и тут же залп серебряной дроби раскрошил в щепы дверной косяк.
– Не стрелять! – побагровев, заорал Охотник. Он сам не мог понять, что на него нашло. Егеря замерли, не решаясь ослушаться предводителя охоты. Кое-кто, ожидая приказа, повернулся к Старшему Егерю, но тот в растерянности молчал.
– Все назад! Расступитесь! Они никому из нас не причинили зла, дайте им уйти, – громко сказал Охотник. Повернувшись к дому-логову вервольфов, он крикнул:
– Выходите!
Тишину нарушал лишь треск смоляных факелов. Где-то далеко-далеко заплакал ребенок.
– Выходите! Не нужно бесполезных жертв. Мы дадим вам уйти.
На пороге появились две серые тени.
– Я обещаю, что никто не выстрелит.
Тени качнулись вперед – туда, где за коридором, внезапно образовавшимся в расступившейся толпе, скрывалась спасительная тьма. И в этот миг Охотник узнал, понял… Увидев поднятый мушкет, он попытался привстать, чтобы предотвратить непоправимое, спасти… Но не смог.
Мертвые ноги!
Как в страшном сне, он видел: егеря разом вскинули мушкеты. С диким криком, перекрывшим грохот залпа, Охотник вскочил и, словно преодолевая какой-то невидимый барьер, на негнущихся ногах шагнул вперед. Раз, другой… Он не упал, лишь наклонился – и лишь успел подхватить ее обнаженное, но, увы, уже мертвое тело.
Осторожно положив ее на спину, он повернул голову девушки так, чтобы не было видно левой, изуродованной дробью половины лица, чернеющего пустой глазницей выбитого глаза. Затем, сорвав с себя куртку с нашивками и значками, осторожно прикрыл ею Леонору.
* * *
– Убийцы! – громко сказал Охотник. – Они вышли, чтобы спокойно уйти! Они никого не убивали! Они сохранили вам жизнь! Сколькие из вас погибли бы, сунься вы в их логово!
Толпа выжидающе молчала. Городок был небольшим, все знали о Леоноре и Охотнике. А теперь оказалось, что возлюбленная их кумира – нечисть.
– Ты чуть не нарушил присягу, – голос Старшего Егеря разорвал напряженную тишину. – Ты – Охотник. Ты поклялся служить Императору и уничтожать нечисть во благо людей.
«Господи, да какая же она – нечисть! Нечисть там, в лесах Эсмиральда. Там она настоящая. А здесь…»
Но вместо лика предводителя Древних перед ним застыло ненавистное лицо – лицо убийцы Леоноры.
– Что дал мне Император? Я служил ему, а когда стал калекой, меня вышвырнули на свалку…– и только тут Охотник понял, что стоит на ногах. На своих мертвых ногах!
– Ты – лжец! Ты – дезертир! – бросил ему в лицо Старший Егерь. – Ты хотел отпустить их, чтобы потом присоединиться к их волчьей стае и стать…
– Посмотрите на его руки! – истошно завопил кто-то в толпе.
Охотник поднял руки к свету и с ужасом увидел, как его ногти вытягиваются, превращаясь в звериные когти. Кожа покрылась черным волосом… И тогда он засмеялся.
«Значит, она в самом деле любила меня. Ведь все знают, что оборотни не боятся ран, нанесенных простым оружием. Их ранит и убивает только серебро. Значит, я смог бы ходить… Но почему она дала мне возможность выследить ее? Почему добровольно приняла смерть? Ведь она же могла убежать из города… Нет, не могла. Принеся себя в жертву, она доказала свою любовь. Ведь что стоили бы мои медали и нашивки в глазах толпы, если бы я не поймал оборотней. К тому же она не могла остаться со мной. Ведь для нее я был Охотником. Я бы никогда не простил ей то, что сделала она мне во благо. Я никогда не связал бы свою жизнь с нечистью. А она… Выходит, она любила меня? Но может ли любить нечисть?»
Охотник не знал ответа на свой вопрос, но был уверен – Леонора любила его, и ее смерть стала тому доказательством.
В один миг в его памяти пронеслись все их беседы, пересыпанные условностями и недомолвками неопытных влюбленных, так и не открывших друг другу свои чувства. А укус-поцелуй стал ее последним даром. Перед смертью она подарила ему надежду. Но зачем ему надежда, если она мертва?
Рассмеявшись, Охотник шагнул вперед и вскинул мушкет. Волосатые неуклюжие волчьи лапы повиновались еще очень плохо.
«Вот вам за Охоту, за насмешки, за Леонору, за те унижения…»
Его выстрел снес голову Старшему Егерю. А затем, выхватив кинжал, Охотник повернулся к толпе…
Нет, больше он никого не убил. Серебряная дробь изрешетила его тело. На мгновение Охотник замер, потом качнулся, прошептав:
– … мы б бежали с тобой по песку…
И, сделав шаг вперед, Охотник рухнул на землю.
* * *
Эту легенду об охотнике-оборотне вам расскажут в любом кабаке того маленького приморского городка. А если поблизости нет егерей, то могут и спеть запрещенные новым Старшим Егерем, но почему-то не забытые в народе баллады Охотника. Баллады, посвященные Леоноре…
На главную: Предисловие