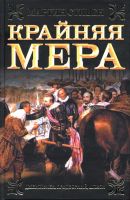Владимир Березин
Гармония
Гамулин пил второй день – вдумчиво и с расстановкой. В местном баре обнаружился неплохой выбор травяных настоек, и Гамулин, не повторяясь, изучал их по очереди. Он ненавидел пиво и вино, любой напиток малой крепости был для него стыдным – а тут наступило раздолье. Тминная настойка, настойка черешневая и липовая, а также водка укропная и водка, настоянная на белом хрене, перемещались из-за спины бармена на стойку.
Стаканы были разноцветны: зелёный – в тон укропной, красный – для черешневой, желтоватый – для тминной… Остальные он не помнил.
Съёмочная группа выбирала натуру – уже неделю они колесили по Центральной Европе, готовясь к съемкам фильма о Великом Композиторе. Здесь, в городе, где родился Композитор, их и застали дожди. В небе распахнулись шлюзы, и вода ровным потоком полилась на землю.
Машина буксовала в местной грязи, похожей на родной чернозём, съёмочный фургон сломался по дороге, а шофёр пропал в недрах местного автосервиса. В довершение ко всему вся киноплёнка оказалось испорчена – из бобин потекла мутная пластиковая жижа, будто туда залили кислоты.
Теперь Гамулин второй день ждал режиссера в гостинице.
Композитор строго смотрел на него со стены, держа в руках волынку. Или не волынку – что это был за инструмент, Гамулин никак не мог понять. Могло показаться, что на картине не знаменитый Композитор, а продавец музыкального магазина – за его спиной висели скрипки, стояло странное сооружение, похожее на гигантский клавесин, и горели органные трубы.
У Гамулина тоже горели трубы – медленным алхимическим огнём. Он давно приметил мутную бутыль с высокомолекулярным (слово напоминало тест на трезвость) соединением и упросил хозяйку откупорить. Виноградная водка огненным ручьём сбежала по горлу.
Гамулин мог достать всё – однажды, на съёмках в Монголии, он нашёл подбитый семьдесят лет назад советский танк и, починив, пригнал на съёмочную площадку. В сухом воздухе пустыни танк сохранился так хорошо, что многие считали, что он просто сделан реквизиторами по старым чертежам.
Посреди города Парижа, на Монмартре, он достал живого козла для съёмок фильма «Пастушка и семь гномов». Для сериала «Красная шапочка и дальнобойщики» он выписал из австралийского цирка волка, понимающего человеческую речь. Друзья по его просьбе печатали паспорта и удостоверения, которые были лучше настоящих.
Сейчас Гамулину велели договориться о натурной съемке в Музыкальном музее. И он не сделал за два дня того, что делал раньше за час.
Он был похож на печального землемера из странного романа, который всё никак не мог подняться в замок и застрял в деревенской харчевне. Музей и вправду был похож на замок, что был страшен с виду и сам напоминал декорацию. Это здание, плод фантазии самого стареющего Композитора, свело исполнительного архитектора в могилу. Теперь Гамулин глядел в окно, на то, как четыре высокие башни кололи низкие тучи, а между ними плясали сумасшедшие гномы – кто с лопатой, а кто с кайлом. Но нет, конечно, это были не гномы – вместо горгулий по стенам торчали музыканты со своими лютнями, дудками и шарманками.
В полдень они оставались недвижны, а в полночь начинали приплясывать, приводимые в действие старинным часовым механизмом.
Гамулин звонил в музей, стучал в железные ворота древней колотушкой, но всё было без толку. Местные жители смотрели на него, как на чумного, уверяя, что музей не работает со времён падения Варшавского договора.
Хозяйка гостиницы, персонаж вполне итальянского извода – толстая, пучеглазая (кто-то сказал, что это душа её рвётся наружу), – раздражала Гамулина. То, что всегда служило ему бесплатным источником всех местных тайн и подробностей, оказалось досадной помехой. Хозяйка была русской – вот в чём было дело. Она вышла замуж за иностранного студента, превратив его из супруга в средство передвижения, и встала за эту стойку лет пятнадцать назад. Муж умер (скоротечный рак, страховка, детей не было), и вот провинциальная барышня, ставшая на чужбине почти шароподобной, крутила ручки пивных кранов.
Такие люди бывают двух сортов – они либо радуются земляку, либо хотят ему доказать, что их выбор тогда, много лет назад, был верен. Хозяйка была из вторых, и Гамулину приходилось заказывать чуть больше, чтобы она не лезла со своими разговорами.
Композитора он, кстати, тоже возненавидел – вместе с будущим фильмом. Старый музыкант много шалил в юности, потом стал злым гением короля и даже, по слухам, отравил своего лучшего друга.
В знак протеста его музыка не исполнялась нигде – существовал молчаливый (в буквальном смысле) заговор музыкантов. Но в новом кинематографическом шедевре Композитор должен был воскреснуть спустя двести лет, переродиться и в новой жизни, колеся по Европе, спасать евреев от нацистов – никуда не деться, таково было условие продюсеров.
Но замок был закрыт, плёнка оказалась бракованной, и съёмки откладывались.
Теперь Гамулин напоминал себе советского разведчика, что, напившись, будет петь протяжные песни у камина – он даже забрал из реквизита гармонь и решил перенести её к себе в комнату.
Надо было взять инструмент и уходить. День стремительно растворялся в дожде, но вдруг к Гамулину пристал местный сумасшедший цыган Комодан. Комодан говорил на всех языках мира, причём одновременно. Вчера от него удалось избавиться, вложив немного денег в его грязную ладонь, но сейчас этот фокус не прошёл.
Как и все сумасшедшие, этот шептал о спасении мира. Мир клокотал в горле цыгана, как поток в водосточной трубе. Но Гамулин был не лыком шит – чужая речь удивительно хорошо фильтровалась тминной настойкой, настойкой черешневой и липовой, а также водкой укропной и водкой, настоянной на белом хрене.
Одно только заставило Гамулина вздрогнуть: цыган вдруг потребовал ехать в замок – прямо сейчас.
При этом Комодан крутил на пальце огромный ключ – и Гамулин сообразил, что это шанс. Подустав, сумасшедший пьяница бормотал уже невнятно, и Гамулин брезгливо снял его руку со своего плеча:
– Ша, тишина на площадке! Поедем сейчас.
Чтобы не возвращаться в свой номер, он понёс футляр с гармонью на плече.
Они вышли на улицу – дождь не прекратился, а завис в воздухе. Цыган бежал впереди, раздвигая плечом водяную пыль, а Гамулин шёл за ним как матрос, враскачку – медленно, но верно.
Ключ вошёл в железную дверь замка легко и беззвучно, и она отворилась так же неожиданно тихо. Гамулин, впрочем, решил про себя, что лязг и скрежет сделает звуковик. «Снимать, конечно, нужно только в замке. Лучше, конечно, в подвалах», – подумал он.
Он мог бы сам снимать фильмы, да только это ему было незачем. Гармонии в этом не было. Гармония была у него за плечом, в большом коробе.
Коридор был гулок и пуст – они шли мимо портретов великих музыкантов прошлого. Из них Гамулин узнал только пухлощёкого немца в белом парике.
Кто-то запищал под полом, а может, в полости стен.
– Крысы? – спросил Гамулин.
– Здесь нет крыс, – ответил цыган неожиданно сурово. – Здесь никогда не было крыс, но всегда было много разных зверей. В подвале держали пардуса, а говорят, композитор перед смертью купил крокодила. Но теперь – другое. В таких домах всегда живут хомяки или сурки – это обязательно.
– Почему сурки? – спросил Гамулин, но ответа не получил.
Звуки приближались.
– Мы почти пришли, господин, – сказал цыган, и Гамулин поразился этой перемене. Комодан зачем-то засунул себе в нос две бумажные упаковки сахара, украденные из бара, и стал похож на безумного персонажа чёрной комедии. Походка его тоже изменилась, и цыган приплясывал, как человек, который никак не может добежать до туалета.
Комодан отворил дверь в залу и пропустил Гамулина вперёд. Гамулин перекинул ремень короба через плечо и шагнул через высокий порог.
Вдруг резкий удар обрушился на его голову, и всё померкло.
Он обнаружил себя висящим, как космонавт, – в крутящемся колесе. Он привязан в неудобной позе к ободам странной стальной карусели, стоящей вертикально посреди огромного зала.
Ноги и руки его торчали из зажимов на ободе. Вокруг в проволочных лабораторных клетках сидели несколько зверьков и таращили на него глаза-бусинки.
– Чё за херня? – спросил он угрюмо в пустоту перед собой. Из-за его спины вышел незнакомый человек, можно сказать, коротышка. Повернувшись куда-то в сторону, коротышка спросил:
– А он точно музыкант?
– Да, господин Монстрикоз. Он даже пришёл с инструментом… – прозвучал голос цыгана, – инструмент в чехле.
Гамулин не стал вступать в разговор и разочаровывать карлика. Он справедливо рассудил, что от этого может быть только хуже.
– А это что? – спросил Гамулин недоумённо, мотнув головой. Указать рукой вокруг было невозможно. Хотя он не обращался ни к кому конкретно, ответил карлик:
– Это – идеальный инструмент. Иначе говоря, генератор переменной частоты. – Карлик вместе с цыганом прилаживал какие-то провода к машине и, не прерывая этого занятия, продолжил: – Мне, как злодею, позволительно поболтать перед началом Великого Делания. Именно Делания – впрочем, такая мелочь, как превращение ртути в золото и обратно, меня не интересует. Вчера я разложил вино на простые составляющие, упростил несколько изображений, и ещё кое-что по мелочи. Почему-то обратные гармонии лучше всего действует на фотоплёнку… Но тогда у Инструмента ещё не было центральной части, а теперь Комодан нашёл тебя, и я доведу его до совершенства.
Настойка тминная заспорила внутри Гамулина с водкой укропной, и он подумал, не заснуть ли ему, – это был хороший способ решения подобных проблем. При пробуждении, впрочем, появлялись другие проблемы, не менее серьёзные, и ужасно болела голова, но дурацкие карлики всегда исчезали. И гномы – тоже.
Заснуть, однако, не выходило, хотя голова уже валилась на грудь, а карлик всё говорил и говорил:
– Вы знаете, любезный иностранец, отчего не исполняется музыка Композитора? Многие дураки до сих пор считают, что это месть поклонников его знаменитого друга. Глупость! Чепуха! Друг, конечно, был талантлив, но глуп, а музыка его – слащава. Наш же герой, строитель этих стен, знаток гармоний и властелин звуков, был настоящий гений! Он был гениальнее этого изнеженного выскочки в сто, в тысячу раз! И он дошёл до тех высот, какие тому и не снились, – и вот, на краю мироздания он создал Великую Гармонику.
– Чё? – тминная и укропная уступили место черешневой и липовой, и Гамулин резко выдохнул.
– Я же говорю, это особый музыкальный инструмент, в котором сочетаются звуки всех инструментов мира.
– Мира… – как эхо отозвался Гамулин.
– По внутренним его колёсам бегут десять хомяков, восемь кошек сидят в специальных камерах и мяукают в такт ударам стальных игл, шесть соловьёв поют в клетках, а в центре этого находятся органные трубы, синхронизирующие звук. И вам повезло, мой незнакомый друг, – вы станете главной частью механизма.
– Это поэтому я похож на цыпленка табака? – злобно сказал Гамулин.
– Почему цыплёнка? Вы что, не видели знаменитого чертежа Леонардо? В процессе музицирования вы будете олицетворять гармонию человека.
Гамулин как-то понимал под гармонией совсем не то, никакого знаменитого чертежа никакого Леонардо в глаза не видел, но в его положении выбирать собеседников не приходилось.
– И что? Спляшем, Пегги, спляшем? Ну, сыграем, а дальше-то что?
– Дальше – ничего. Потому что наш инструмент, Великая Гармоника, обладает особым свойством: если играть на нём музыку, что сочинил отравленный юнец, в мире нарастает сложность. Если же, наоборот… Наш мёртвый хозяин, музыкальный чародей, открыл закон движения гармонии – от звуков этого инструмента мельчайшие частицы вещества могут вибрировать и образовывать новые гармонические связи. Но если инструмент переключить на обратный ход, то он заиграет не музыку глупого юнца, а сочинения нашего гения. Всё гениальное просто – это одна и та же музыка. Только проигранная задом наперёд. Хотя кто знает, где тут перёд, а где – зад. Мы с вами будем свидетелями, как все цепочки связей и излишне сложные соединения начнут распадаться. Мир станет прост и чёток.
Сначала процесс пойдёт медленно, но потом распространится – мир покатится по этой дороге, стремительно набирая обороты.
– Вот радость-то, – мрачно отметил Гамулин. – И спирт тоже?
– Что – спирт?
– Спирт тоже должен распасться?
– Дурак! При чём тут спирт… Хотя да, и спирт. Но тебе остаётся радоваться – ты увидишь великий праздник упрощения мира, понимая, в отличие от профанов, что происходит…
– Мы на «ты» перешли, что ли? На брудершафт не пили.
– Дурак! Дурак! Не об этом! Мир изменится – он станет строг и прям, в нём не останется места сложности. Чёрное всегда будет чёрным, а белое – белым. Гармония будет нулевой, то есть – полной, и цветущая сложность сменится вечной простотой.
– И что?
– И всё.
Гамулин вздохнул. Он понял не много, но то, что он понял, описывалось коротким русским словом. И этот конец был близок.
– Ну, дай сыграть-то перед смертью? – попросил Гамулин. – Недолго уж.
Директор музея несколько успокоился и вежливой горошиной «вы» снова вкатилось в его речь.
– Умирать, положим, вы будете очень долго. Или жить – мы все будем жить довольно долго, наблюдая приход Великой Простоты. А развязать я вас не могу.
– Да не развязывай. Мне одной руки хватит. Дай только гармонь мою.
– А это что? Что? Что? – закричал карлик.
– Гармонь. Русскому человеку без гармони никак нельзя. Вон в коробе у стола стоит.
– А, аккордеон? – Карлик нагнулся.
Гамулин опять не стал его поправлять и принял гармонь освобождённой от ременного зажима рукой. Он расправил меха, и первый звук гармони заставил вздрогнуть карлика. Задрожал и музыкальный Пластификатор.
Что-то шло не по плану.
Гамулин повис на ремнях, как висели на своих костылях инвалиды в электричках. Чёрта с два он мог забыть этих инвалидов, что пели «Московских окон негасимый свет», а когда в вагоне публика была попроще, то «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной». Теперь было понятно, почему они держали гармонь именно так и отчего становились в грязном проходе между скамьями гармоничнее любой статуи у Дома культуры в Салтыковке. Он прикрыл глаза и завёл:
– Раскинулось море широко-о-о…
Ухнуло что-то в органных трубах, а хомяки встали на задние лапы.
– И волны бушуют вдали-и-и… – продолжил Гамулин.
Завыли кошки – тонко и жалобно. Органные трубы издали печальный канализационный звук и вдруг с треском покосились.
Гамулин обращался к безвестному товарищу, с которым был в странствии, с которым вдали от дома, посреди чужой земли и воды делил краюху хлеба.
Он выдыхал то, что было раньше настойкой тминной, настойкой черешневой и липовой, а также водкой укропной и водкой, настоянной на белом хрене. Голова прояснялась, и боль в затылке прошла.
А Гамулин играл и играл – корчился перед ним карлик, дрожал музыкальный Пластификатор, и лилась песня.
Он вел её дальше – и уж хватался кочегар за сердце, подгибались его ноги и прижималась чумазая щека к доскам палубы.
Ослепительный свет озарял кочегара, нестерпимый свет возник и в зале – это лопнула какая-то колба внутри зловещего инструмента и вольтова дуга на секунду сделала всё неразличимым.
Но Гамулин не видел этого – он давно закрыл глаза, и песня вела его за собой. Угрюмые морские братья, осторожно ступая, поднимались из машинного отделения с последним подарком – ржавым тяжёлым железом в руках. Корабельный священник жался к переборке… Жизнь кончалась – она была сложна и трудна, но кончалась просто. Всё соединялось – жар печи, плеск волн и негасимый свет.
Наконец Гамулин завершил песню – устало, будто зодчий, завершивший строительство своего собора.
В комнате давно было тихо. Хомяки и коты разбежались, чирикала птица под высоким сводчатым потолком. Потрескивало что-то в разрушенном агрегате. Ремни ослабли, и Гамулин легко выпутался из них – никого вокруг не было.
Там, где лежал карлик, осталась неаппетитная лужа, как после старого пьяницы. Цыгана и след простыл.
Гамулин брёл по пыльным комнатам, волоча за собой гармонь как автомат – будто советский солдат по подвалам рейхсканцелярии.
Группа приехала на следующий день, и начались съёмки. Товарищи Гамулина привезли новую плёнку и голоногих актрис. Но и новый запас часто шёл в брак: сыпалась основа, превращаясь в пыль и труху. Это происходило постоянно – явно кто-то нагрел на контракте руки. Тогда звали Гамулина с его гармонью. Странное дело – несколько дней подряд после того, как он рвал душу протяжными песнями, неполадок с камерами и плёнкой не было.
Но и тогда съёмки всё равно не шли – все, начиная с режиссёра и заканчивая последним осветителем, пили черешневую и вишнёвую вкупе с укропной и тминной прямо на съёмочной площадке. Актёры пили и плакали, размазывая слёзы по гриму. Как было не пить, когда напрасно старушка ждёт сына домой и пропадает где-то вдали след от корабельных винтов.
Назад: Вместо послесловия
На главную: Предисловие