Исписанная тетрадь

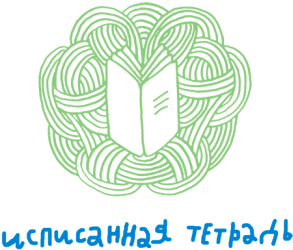
Это только теперь Тетрадь называлась Исписанной Тетрадью— между прочим, и всего-то каких-нибудь два или три дня. Иначе говоря, с тех пор, когда в ней поставили сначала последнюю запятую, потом последнюю точку и, наконец, последнее многоточие. А многоточие, собственно, почему поставили… сказать ещё было что — потому и поставили. И немало чего сказать: столько ещё разных слов оставалось на свете — да места не хватило… Тетрадь кончилась — и из просто Тетради превратилась в Исписанную Тетрадь.
— Вот я и кончилась, — подвела она итог долгой своей жизни.
Жизнь у неё и правда долгая оказалась: на целых тридцати двух листах! А 32 — серьёзная цифра. Гораздо, например, серьёзнее, чем 24, и тем более — чем 12! На двенадцати листах много не напишешь, да и на двадцати четырёх не очень разгуляешься. Вот тридцать два — это совсем другое дело: даже если каждый день исписывать по одному — причём целому! — листу (а исписать за день целый лист очень и очень непросто — сами попробуйте!), то и тогда тетради хватит на месяц — и ещё два чистых листа останется. Два или один… смотря какой месяц, но понятно, что в любом случае месяц — это довольно долго.
Между прочим, Тетрадь так быстро и не заполняли — иногда, конечно, случалось, что писали в ней по целому листу в день, но это редко бывало: чаще напишут строчку-другую — закроют, напишут еще полстрочки — закроют… И потом целый день не открывают. Неделю не открывают. Месяц не открывают. Потому-то и не замечал никто, как Тетрадь постепенно превращалась в Исписанную Тетрадь. Так что время двигалось медленно: посмотришь кругом, а там всё та же жизнь — наша милая странная жизнь…
Строчки были то радостные, то грустные, то длинные, то короткие, то аккуратные, а то и совсем беглые… какие-то мысли, заметки, наблюдения, выписки из книг. Особенно приятно было, когда строчки записывали в столбик: это означало «стихи». От стихов становилось всегда так хорошо, так тревожно! Впрочем, стихи — не стихи… она бережно хранила всё — даже теперь, когда стала Исписанной Тетрадью… или, может быть, особенно теперь, когда стала Исписанной Тетрадью, понимающей, что больше в ней ничего уже не напишут.
«Не беда, что я кончилась, — думала она, — всё когда-нибудь кончается. Беда, что ничего уже не напишут…»
Конечно, нельзя сказать, что Исписанную Тетрадь никогда больше не брали в руки. И в руки брали, и даже перелистывали — не полностью, конечно, а так… страниц пять-шесть. Это было действительно грустно: возьмут, полистают чуть-чуть и — улыбнутся: дескать, смотри-ка, что за старые новости! Неужели когда-нибудь это всё могло быть интересным, нужным, важным — просто не верится… А однажды Исписанная Тетрадь даже услышала (её тогда открыли на одиннадцатой, кажется, странице): «И каких только глупостей тут не написано!»
В тот раз Исписанная Тетрадь впервые в жизни обрадовалось, когда её, наконец, закрыли. Содержать в себе всякие глупости — кому ж это понравится?
В конце концов Исписанную Тетрадь засунули в какую-то тёмную тумбочку. Когда Исписанная Тетрадь привыкла к темноте, она прочитала на лежавшей рядом книге: «Русская литература. Учебник для третьего класса средней школы» — и год издания… настолько древний, что сама Исписанная Тетрадь такого и не помнила.
— Я бабушкин, — смущённо сказал Учебник. — Когда Бабушке было десять лет, она частенько в меня заглядывала. И делала пометки карандашом.
Исписанная Тетрадь едва удержалась от улыбки: такой забавной показалась ей Бабушка, которой десять лет… Действительно, если десять лет, — какая же это бабушка?
Но, стиснув страницы, Исписанная Тетрадь ответила — конечно, без всякой улыбки:
— Конец есть конец. Больше в Вас не сделают пометок. А во мне ничего не напишут.
— Разве в Вас есть ещё место? — удивилась Тоненькая Папка с лохматыми верёвочками.
— В том-то и дело, что нет!..
— Значит, всё уже написано, — заверила её Тоненькая Папка с лохматыми верёвочками. — И в Вас, и во мне, и вот… в Учебнике.
— Да как же — всё? — не согласилась Исписанная Тетрадь. — Когда осталось ещё столько слов и столько мыслей!
Тоненькая Папка с лохматыми верёвочками улыбнулась в темноте и загадочно произнесла:
— В каждой мысли заключены все мысли. И в каждом слове — все слова. И в каждой книге — все книги.
Исписанная Тетрадь не поняла, что имела в виду Тоненькая Папка с лохматыми верёвочками. «Наверное, — подумала она, — в этой Тоненькой Папке с лохматыми верёвочками хранят что-то очень значительное… какой-нибудь необыкновенной важности документ».
И она оказалась права: в Тоненькой Папке с лохматыми верёвочками действительно хранился документ необыкновенной важности. Это была очень старая записка на клочке давно пожелтевшей бумаги. Чернила уже почти выцвели, но строчки всё ещё можно было прочесть: «Солнышко мое, котлеты и картошка на плите. Разогрей и покушай. Я скоро приду. Целую. Мама».

