ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
«ДРУГ НАРОДА» (Окончание)
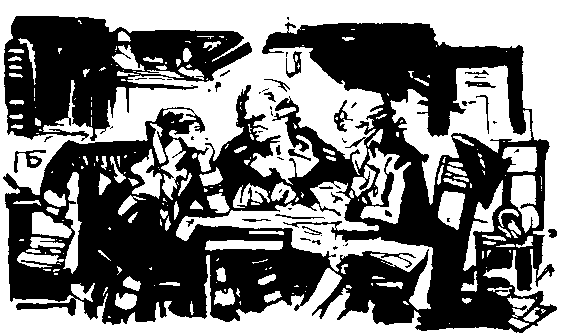
В мае 1790 года Марат возвратился во Францию. Прошло пять месяцев, страсти улеглись. Казалось, что прежнее дело забыто, и он рассчитывал, что может вновь продолжать свою политическую деятельность. Он возобновляет издание «Друга народа».
Вернувшись в Париж, Марат мог убедиться в том, как популярна стала его газета. За время его отсутствия в Париже появился ряд фальшивых изданий, подделок под «Друга народа», то, что позднее стали называть «лжемаратами». «Друг народа» стал столь читаемой в Париже газетой, она имела такой широкий спрос у читателей, что предприимчивые дельцы нашли коммерчески выгодным фабриковать поддельные издания «Друга народа». Марат оказался в необходимости публично протестовать против этих фальсифицирующих подлинные издания фальшивок.
«Друг народа» продолжал ту же линию борьбы против эгоистической, своекорыстной политики буржуазной аристократии, в защиту интересов народа, которую он вел и раньше.
Марат, однако, должен был вскоре убедиться, что его враги остались столь же непримиримыми. Газета вновь подверглась преследованиям. Марату приходилось менять издателей, искать новые типографии, иногда на короткий срок прерывать издание газеты. Он испытывал затруднения с деньгами. Все было истрачено на первые издания газеты. Времена спокойной, тихой, обеспеченной жизни в большом доме на улице Старой голубятни теперь казались бесконечно далекими. Гонимый и бесприютный, преследуемый по пятам полицейскими агентами, травимый правительственной печатью, Марат скрывался в подполье, вел тяжелую, изнурительную, полную опасностей и лишений жизнь, но продолжал борьбу.
В 1790 году Марат остался без средств. Он признавался как-то, что неделями должен был жить на хлебе и воде, и, может быть, это не было только образным выражением. Но его не смущали тяготы жизни. Его великий учитель Жан Жак Руссо всю жизнь прожил неустроенным, бедным, бездомным, но он служил добродетели, и слава увенчала его труд. Марат стремился следовать этому великому примеру. Его нельзя было запугать ни преследованиями, ни тисками нужды, которую он ощущал с каждым днем все явственнее.
Быть может, он их не сумел бы преодолеть, если бы к нему неожиданно не пришла помощь со стороны. В 1790 году ему предложила все свое небольшое состояние молодая патриотка, искренне увлеченная газетой, издаваемой Другом народа.
Симонна Эврар, девушка двадцати пяти лет, давно уже следила за героической борьбой отважного Друга народа. Она разделяла убеждения Марата. Его деятельность представлялась ей героическим подвигом. Он был единственным политическим деятелем и мыслителем, сумевшим понять истинные задачи революции. Она готова была разделять все его опасности, все тревоги и горячо хотела, чем могла, помочь.
Марат принял эту помощь, так искренне и бескорыстно предложенную близким ему по духу человеком. Постепенно дружба между знаменитым журналистом и его молодой почитательницей стала более тесной. Симонна Эврар вскоре стала женой Марата. Правда, этот брак никогда не был оформлен в мэрии; это был свободный союз. В бумагах Марата сохранилась записка, написанная в полушутливом тоне, за которым чувствуется скрытая серьезность. В ней было сказано:
«Прекрасные качества девицы Симонны Эврар покорили мое сердце, и она приняла его поклонение. Я оставляю ей в виде залога моей верности на время путешествия в Лондон, которое я должен предпринять, священное обязательство — жениться на ней тотчас же по моем возвращении; если вся моя любовь казалась ей недостаточной гарантией моей верности, то пусть измена этому обещанию покроет меня позором.
Париж, 1 января 1792 г., Жан Поль Марат, Друг народа».
По каким-то причинам обязательство Марата осталось невыполненным. Вероятно, ни Симонна, ни Марат не видели в том необходимости: их союз был скреплен силой взаимного чувства, и оно было вернее печати мэрии. Для Марата этот брак оказался счастливым. Симонна Эврар была моложе его на двадцать лет, но она стала его любящей и верной подругой, самым близким товарищем и помощником в его полной напряжения борьбе. Осталось свидетельство младшей сестры Жана Поля Альбертины Марат, которая и при жизни и после смерти своего знаменитого брата всегда очень высоко оценивала его мужественную, бесстрашную подругу.
Симонна Эврар разделяла и горести и славу последних трех лет жизни Марата.
Теперь Марат уже не был так одинок, как прежде. Он опирался на руку Симонны, и вдвоем они шли смело навстречу опасностям.
* * *
С июля месяца Марат должен был снова уйти в подполье. Коммуна Парижа возбудила против него новое обвинение и вновь предприняла попытки его арестовать.
Он скрывался у своих друзей, простых людей из народа, которые раскрывали перед ним широко двери. Он продолжал откуда-то, из неведомого и невидимого подземелья, выпускать номера «Друга народа». И теперь эту газету читали с еще большей жадностью, чем раньше.
Где находится Друг народа? Где Жан Поль Марат? Этого- никто не мог сказать. Он был нигде, но он был повсюду. Его преследовали власти, а он вновь и вновь поражал их неожиданными молниеносными ударами. Его травили, — на него клеветали в печати. Он отвечал своим хулителям и сам выдвигал против них грозные обвинения.
Простые люди, трудовой народ, все честные демократы зачитывали «Друга народа» до дыр. Эта внешне непрезентабельная газета, которую держать на виду было весьма небезопасно, передавалась из рук в руки. Ее читали с жадностью, в ней искали ответа на все волнующие вопросы дня, в ней видели доброго и мудрого советчика и наставника; она была действительно тем, чем называлась, — другом народа, бесстрашным, мужественным, верным другом народа.
Но если мы обратимся к страницам «Друга народа» второй половины 1790 года, то мы увидим, что в них меньше всего отражена личная судьба их редактора. Читая эту газету, вы даже не всегда поймете, что она издавалась в подполье. Марат во второй половине 1790 года пишет реже о себе, чем он писал раньше. Он занят более важными вопросами, он продолжает борьбу против тех сил, которые сковывают революцию.
После принятия Национальным собранием антидемократического «военного закона» 21 октября политика господствующей крупной буржуазии и либерального дворянства и их партии конституционалистов стала еще реакционнее.
Еще недавно третье сословие сомкнутыми рядами шло против феодализма, а теперь одна часть третьего сословия — крупная буржуазия, «хорошо одетые господа», как писал Марат, — с помощью законодательства приобрела право применять оружие против «людей в лохмотьях», против простого народа. И основная политическая линия Марата этого времени направлена против антидемократической политики Национального собрания. Марат по-прежнему придерживается убеждения, что революция должна быть продолжена и углублена. Но первым и необходимым условием для этого является борьба против тех сил, которые тормозят развитие революции, которые хотят сковать ее поступательный ход антидемократической политикой.
Снова, как и раньше, борьба Марата действенна и конкретна. Его стрелы, как всегда, направлены в определенную цель. Биографы Марата давно уже заметили особенность его политической борьбы: в его выступлениях почти никогда нет критики частных лиц, и в его полемике нет ничего личного.
Более того — и это замечательно показывает его смелость и отвагу, — он предпочтительнее выступает против лиц, пользующихся наибольшим признанием и располагающих наибольшей долей власти. Так, перед лицом нации, перед лицом народа он развенчал Неккера; он показал в истинном свете пользовавшегося незаслуженной популярностью генерала Лафайета. Но был еще один политический вождь, влияние которого на ход событий было всегда велико и который все еще оставался кумиром в глазах народа, — это Мирабо.
Престиж Мирабо в революционной Франции был выше, чем у кого-либо другого из политических лидеров.
Граф Габриэль Оноре де Мирабо происходил из богатой старинной аристократической семьи. Он получил превосходное образование в доме своего отца, одного из самых просвещенных людей своего времени. Но вскоре после ссоры с отцом, посадившим его под арест за непомерные долги, юный Мирабо покинул отчий дом и начал бурную скитальческую жизнь в Европе.
Мирабо был человеком больших дарований: замечательный трибун, наделенный поразительным ораторским талантом, к тому же обладавший тонким чутьем актера, позволявшим ему всегда угадывать настроение аудитории; человек волевой, решительный, смелый, необузданного темперамента, неукротимых страстей, он сумел рано выдвинуться среди людей своего поколения. Жизнь его развернулась как роман, заполненный невероятными приключениями, взлетами и падениями, двусмысленными коллизиями, подвигами, романтическими историями и сомнительными похождениями.
Мирабо не раз подвергался тюремному заключению: он был в тюрьме на острове Ре, был в заточении в замке Иф, в Жу, в Венсене… И хотя поводом для его преследований были не великие подвиги во имя родины и народа, а нечто совсем иное: неоплаченные долги, побег из крепости, похищение чужой жены, — эта полная превратностей жизнь рождала у него возмущение; он тоже чувствовал себя гонимым и преследуемым и с искренним негодованием обличал пороки старого мира.
Мирабо много писал, и его книгами в свое время зачитывались в Европе. Он писал обо всем: о древней и новейшей литературе, о политической экономии, о пользе оспопрививания, о прусской монархии, о водах Парижа, о статистике, о французской грамматике и многом ином. Но сейчас трудно сказать, где кончается авторский текст собственно Мирабо и начинается работа его сотрудников, которых он так широко привлекал: эрудита Кондорсе, позднее Камилла Демулена и иных выдающихся литераторов того времени.
Снедаемый неутоленной жаждой власти, богатства и славы, он, естественно, с первых дней революции примкнул к третьему сословию и был избран от него депутатом Учредительного собрания. Его популярность в это время была огромной. В провинции молодежь носила его на руках. В собрании он стал вождем победившей буржуазии. В трудных обстоятельствах он умел находить решение, он умел говорить властным тоном с представителями монархии, он никогда не терялся, он казался человеком, который в наибольшей степени воплощает в себе дерзновенные помыслы революции.
Коренастый, кряжистый, с большой головой на короткой бычьей шее, с лицом, обезображенным оспой, он первоначально производил неблагоприятное, почти отталкивающее впечатление. Но он умел и привык подчинять себе аудиторию. Ничто не могло поколебать его самоуверенности. Его гремящий голос, перекрывавший все шумы, сразу же приковывал внимание. Его речь была взволнованна, горяча и в то же время исполнена несокрушимой уверенностью в искренности предлагаемых средств. Казалось, он один знал то, что оставалось скрытым для всех остальных. Через несколько минут он уже полностью овладевал аудиторией.
Но Мирабо, которому нельзя было отказать ни в уме, ни в проницательности, ни в понимании людей, очень скоро понял, что эта благословенная им революция свершается вовсе не для того, чтобы вознести его к вершине власти, что в революции действуют люди, ускользающие из-под его влияния, что народ является той могущественной стихией, которая вскоре может затопить всю страну.
Когда после народного восстания 14 июля революция победила, когда Мирабо в результате этой победы стал признанным главой революции, тогда, по его мнению, революция должна была остановиться.
Но как ее остановить? Мирабо понимал, что нельзя идти против течения. Он продолжал выступать как самый ревностный слуга народа, как рыцарь революции, готовый сложить за нее свою голову. Но в глубине души он уже искал тайных путей, путей, которые бы позволили ему изменить направление событий.
В. И. Ленин дал очень точное и глубокое определение Мирабо, назвав его «гениально-продажным авантюристом». Политические замыслы Мирабо всегда смешивались с личными расчетами. Он постоянно испытывал нужду в деньгах не потому, что их было у него мало, но потому, что не было предела его способности их тратить. Революция не могла ему дать эти деньги — и Мирабо вступает в тайную связь с двором. Это сулило, ему не только материальные, но и политические выгоды. Тайная сделка Мирабо с двором подготавливалась всей политикой трибуна в течение первого года революции. Очень осторожно, почти незаметно, Мирабо шаг за шагом поворачивал вправо. Еще оставаясь на авансцене революции, выступая как ее трибун, вызывая восхищение современников громовыми обличениями абсолютизма, он внутренне созревал для измены народу.
Мирабо в то время через посредников искал возможность вступить в соглашение, в сделку с двором. Кто знал об этом? Никто. Лишь замечательный революционный инстинкт Марата, его поразительная прозорливость позволили ему разгадать истинную природу Мирабо в ту пору, когда Национальное собрание еще громкими рукоплесканиями встречало каждое выступление знаменитого оратора. Марат выступал с грозными предостережениями. В июне 1790 года он называл уже Мирабо «ревностным приспешником самодержавной власти, лишь для вида прикрывающимся маской патриотизма». 10 августа 1790 года на страницах своей газеты «Друг народа» Марат писал о Мирабо:
«Ему не хватает только честного сердца, чтобы стать знаменитым патриотом. Какое несчастье, что у него совершенно нет души!.. Я с ужасом наблюдал, с каким неистовством он стремился попасть в Генеральные штаты, и тогда же сказал себе, что, доведенный до необходимости проституироваться, чтобы жить, он продаст свой голос тому, кто предложит большую сумму. Будучи сперва против монарха, он сегодня ему продался!»
Сейчас можно только удивляться поразительной интуиции Марата. Он не располагал достоверными сведениями, он не мог точно знать, что Мирабо продался двору, но он это угадал, и не ошибся. Действительно, за три месяца до того, как писал Марат, в мае 1790 года, Мирабо вступил в тайную сделку с королевским двором, стал тайным агентом монарха, получающим от него содержание.
В лице Мирабо Марат поражал всю господствующую партию конституционалистов, партию крупной буржуазии и либерального дворянства. Те же политические пороки, которые присущи Мирабо, были свойственны в той или иной мере и другим деятелям господствующей партии крупной буржуазии. Марат публикует в «Друге народа» статью «Коррупция большинства членов Национального собрания». Он разоблачает продажность тех людей, которые называют себя отцами нации. Он доказывает, что они служат не народу, а тайным силам, выступающим против него.
В конце 1789 — начале 1790 года Национальное собрание приняло декреты об избирательной системе. Эти декреты были приняты в прямом противоречии с Декларацией прав человека и гражданина, устанавливавшей равенство прав. Согласно декретам Собрания об избирательной системе граждане делились на так называемых «активных» и «пассивных». «Активными» назывались граждане, обладавшие определенным имущественным доходом и в зависимости от него имевшие право избирать и быть избранными. К пассивным гражданам относилось 4/5 нации, то есть все ее трудящееся население, не обладавшее имущественным цензом, не платившее определенных налогов и лишенное поэтому избирательных прав.
Против этой антидемократической избирательной системы, отстранившей от политической жизни большинство народа, восстали все честные демократы: Робеспьер, Дантон, Демулен и многие другие.
Друг народа Марат на страницах своей газеты вел систематическую и последовательную кампанию против антидемократической политики Национального собрания. Естественно, что он со всем жаром высказался и против новой антинародной избирательной системы. Замечательно, что Марат выступает от имени неимущих. Он показывает своекорыстие политики господствующей партии. Он публикует на страницах своей газеты весьма примечательное послание; оно называется так: «Прошение отцам сенаторам, или весьма основательные требования тех, кто ничего не имеет, к тем, кто располагает всем».
Марат говорит от имени тех, кто ничего не имеет. Он показывает, что для людей, не имеющих собственности, безразличны законы, направленные на охрану собственности. «Что означает сама собственность в глазах неимущих?» — спрашивает Марат. И он осуждает политику Национального собрания, которое защищает только интересы имущих и, больше того, возлагает бремя налогов на тех, кто ничего не имеет.
«Вы уничтожили наследственные привилегии, — пишет Марат, — вы внесли больше равенства в гражданское состояние первых классов общества и внесли больше соразмерности в распределение налогов. Но все эти формы полностью выгодны для вас самих, нам они вовсе не нужны. Установив больше соразмерности в распределении налогов на состояние, вы сохранили весь гнет налогового обложения бедняка: хлеб, который он ест, вино, которое он пьет, ткани, которыми он прикрывает свое тело, — все это облагается обременительными налогами. Как же не поняли вы, что было бы справедливо освободить от этих налогов тех, кто ничего не имеет?»
Более того, Марат на страницах своей газеты выступает с грозными предостережениями. В июле 1790 года он публикует на страницах «Друга народа» важный документ: «Прошение 18 миллионов несчастных депутатам Национального собрания». В этом документе он, говоря от имени обездоленных, выступает против антидемократического декрета об избирательном праве, превращающего большинство нации в пассивных граждан.
Он пишет:
«Мы пришли теперь в движение, и движение это не остановится до тех пор, пока путь не будет пройден до конца. Размышление неизбежно должно привести людей к мысли о равенстве естественных первоначальных прав, о котором вы давали нам лишь смутное представление и относительно которого вы стремитесь обмануть нас. Подобным же образом, когда плотина оказывается прорванной, морские волны непрестанно рвутся на берег и не останавливают свой бег, пока вода не достигнет известного уровня. Ведь мысль о равенстве в области прав влечет за собой мысль о равенстве в области пользования жизненными благами, а это составляет единственное основание, от которого может отправляться мысль. И кто знает, долго ли пожелает француз ограничиваться тем кругом идей, за пределы которого ему следовало бы уже давно выйти?»
Эти строки замечательны тем, что они раскрывают глубокое социальное содержание революции. Марат предсказывает, что революция не удержится в тех границах, которыми хотели бы ее оградить нынешние хозяева положения. Он убежден в закономерности и необходимости углубления революционного процесса.
Марат шел впереди своего времени. Он шел впереди революционного процесса, и то, что он говорил сегодня, исполнялось через день или через месяц и тогда становилось полностью понятным массам. Именно эта политическая проницательность, отвага, с которой он обрушивался против людей, тормозивших развитие революции, и снискали ему такую популярность в народных массах.
Но Марату были свойственны и ошибки. Воздавая должное его мужественной и страстной борьбе, признавая его одним из самых выдающихся политических мыслителей и революционных деятелей этих лет, нельзя не видеть и его очевидных слабостей.
Перечитывая комплект «Друга народа», следует задуматься не только над тем, что там есть, но также и над тем, что не встретишь на этих пожелтевших страницах.
Марат, замечательный революционный тактик, так глубоко понявший объективные задачи революции, странным образом обходил в своей публицистике один из главных вопросов революции — аграрный вопрос. Нельзя сказать, что Марат совсем не касался крестьянского вопроса, не придавал ему значения. Он был первым, кто сумел правильно оценить истинное содержание законодательства 4—11 августа 1789 года. Он выдвигал даже некоторые проекты положительного решения аграрного вопроса — перераспределения земельной собственности, применения английских методов ведения сельского хозяйства. Он был одним из первых, кто обличал Национальное собрание в нерешительности, трусости в решении аграрного вопроса. Было бы неверным умалять его заслуги в этом. Однако нельзя не удивляться, что проблема, волновавшая миллионы французов, была все-таки случайной или редкой темой на страницах «Друга народа». Крестьянство составляло подавляющее большинство французской нации. Казалось бы, его интересы должны были быть на первом плане и на страницах газеты, именующей себя — и с должным основанием — «Друг народа». Но прочтите номер за номером газету Марата за 1789, 1790, 1791 годы, и вы увидите, как редко она откликается на вопросы, волнующие крестьянские массы. Марат проявил странное, труднообъяснимое непонимание, недооценку важности этого вопроса.
Слабость позиции Марата была также и в решении такого важного вопроса, как вопрос о политическом строе Франции. Чем должна быть Франция? Монархией? Республикой? Этот вопрос волновал многих. Марат редко касался этой темы и, обличая пороки абсолютизма, а позднее конституционной монархии, не выдвигал идеи уничтожения монархического строя вообще. Он отрицательно относился к республике. И даже когда в 1791 году требование республики стало широким народным требованием, Марат не сумел понять его великую притягательную силу. Ему казалось, что требование республики не имеет реального значения. Были ли в нем сильны монархические иллюзии? Едва ли. Но он недооценивал важность республиканской формы правления, и эта недооценка составляла существенный недостаток его позиции.
Отмечая эти ошибки и недостатки в позиции Марата, нужно все-таки признать, что, конечно, це они определяли политический облик Друга народа. Находясь в самой гуще сечи, ведя непрерывный бой, Марат, естественно, не мог не делать промахов. Они возможны у любого политического деятеля. Но и при этих ошибках, которых нет нужды ни преуменьшать, ни тем более скрывать, Марат велик.
* * *
21 июня 1791 года Париж был разбужен пушечными выстрелами. Звонили в набат. Народ, в тревоге вышедший на улицы, узнал поразившую всех весть: Тюильрийский дворец был пуст. Король, королева, дофин, брат короля граф Прованский бежали из столицы. Где они находились в эти утренние часы, когда пушки и колокол возвещали тревогу? Этого никто не знал. Но не было сомнений в том, что король и его семья покинули Париж, чтобы бежать к врагу, за пределы королевства.
Величайшее негодование охватило народ. Большие толпы собирались на площадях, заполняли улицы. Бюсты, скульптурные изображения короля были разнесены вдребезги возмущенной толпой. Уничтожались портреты Людовика XVI. Король — изменник, король предал свой народ, король стремится объединиться с врагами Франции — вот мысль, овладевшая парижанами в эти первые часы.
Но было ли столь непредвиденным, столь неожиданным это бегство монарха, так взволновавшее сразу всю Францию? Ведь нетрудно было догадаться, что побег короля, зорко охраняемого народом, не мог быть импровизированным, что он должен был долго и тщательно подготавливаться. В эти смутные часы стали вспоминать, что в течение длительного времени были писатели, были органы печати, которые задолго до этих событий предупреждали о готовящемся бегстве короля. И в памяти прежде всего всплывало имя Жана Поля Марата и его газета «Друг народа».
Марат был первым, кто разгадал преступные замыслы королевского двора. Уже с конца 1790 года, а в особенности с весны 1791 года он предостерегал народ: готовится черная измена, король собирается бежать за границу, к врагам революции и Франции.
Действительно, как позднее было полностью доказано, план бегства короля за границу возник еще ранней осенью 1790 года. После второго поражения, понесенного двором в октябре 1789 года, партия короля еще не признала себя побежденной. Она не склонила головы перед победителем народом и не отказалась от мысли о реванше. Но с тех пор как королевская чета стала пленницей парижского народа, у окружения короля сложилось прочное убеждение: будущее начинается за пределами Франции, король обретет свободу действий, только покинув Париж.
Все европейские монархи сочувствовали французскому королю, обещали ему свою поддержку и помощь. В Турине, позднее в Кобленце, эмигранты свили осиные гнезда французских роялистских организаций. Отсюда протягивались щупальца заговоров и контрреволюционных интриг. Французские эмигранты обивали пороги кабинетов высокопоставленных чиновников европейских столиц, призывая правительства монархических государств скорее прийти на помощь французскому королю.
Французская королева Мария Антуанетта — дочь австрийской императрицы Марии Терезии — поддерживала тесные связи с венским кабинетом. Нити заговора уходили из Парижа в Вену, Берлин, Петербург, Лондон, Турин. Идея была проста: король должен под любым предлогом оставить Париж; затем, опираясь на верные ему войска, бежать до границы, а там, смотря по обстоятельствам, открывалось сразу широкое поле для энергичных наступательных действий.
Уже в октябре 1790 года доверенное лицо короля Людовика XVI маркиз генерал Буйе взялся за практическое выполнение задуманного плана бегства. Буйе сосредоточил надежные войска между Парижем и восточной границей Франции. Эти верные монарху части должны были прикрывать кортеж короля в момент его следования к восточной границе.
18 апреля король высказал пожелание переехать из Тюильрийского дворца во дворец Сен-Клу. Он хотел выйти из-под постоянного и зоркого наблюдения народа. Но парижане, революционным инстинктом почувствовав нечто недоброе в этом замысле, воспротивились его переезду. Это задержало, конечно, осуществление намеченного плана и заставило искать иные пути его выполнения.
План бегства короля был воистину заговором европейских монархий: это был антифранцузский заговор. Для осуществления плана побега королевское правительство вступило в секретные переговоры с иностранными правительствами. Посол императрицы Екатерины II во Франции барон Симолин сыграл немалую роль в тайной подготовке бегства заговорщиков. Русский посол снабдил короля и королеву паспортами русской баронессы Корф, которая будто бы с двумя детьми, камердинером и тремя слугами должна была выехать из Франции. Король должен был бежать из Парижа в роли лакея баронессы.
Конечно, все эти неприглядные подробности стали известны позднее.
Но тайные приготовления, свершавшиеся в Тюильрийском дворце на протяжении 1790 и первой половины 1791 года, не ускользнули от зоркого взгляда Марата.
Марат не раз в общей форме указывал на возможность бегства короля за пределы Франции. Но если в 1790 году и в начале 1791 года Марат предостерегал своих соотечественников о возможности опасности, то весной 1791 года его предостережения приобрели вполне конкретное содержание.
В номере газеты «Друг народа» от 30 апреля 1791 года Марат писал:
«Все дороги от Сен-Клу до Компьена заняты кавалерийскими частями. Уже Буйе на границе готовится помогать врагу. Спите, спите на краю пропасти, глупые парижане!»
Это выступление Марата замечательно тем, что он совершенно точно указал маршрут, по которому действительно, как позднее это было подтверждено, намечалось бегство короля.
Через некоторое время Марат вновь привлекает внимание парижан к готовящемуся заговору. Он уже прямо указывает на то, что король готовится к побегу, и пишет: «Бомба готова взорваться. Все готово к гражданской войне, если королевской семье удастся бежать».
Марат это писал 8 мая; через месяц, 4 июня, «Друг народа» уже призывал французский народ к энергичным действиям: «Чтобы предупредить преступный замысел, необходимо двинуться к дворцу и помешать бегству королевской семьи».
Наконец, накануне самого бегства, 20 июня, Марат, предупреждая о готовящемся побеге, указывал практические меры, которые могли бы его предотвратить. «Друг народа» призывал задержать без различия «всех известных сторонников деспотизма», начиная с изменников из Национального собрания, Генерального штаба, муниципалитета; он указывал тем самым на тайных сообщников заговора.
Уже современников поражало это ясновидение Марата, этот казавшийся непостижимым дар пророчества, умение предвосхищать последующий ход событий. Но было ли это ясновидением? Здесь сказывались, с одной стороны, замечательный революционный инстинкт Марата, его проницательность и прозорливость. Однако всего этого было бы недостаточно для того, чтобы с такой точностью предугадать последующее и, например, указать на готовящийся побег монарха. Марат мог с такой определенностью строить предположения потому, что он опирался на доверие народа и пользовался поддержкой народных масс. Он получал сведения, которых не имели другие газеты. Уважение, доверие, признательность, которые он завоевал в среде народа, обеспечили ему постоянный приток разного рода информаций.
«Друг народа» был, вероятно, первой в истории мировой печати газетой, создавшей и привлекшей к себе корреспондентов-добровольцев из народа, пишущих в газету не ради денег или славы, а во имя блага родины и народа. Друг народа получал десятки и сотни писем со всех концов Франции; Марат не раз жаловался на то, что он не в силах прочитать громадное количество писем, которые к нему поступают. Он постоянно публикует на страницах своей газеты письма простых людей, идущие к нему отовсюду — из Парижа и из самых глухих, медвежьих уголков королевства.
Отвечая своим корреспондентам на страницах «Друга народа», Марат писал: «Дорогие товарищи, меня считают пророком, но я такой же пророк, как и вы. Я знаю только людей, которых вы, по-видимому, не желаете разглядеть. Я знаю различные комбинации всех элементов политической машины, чью игру, как кажется, вы не собираетесь основательно разглядеть».
Марат знал людей — людей из народа, и они знали его. Не он их искал — они сами его находили. Сведения о предполагаемом побеге короля он получил от добровольных корреспондентов газеты. В литературе высказывались обоснованные предположения; что в числе его корреспондентов были люди, связанные с низшими служащими в королевском дворце. Марат благодаря всему этому оказывался наиболее осведомленным журналистом в стране. Он говорил про себя: «Я часовой свободы», «я око народа». И это была не фраза, не хвастовство, эти определения были справедливы. Марат мог с такой проницательностью предсказывать предстоящие события лишь потому, что он опирался на поддержку и доверие народа и прислушивался к его голосу. Подобно тому как в дни 5–6 октября он сыграл немалую роль в пробуждении народного движения, так и накануне кризиса, вызванного бегством короля, роль Марата была весьма значительной.
Предостерегающий голос Марата был услышан, но он не смог предотвратить вероломных действий двора. Когда же преступление совершилось, когда монарх бежал, не время было вспоминать о прошедшем.
В статье, написанной в день бегства короля и опубликованной на другой день, 22 июня, Марат говорил:
«Граждане, друзья отечества! Вы на пороге гибели. Я не буду тратить время на бесполезные упреки по поводу бедствия, которое вы навлекли на свою голову слепой доверчивостью, гибельной беспечностью. Будем думать только о вашем спасении».
Марат не хочет напоминать сейчас о том, что его предостерегающий голос был не всеми услышан, что многие смеялись над его предсказаниями и считали его чуть ли не каркающим вороном, всегда видящим повсюду опасность. Жизнь подтвердила его правоту. Марат говорит лишь о мерах, которые должны быть приняты.
Что же нужно делать?
«Вот момент, — пишет Марат, — когда должны пасть головы министров и их подчиненных — Мотье (Лафайета. — А. М.), всех злодеев из Генерального штаба и всех командиров антипатриотических батальонов, Байи, всех контрреволюционных муниципальных советников, всех изменников из Национального собрания. Прежде всего возьмите их под стражу, пока еще не поздно…»
Марат дает ряд иных практических советов. Он понимает, что события, начавшиеся бегством короля, касаются не только Парижа, но и всей Франции. И он предлагает: «Разошлите немедленно курьеров, призовите на помощь бретонцев, чтобы просить подкреплений у департаментов, захватите арсенал, разоружите конных альгвазилов, стражу у ворот, егерей у застав. Приготовьтесь мстить за свои попранные права, защищать свою свободу и искоренять ваших непримиримых врагов».
Эта программа действий, выдвинутая Маратом в первые часы после бегства короля, заслуживает внимания. Марат ищет решения не в каких-либо легальных конституционных мерах. Он апеллирует не к высшему государственному органу, не к Национальному собранию и не к исполнительной власти: они не заслуживают доверия. Он обращается к своим соотечественникам '— рядовым французам. Все надежды на спасение Франции Марат связывает с инициативой народа. Только вмешательство народа может спасти страну, и первым, условием этого спасения является ликвидация всех тех учреждений, которые крупная буржуазия использовала в своих интересах и во вред революции.
Марат определяет свое отношение к королю.
«Это король клятвопреступник, не знающий чести, стыда, угрызений совести; это монарх, недостойный трона, которого не удержал даже страх прослыть бесчестным; Жажда самодержавной власти, пожирающая его душу, сделает его вскоре жестоким убийцей. Вскоре он будет плавать в крови своих сограждан, которые откажутся подчиниться его тираническому игу».
Никогда еще Марат не говорил о Людовике XVI таким непримиримым языком.
Какие выводы должна извлечь из происшедшего нация? В статье, опубликованной на следующий день, Марат уточняет свои предложения. Он говорит: «Возмущенная нация лишила своего доверия Людовика XVI и объявила его недостойным царствовать…»
Марат, таким образом, громко, на весь мир требует, чтобы Людовик XVI был лишен престола, чтобы он был низвергнут.
Но здесь мы неожиданно подходим к странной противоречивости в позиции Марата в эти дни. Казалось бы, Марат определил отношение к королю до конца. Людовик XVI — изменник; он должен быть низложен; это ясная и четкая революционная постановка вопроса.
Но, внимательно читая статьи Марата периода Вареннского кризиса, нетрудно заметить, что, требуя низложения Людовика XVI, «Друг народа» не требует уничтожения монархии вообще. Марат нигде не говорит об уничтожении монархии как формы политической власти во Франции Он клеймит позором поведение Людовика XVI, он убежденно доказывает, что ныне, когда злонамерения и преступления короля стали для всех очевидны, он не должен больше ни часа сохранять за собою трон. Но, осуждая и кляня изменившего народу короля, Марат все еще не находит ни одного осуждающего слова принципу монархизма, монархии вообще. И это не случайно. В качестве ближайшей практической задачи Марат указывает на необходимость временно избрать регента.
Эта ссылка на регента показывает, что Марат даже после бегства короля все еще не отрицал монархической формы власти для Франции. И действительно, во всех последующих выступлениях Друг народа по-прежнему считает возможным сохранение ограниченной, контролируемой народом монархии.
Эта позиция Марата, несомненно, ошибочна.
В эти дни Марат высказывает еще одну важную мысль. Уже в первой статье, написанной непосредственно под влиянием событий 21 июня, Марат требует избрания военного трибунала, верховного диктатора, который мог бы расправиться с главными изменниками, врагами революции.
Мысль о диктаторе появлялась у Марата и раньше — она была связана с воспоминаниями об античной истории. Имеет ли Марат здесь в виду личную диктатуру? Нет, конечно. И в ранних и в более поздних статьях Марата можно не раз видеть резко отрицательные оценки диктатуры Оливера Кромвеля в Англии или диктаторов древнего Рима. Марат не раз говорит, что протекторат и диктатура Кромвеля в Англии имели гибельные для народа последствия.
Таким образом, Марат всегда был и остался противником личной диктатуры. То, что он предлагает, это нечто иное. Это создаваемая в период кризиса выборная и опирающаяся на поддержку народа кратковременная диктатура одного или нескольких лиц — трибуна, или военного трибуна, как его называет Марат, пользующегося полным доверием народа.
Несколько позже Марат придет к мысли, что должна быть диктатура не одного лица, а нескольких лиц. И в этих отрывочных, как бы незавершенных мыслях о диктатуре трибуна или трибунов следует видеть зародыш идеи революционно-демократической диктатуры, сложившейся в якобинский период развития революции, двумя годами позже.
Авторитет и престиж Марата в дни кризиса, связанного с бегством короля, возросли.
Однако последующий ход событий, благодаря имевшимся в позиции Марата противоречиям, несколько усложнял его положение в рядах революционной демократии.
* * *
В те часы, когда Париж в величайшем возбуждении на площадях и улицах шумно выражал свое негодование и презрение к коронованным заговорщикам, предавшим родной народ, Франция еще пребывала в неведении о происшедшем.
Конечно, последние месяцы нигде не было спокойно. Тревожные слухи о тайных кознях эмигрантов, о грозных приготовлениях иностранных держав волновали умы жителей провинции. Новости из Парижа сюда приходили всегда с опозданием, но зато с наслоениями разных домыслов и всяких страшных подробностей.
Но, может быть, потому, что и в провинции за три года революции привыкли ко всяким неожиданностям и провинциалов стало так же трудно чем-либо удивить, как и парижан, обитатели городов и проселочных деревень оставили без внимания огромный многоместный экипаж, мчавшийся 21 июня 1791 года во весь опор по большому тракту из Парижа в Клермон.
А между тем этот экипаж, запряженный шестеркой лошадей, сопровождаемый тремя конными курьерами в ярко-желтых куртках, не мог не показаться странным. Это была громадная берлина, невиданно больших размеров, громоздкая, нарядная; сразу было видно, что изготовлялась она по специальному заказу.
И все-таки, несмотря на свой необычный вид, эта странная берлина с ее небольшим кортежем, не сбавляя скорости, пронеслась из Парижа в Бонди, из Бонди в Клермон и поздно вечером, миновав Сен-Менегу, беспрепятственно проследовала оттуда по боковой дороге по направлению в Монмеди.
Уже казалось, что беглецы — а в карете следовали, как это уже понятно, Людовик XVI и его семья — благополучно миновали все опасности и почти достигли цели: граница была совсем близка, как поздней ночью в маленьком городке Варение властные голоса приказали экипажу остановиться.
И мемуаристы и историки из дворянско-монархического лагеря позднее много спорили о том, какая из случайностей оказалась роковой. Иные видели главную беду в том, что граф Ферзен, молодой швед, полоненный Марией Антуанеттой и взявший на себя подготовку отъезда (это он и заказал эту огромную, бросающуюся в глаза берлину), после того, как он, за кучера, довез королевскую чету до Бонди, оставил их и на глазах зевак, забыв о своем извозчичьем обличии, пересел в собственную барскую карету и поехал в Париж.
Другие полагали, что тщательно подготовленный план бегства не удался потому, что вопреки инструкциям генерала Буйе отряд драгун в Клермоне, который должен был охранять карету, не дождавшись ее, покинул город.
Третьи видели причину неудачи в роковом стечении всякого рода случайностей.
Но все эти догадки упорно обходили главное: бегство короля не удалось потому, что этому воспрепятствовал народ.
Карета беглецов, выехавшая из Парижа в полночь 21 июня, по крайней мере на полсуток опережала гонцов, посланных с экстренным извещением из столицы в провинцию.
В селении Сен-Менегу, где карета недолго задержалась, местный почтмейстер Друэ был поражен портретным сходством лакея баронессы Корф с королем Франции. После недолгого раздумья Друэ верхом на лошади бросился в погоню за уже скрывшейся подозрительной берлиной. Убедившись, что карета следует в Варенн, Друэ, хорошо зная местность, поехал наперерез, через лес кратчайшим путем, и достиг Варенна значительно раньше беглецов. Здесь он поднял на ноги население уже спавшего глубоким сном маленького городка, и, когда карета прибыла; в мнимых слугах русской баронессы без труда были опознаны король и королева Франции.
Было ли это случайностью? Фатальным стечением непредвиденных обстоятельств? Нет, конечно. Для того чтобы простой почтмейстер в маленьком, никому не ведомом селении Сен-Менегу, ничего не подозревавший о происшедшем в Париже, заподозрил в одном из проезжих переодетого короля, для того чтобы он, подвергаясь опасности, помчался в погоню за подозрительным экипажем и затем, набравшись храбрости, остановил и арестовал самого монарха — для этого надо было, чтобы революция за три года перевоспитала и переродила весь народ, привив ему высокие чувства гражданского долга и патриотизма.
Замечательный штрих, показывающий, как высока стала сознательность народа: когда Учредительное собрание постановило выдать Друэ в знак благодарности за поимку короля тридцать тысяч ливров, простой почтовый служащий из Сен-Менегу с гордостью отказался от этого подарка. Он выполнил лишь долг французского гражданина, — так отвечал Друэ.
Как бы там ни было, но благодаря инициативе почтмейстера из Сен-Менегу и революционной энергии жителей маленького Варенна королевская чета была задержана и пленена французским народом. Попытка генерала Буйе, потерявшего долгие часы в тщетном ожидании берлины, двинуть войска, чтобы силой освободить короля и его семью, оказалась безуспешной. Весть о бегстве короля распространилась уже по всей стране, и сразу же повсеместно крестьяне, мастеровые и подмастерья, торговцы, городская беднота — словом, весь французский народ, вооружаясь чем попало: ружьями, пистолетами, саблями, топорами, вилами, поднялся, как один человек, на защиту революционного отечества от еще неизвестной, но грозной опасности.
И вот из Варенна в Париж в сдержанном грозном молчании медленно двинулась длинная, казавшаяся бесконечной процессия: карета с плененной королевской четой, окруженная многими тысячами крестьян и горожан из окрестных селений, пришедших сторожить короля либо просто посмотреть на столь редких в этих краях путников.
25 июня процессия достигла Парижа. Все улицы столицы были запружены толпами людей. Народ молчал. Люди жадно вглядывались в медленно следующую огромную берлину, и ни слова приветствия, ни хула не срывались с их уст.
Но вставали вопросы: как должно поступить с королем, изменившим своему народу и бежавшим к врагу? Как отнестись к монархии вообще?
Уже с начала Вареннского кризиса отчетливо обозначились две противоположные тенденции, два противоположных направления.
Буржуазная аристократия, господствовавшая в Национальном собрании, сразу же поняла глубокий политический смысл происходившего кризиса. Уничтожить власть короля — значило углубить революцию, двинуть ее дальше. Это понимали все наиболее проницательные представители крупной буржуазии, удерживавшей господствующее положение.
После смерти Мирабо в апреле 1791 года роль лидеров партии конституционалистов, партии крупной буржуазии, перешла к так называемому триумвирату. Адриан Дюпор, Антуан Барнав и Александр Ламет, эти три депутата Учредительного собрания, стали фактическими руководителями партии крупкой буржуазии.
Еще до Вареннского кризиса в мае 1791 года Адриан Дюпор говорил: «Революция совершена, чудовищно было бы предполагать, что она не закончена». Дюпор в этих словах сжато выразил мысль Мирабо, развивавшуюся им на протяжении последних двух лет его жизни. Мирабо был первым, кто призвал к тому, чтобы остановить революцию в ее развитии, и делал все от него зависевшее, чтобы претворить эту мысль в жизнь. Но революция продолжала развиваться, и в 1791 году Дюпору пришлось повторить другими словами ту же мысль.
Но эта идея развивалась не только Дюпором. Ее повторяла вслед за ним вся крупная буржуазия, напуганная возрастающим напором народных масс. И когда разразился Вареннский кризис, то для господствующей буржуазии стало ясным, что вопрос о судьбе короля теснейшим образом связан с вопросом о развитии революции.
Антуан Барнав — один из самых сильных умов партии конституционалистов — в нашумевшей речи 25 июля 1791 года заявил:
«Сейчас продолжение революции приведет к крушению ее. Дело заключается именно в этом, именно в этом наш национальный интерес: желаем ли мы закончить революцию или хотим возобновить ее?» — спрашивал Барнав и тут же сам отвечал: «Если революция сделает еще шаг дальше, она не сможет совершить его безопасно… потому что первое, что могло бы быть сделано в направлении свободы, это уничтожение королевской власти; еще один шаг по пути к равенству привел бы к уничтожению собственности».
В этих словах Барнав очень ясно вскрыл взаимозависимость явлений, их внутреннюю связь.
«Революцию необходимо остановить» — вот к чему стремилась крупная буржуазия.
Марат, напротив, выступал и ранее и в'дни Вареннского кризиса с требованием продолжения и углубления революции. Углубление, развитие революции являлось главным его требованием, именно оно отвечало интересам широких народных масс. В этом смысле позиции Барнава и Марата были прямо противоположными.
Но дальше в позиции Марата выявились уязвимые пункты.
Барнав, и это было вполне логично с его стороны, стремясь задержать поступательное развитие революции, стремился сохранить монархию, существующий политический строй и данного короля Людовика XVI.
Именно в связи с этим Барнав, как и раньше Лафайет, выдвинул версию о похищении короля. Все знали, что это ложь, и тем не менее Национальное собрание приняло официальное постановление, снимавшее всякую ответственность и вину с короля. Народу было объявлено, что король был похищен, что его увезли насильственно, вопреки его воле и намерениям, и что, следовательно, — он не несет никакой ответственности за происшедшее. Эта преднамеренная ложь была сфабрикована конституционалистами для того, чтобы создать правовую основу для сохранения короля на троне.
В противовес этой лживой версии вся революционная демократия — демократические клубы, демократическая печать — гласно утверждала правду: король не был похищен — король бежал; над королем не было совершено насилие, король сам готовил насилие над французским народом; король сам подготовил план побега, он был соучастником заговора, его главным вдохновителем и главным действующим лицом.
Если обратиться к революционной печати, к демократическим газетам Франции в дни июльского кризиса, то легко убедиться в том, что все они единодушны в этом утверждении. Все революционные демократы без исключения были едины в мнении о том, что король был главой заговора, что его попытка к бегству представляла собой преступное антинациональное действие против Франции.
Но какой из этого следовал вывод?
Марат и его «Друг народа» в полном единодушии со всеми другими представителями революционной демократии опровергали лживую версию Национального собрания и считали бесспорным участие Людовика XVI в заговоре против французского народа. Он также полностью и даже, может быть, в более Сильных выражениях, чем его собратья по перу, раскрывал преступления Людовика Капета. Как большинство революционных демократов, он делал из этого утверждения ясный политический вывод. Он требовал низложения Людовика XVI.
Но дальше начиналась область разногласий.
Представители революционной демократии требовали уничтожения монархии и установления во Франции республики. За прошедшие три года революции идея республики приобрела много сторонников. Вначале — в 1789 году — ее поддерживали лишь одиночки. Постепенно число ее приверженцев увеличивалось. В дни Вареннского кризиса, когда королевский двор был окончательно разоблачен и скомпрометирован в глазах всей нации, требование республики стало массовым требованием. Установления республики теперь желали не единицы, не тысячи, а миллионы. Ведущие демократические организации Парижа, клуб Кордельеров, Социальный клуб, в большей части клуб Якобинцев, виднее политические лидеры — Дантон, Камилл Демулен и множество других — единодушно требовали республики.
Марат не присоединился к этому требованию. Он продолжал уклоняться от ответа на вопрос, волновавший народ, и, больше того, в некоторых статьях даже прямо высказался против республики.
Марат утверждал, что республика может стать аристократической. Следует отметить, что эту же ошибку в свое время совершил и другой выдающийся деятель Великой французской революции, Максимилиан Робеспьер. Как и Марат, Максимилиан Робеспьер также до поры до времени высказывался против республики, опасаясь, что республика станет орудием в руках буржуазной аристократии. Но- это была ошибка — ошибка Робеспьера и Марата, которые не сумели свои верные политические обоснования завершить правильными политическими выводами.
Эта ошибочная тактика привела к некоторому ослаблению позиции Марата в революционно-демократическом движении. Многие честные демократы, всегда верившие Марату, не могли понять позиции Друга народа.
Между тем борьба против монархии не ограничивалась только словесной или чернильной войной.
Она была перенесена на улицы. Революционно-демократические организации — клуб Кордельеров, Социальный клуб, множество парижских секций — организовали широкие народные демонстрации в защиту республики.
17 июля 1791 года на Марсовом поле должна была состояться большая мирная демонстрация демократических организаций, явившихся с петицией о низложении монархии во Франции и установлении республики. Но с санкции Национального собрания и по приказу Лафайета, командующего национальной гвардией, эта безоружная демонстрация была расстреляна правительственными войсками.
Кровавые события 17 июля — расстрел демонстрации на Марсовом поле — явились переломной вехой в развитии французской революции. Эти события показали, что некогда единое третье Сословие окончательно раскололось, что одна часть третьего сословия с оружием в руках выступила против другой его части. События 17 июля показали контрреволюционность крупной буржуазии, не остановившейся перед тем, чтобы стрелять в своих вчерашних союзников: Лафайет и Байи отдали приказ — стрелять в героев Бастилии, участников великого народного восстания 14 июля.
Марат, как и другие революционные демократы, выступил с гневным осуждением преступления 17 июля. Буржуазия еще раз своей антинародной политикой подтвердила правоту Марата. Сколько раз Друг народа обличал Лафайета, сколько раз он предостерегал, что «игрушечный герой» станет главнокомандующим контрреволюции и обагрит свои руки кровью народа. Жизнь подтвердила справедливость этих утверждений.
И все-таки Марат даже после событий 17 июля во взволнованной гневной статье «Страшная резня мирных граждан, женщин и детей…» и в других статьях «Друга народа» все еще не ставит вопроса об уничтожении монархии вообще.
Вареннский кризис закончился поражением сил демократии. Крупная буржуазия сумела сохранить Людовика XVI на престоле, подавила революционно-республиканское движение в стране и перешла к жестоким репрессиям. Истинные вожди революции подверглись гонениям. Дантон должен был бежать в Англию. Множество революционных демократических газет было закрыто. Деятельность революционных клубов была взята под контроль. Полицейские, шпионы, соглядатаи преследовали революционных демократов, и многим из них пришлось уйти в подполье.
Конечно, одним из первых должен был скрыться с поверхности, уйти в подполье Марат. Его газета давно уже была вычеркнута из списка терпимых; теперь на нее обрушились с яростью. Владельцы типографий боятся ее печатать, книжные лавки и газетчики не рискуют ее продавать. Сам Марат скрывается, но уже чувствует на своих плечах дыхание настигающей погони.
«Друг народа» в это время выходит лишь случайно, с большими перерывами. Так, с 1 по 15 августа удалось выпустить всего лишь пять номеров. В сущности, Марат лишен возможности издавать свою газету. Некоторое время он еще пробует продолжать борьбу: преодолевая неисчислимые препятствия и подстерегающие на каждом шагу опасности, он выпускает номера «Друга народа», и газета сохраняет все то же воинствующее, боевое содержание.
Но порою его охватывает отчаяние. 11 сентября 1791 года он пишет на страницах «Друга народа»: «Народ умер после резни на Марсовом поле. Напрасно я пытался его пробудить». Эти горестные настроения усиливаются еще оттого, что реакционной крупной буржуазии на первый взгляд удается осуществить все свои планы. 13 сентября Людовик XVI, которому полностью были возвращены все прерогативы монарха, подписал выработанную Учредительным собранием конституцию. Это была антидемократическая конституция, призванная увековечить политическое господство крупной буржуазии и бесправие народа. Отныне конституция вошла в силу, и 1 октября собралось созванное на основе антидемократической избирательной системы Законодательное собрание.
Народ даже не пытался воспрепятствовать вступлению в силу конституции 1791 года.
Марат, потеряв надежду на пробуждение народной энергии, истощив все силы в неравной борьбе с могущественным противником, на какое-то короткое время поддался чувству горести и отчаяния.
У него не хватало сил продолжать борьбу, и в середине сентября он покидает Париж.
Что означало это поспешное бегство? Признание своего поражения? Отказ от борьбы? Короткую передышку?
Марат и сам этого хорошо не знал. Одну из своих статей он озаглавил: «Друг народа берет отпуск у отечества»; другую он назвал: «Последнее прощание Друга парода с отечеством»; по-видимому, в нем боролись различные чувства, и он не мог окончательно определить, как он должен поступить.
Его поспешный отъезд из Парижа был вполне объясним. Продолжать далее ту жизнь, которую он вел в подполье, не было больше ни сил, ни возможности. В «Последнем прощании Друга народа с отечеством» Марат писал так:
«Все время ведя войну против изменников отечества, возмущенный их гнусностями и жестокостями, я срывал с них маски, выставлял их напоказ, покрывал их позором; я презирал их клевету, их ложь, их оскорбления; я не боялся их злопамятства, их гнева… Моя голова была оценена; пять жестоких шпионов, шедших по моим следам, и две тысячи оплаченных убийц не могли ни на минуту заставить меня изменить долгу. Чтобы избежать ударов убийц, я осудил себя на жизнь в подполье. Время от времени меня поднимали батальоны альгвазилов; вынужденный бежать, странствуя по улицам посреди ночи, не зная иногда, где найти убежище, проповедуя посреди мечей дело свободы, защищая угнетенных, готовый сложить голову на плахе, я становился от этого еще более страшным для угнетателей и политических мошенников».
Марат был прав, когда он напоминал о том, что его неоднократно пытались подкупить, что его обольщали разного рода предложениями: «Мне бы покровительствовали, меня бы чтили, ласкали, если бы только я согласился хранить молчание. И сколько бы расточали мне золота, если бы я захотел опозорить свое перо. Я отвергал соблазнительный металл, я жил в бедности, я сохранял чистоту сердца».
Нельзя усомниться в искренности этих слов. Они подтверждаются всей жизнью Марата. Он отверг все обольщения и продолжал вести ту же трудную жизнь гонимого, преследуемого, травимого политического борца.
В середине сентября Марат оказался в Клермоне; затем, как это явствует из его корреспонденции, он был в Бретейле, через некоторое время в деревушке под Амьеном.
Эта частая, почти непрерывная перемена мест вызывалась не только или, вернее, не столько смятением чувств. Для этого были и более веские причины. Марат бежал из Парижа, но он не сумел оторваться от своих преследователей. И в провинции ему приходилось скрываться в подполье; он менял города, деревни, но погоня шла по его следам. Однажды ему пришлось укрыться от своих преследователей в поле. Но именно тогда, как он сам в том признался, когда, усталый, измученный, преследуемый по пятам врагами, он сидел в раздумье, «как Марий на развалинах Карфагена», он почувствовал, как в «глубине его сердца» засветился «луч надежды». Эти новые бодрые настроения родились под влиянием окружающей среды: в деревне Марат увидел боевой дух, революционную энергию крестьянства; он услышал здесь также о восстаниях в армии; когда он был на грани отчаяния, он убедился в том, что ом не так одинок, как казалось, что парод не мертв, что он даже не спит, что он лишь набирает силы для предстоящих жестоких боев.
27 сентября Марат вернулся в Париж. Борьба возобновилась.
И вот, к удивлению, к страху, к неистовой ярости господ из правящей партии конституционалистов, после совсем короткой паузы снова, неизвестно откуда, как гром среди ясного неба загремели громовые статьи Друга народа.
Нет, Жан Поль Марат не склонил головы и не сложил оружия!
Невидимый, недостижимый для шпионов и полицейских, как прежде неустрашимый, он вновь поражает своим мечом враждебных народу прислужников буржуазной аристократии в Законодательном собрании. Новое собрание, раскрывает глаза народу Марат, не лучше прежнего. Оно избрано на основе цензовой, антидемократической избирательной системы; оно представляет не народ, а его врагов — узкую клику богачей, стремящихся присвоить себе плоды народной борьбы.
Марат снова зовет народ в бой. Революция не закончена; она только еще начинается. До тех пор, пока справедливые требования народа не будут удовлетворены, до тех пор, пока власть будет сохраняться в руках кучки злых и богатых людей, революция должна продолжаться.
К голосу Марата, «голосу из подземелья», как писали журналисты тех дней, теперь прислушивались с возрастающим вниманием. Этот преследуемый властями, травимый собратьями по перу журналист, обрекший себя добровольно на' подвижническую жизнь мученика, завоевывал все большее доверие масс.
«Друг народа» выходил все реже и реже, но зато сколько новых читателей он завоевал, какую моральную силу он приобрел в глазах народа!
И все же в декабре 1791 года, когда кольцо преследователей сжималось вокруг Марата все сильнее, когда возникла прямая и трудноотразимая угроза ареста, Марат счел разумным на время покинуть поле борьбы. С 15 декабря 1791 года по 12 апреля 1792 года не вышло ни одного номера «Друга народа». Марат уехал в Англию, чтобы перевести дыхание; скрываться далее во Франции становилось уже невозможным.
Весной, в мае 1792 года, Жан Поль Марат вновь вернулся в Париж.
Самая революционная, самая демократическая организация столицы — клуб Кордельеров — приняла специальное постановление: просить Марата возобновить издание своей газеты. «Сегодня больше чем когда-либо чувствуется необходимость энергичного выступления, чтобы разоблачить бесконечные заговоры врагов свободы и будить народ, заснувший на краю пропасти… Мы надеемся, что «Друг народа» не покинет родину в то время, когда она больше всего нуждается в просвещении», — говорилось в постановлении кордельеров. И, отвечая на это требование демократических организаций, Марат возобновляет издание «Друга народа».
Авторитет и популярность Марата к этому времени чрезвычайно возросли. Он уже становится самым авторитетным, самым популярным журналистом. Простые люди называют его так, как обозначена газета: «Друг народа». И действительно, он является другом французского народа и в широком смысле, сражаясь за его демократические права, за всемерное развитие революции; и он является другом народа в узком смысле слова — защитником бедноты, защитником неимущих, защитником людей труда.
Уже давно прошло то время, когда Марату приходилось добиваться, чтобы его голос был услышан. Он уже не был тем безвестным журналистом, над которым посмеивались знаменитые литераторы эпохи. Его имя гремело теперь по всей стране. Его боялись, его считали самым опасным противником.
Время подтвердило правоту большинства обвинений Марата. Враги Марата создали легенду о том, что Марат был человеконенавистником, что он любил говорить только дурное о людях, что ему было чуждо чувство добра, что он не имел друзей. Нет клеветы подлее, чем эта. Достаточно перелистать страницы «Друга народа», чтобы убедиться, как наряду со словами хулы, обвинений, направленных против врагов народа, Марат с глубоким сочувствием и одобрением отзывается о ряде выдающихся деятелей революции. Марат различал людей, сражавшихся за революцию, исходя из того, как они служат интересам народа.
Марат был одним из первых, кто сумел оценить высокие достоинства и важную политическую роль Робеспьера. Он всегда отзывался о нем с чувством глубокого уважения, с сочувствием, симпатией. Уже в ноябре 1791 года Марат писал: «Робеспьер — вот человек, который более всего нужен нам», и тогда же: «Его имя всегда будет дорого для честных граждан»; он считал его единственным настоящим патриотом в Учредительном собрании. Они не стали лично близки: сдержанный, строгий Робеспьер редко с кем шел на тесную дружбу; им случалось расходиться в мнениях, но при всем том Марат поддерживал борьбу, которую вел Робеспьер в Национальном собрании, поддерживал его политическую линию.
До определенного времени Марат отзывался с уважением и симпатией о Жорже Дантоне; выдающийся трибун кордельеров внушал ему тогда полное доверие. Он вел также дружбу, вполне совмещавшуюся с критическим, иногда насмешливым, иногда сердитым словом, с талантливым и легкомысленным, «генеральным прокурором фонаря» — Камиллом Демуленом. До конца 1792 года он оказывал постоянную поддержку Петиону и ряду других передовых деятелей революции.
Марату случалось и ошибаться. Как всякому человеку, ему были свойственны и промахи и просчеты. Так, проницательность обманула его в оценке Луи Мари Станислава Фрерона. Луи Фрерон, издававший в первые годы революции журнал «Оратор народа», пользовался особым расположением Марата. Друг народа называл его своим учеником и публично, со страниц своей газеты, призывал относиться с доверием к Фрерону. Марат ошибся. Позже, когда Марата уже не было в живых, Фрерон стал перерожденцем, одним из главных деятелей термидорианского контрреволюционного заговора, главарем банд «золотой молодежи», громившей последние демократические учреждения якобинской диктатуры. Он стал злобным, воинствующим врагом народа.
Марат не сумел разглядеть будущего лица своего ученика. Но, как правило, его политическая прозорливость была почти безошибочной.
Утверждение о том, что Марат любил лишь чернить людей, а не хвалить, опровергается всеми известными фактами его биографии. Марат добровольно взял на себя самую трудную задачу — сражаться с сильными мира сего.
Что приносила ему эта борьба? Она создавала ему лишь неисчислимые затруднения, влекла за собой травлю, преследования, репрессии; она обрекала его на страшную, непосильную борьбу из подполья.
Но время шло, и оно убеждало, доказывало, кто прав и кто виноват. Когда Марат начинал свою борьбу, его политические противники были на вершине могущества. Неккер, Мирабо, Лафайет — это были самые громкие во Франции да и во всей Европе имена. Казалось, их популярность и сила их влияния не имеют предела. Но прошло три года, и доктор Марат, чудаковатый журналист, над которым посмеивались на всех званых обедах политические главари новой Франции, оказался единственно. правым в этом споре. Жизнь подтвердила все его обвинения.
Он обвинял Неккера, и жизнь подтвердила, что Неккер был действительно замешан в тех злоупотреблениях, на которые указывал «Друг народа», жизнь подтвердила, что он стал противником революции и переметнулся в стан ее врагов.
Марат обвинял Мирабо в ту пору, когда тот был на вершине славы. Не было в то время имени во Франции, которое могло бы соперничать с ним в популярности в стране. Марат обвинял знаменитого трибуна в продажности и измене. Уже после смерти Мирабо поползли всякого рода слухи, подтверждавшие обвинения Марата. Когда же после свержения монархии в 1792 году народ овладел Тюильрийским дворцом, то в железном потайном шкафу короля были найдены секретные письма Мирабо к королю; тогда ужасавшие современников страшные догадки получили неопровержимые подтверждения.
Марат обвинял Лафайета, могущественного командира национальной гвардии, популярного в народе «героя обоих полушарий». Он предсказывал, что Лафайет перейдет в стан контрреволюции и выступит против народа. Многие возмущались Маратом, другие смеялись над ним. Даже его друзья и те считали, что Марат преувеличивает, что он заходит в своих обвинениях слишком далеко. Камилл Демулен летом 1790 года сетовал: «Марат, этот излишне правдивый, к нашему несчастью, писатель, выступает все время в роли Кассандры…» Он дружески предостерегал: «Господин Марат, мой дорогой Марат, вы наносите себе вред, и вам придется вторично скрыться за море». Марат отвечал спокойно-иронически: «Несмотря на весь ваш ум, дорогой Камилл, вы в политике все еще новичок. Быть может, милая веселость, составляющая основную сущность вашего характера и брызжущая из-под вашего пера даже в самых серьезных случаях, не допускает серьезного размышления и основательности обсуждения…»
События 17 июля подтвердили всю обоснованность предположений Марата. Роль Лафайета в последующих драматических перипетиях революции даст новые подтверждения правильности политической характеристики, данной генералу Другом народа.
Так сбывались на глазах пораженных соотечественников все предсказания доктора Марата. Люди начинали верить в поразительную силу прозрения этого загадочного человека, который постигает истину, недоступную другим.
Уже минуло почти три года, как большинство парижан не видело, нигде не встречало самого знаменитого публициста революционной Франции. Где он, этот таинственный Жан Поль Марат? Как может длиться это непостижимое чудо: правительство, власти, полиция ищут человека, обвиненного во всех смертных грехах, а он ускользает от своих преследователей, он остается вне досягаемости ударов, и откуда-то из расщелин, из пор земли мечет молнии в своих могущественных преследователей.
Чуда не было. Марат не скрывался в катакомбах Парижа, не прятался в подземелье. Он был защищен от своих врагов могущественной поддержкой народа. Всякий раз, когда власти готовили против него удар, он уходил к народу, сливался с ним, и безбрежное народное море прикрывало и защищало его.
Для любого из читателей «Друга народа» оказать гостеприимство знаменитому редактору газеты, приютить у себя, укрыть от полицейских ищеек было великой честью. Простые люди знали и любили Марата — он был для них подлинным другом, и они охотно, хотя бы малой помощью, соучаствовали в борьбе, которую он возглавлял.
Теперь все во Франции — и друзья и враги — старались прочесть запретные номера «Друга народа». К чему призывает Марат? Что он предвещает отечеству? Это хотели узнать в плебейских кварталах Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий, и в особняках богачей в квартале Сент-Оноре, и в кулуарах Законодательного собрания.
Шевремон насчитал свыше трехсот разных изданий фальшивого «Друга народа», подделок под Марата. Это не прямое, а косвенное свидетельство популярности его газеты. Но оно ценнее многих иных: идти на расходы по изданию, на риск наказуемой литературной подделки можно было лишь в расчете на большой денежный выигрыш; тем самым косвенно подтверждался громадный спрос на запрещенную крамольную газету доктора Жана Поля Марата.
* * *
Марат вернулся во Францию, когда за короткое время многое уже изменилось. Он нашел Париж возбужденным, встревоженным. Столицу трясла лихорадка. В клубах, на собраниях секций, на улицах — везде были слышны разговоры о близкой войне. Война между революционной Францией и феодальной Европой действительно, казалось, была неотвратима.
С начала французской революции правительства европейских монархий отнеслись к ней с нескрываемой враждебностью. Они увидели в ней не только дерзкое покушение на священные права «помазанника божьего», но и крайне опасный пример, способный воодушевить на подобные же или сходные действия их собственных подданных.
И верно, почти повсеместно в Европе общественно-прогрессивные силы, передовые люди своего времени восторженно приветствовали французскую революцию и рукоплескали ее победам. Фридрих Шиллер, Виланд, Клопшток, Эммануил Кант, Фихте — цвет Германии — славили революцию в стихах и прозе. Лидер партии вигов Фокс назвал падение Бастилии «величайшим событием в мире». Кольридж, Вордсворт, Шеридан — все литературные знаменитости Англии с горячим сочувствием следили за великими событиями, совершавшимися по ту сторону Ла-Манша. В самодержавно-крепостнической России Екатерины II в обеих столицах, в дворянских усадьбах и в среде разночинной интеллигенции с огромным вниманием, а многие и с сочувствием прислушивались к необычайным известиям, приходившим из Парижа. Александр Радищев, опубликовавший в 1790 году свое знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», «царям грозился плахою», как сказала хорошо понявшая смысл книги императрица. Радищев был сослан в Илимский острог, но Н. И. Новиков, Федор Кречетов, И. Г. Рахманинов и другие продолжали вести «вольные речи» до тех пор, пока и их голос не был пресечен жесткой рукою царской власти.
Европейские монархии — оплот феодально-абсолютистского строя — в выражениях симпатии к французской революции видели прямое доказательство приближавшейся к ним вплотную опасности.
«Мы не должны, — говорила Екатерина II, — предать добродетельного короля в жертву варварам; ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии».
В Вене, Берлине, Петербурге, Лондоне, Турине, Стокгольме с 1790 года обсуждался вопрос о том, как подавить французскую революцию, как организовать интервенцию против Франции в целях восстановления государя в его законных правах.
В августе 1791 года в замке Пильниц, в Саксонии, император Леопольд II и прусский король Фридрих Вильгельм II подписали декларацию о совместных действиях против революционной Франции. В феврале 1792 года Австрия и Пруссия заключили договор о военном союзе против мятежной Франции. Это значило, что правительства феодальной Европы (при деятельной поддержке буржуазно-аристократической Англии) поставили интервенцию в порядок дня. Однако острые противоречия между державами затрудняли переход от слов к делу.
Подготовка интервенции против Франции происходила при непосредственном участии французских эмигрантов, братьев короля, и при косвенном участии самого французского двора.
После провала попытки бегства все расчеты двора строились на вмешательстве иностранных держав. Подавить революцию можно было только извне, армиями европейских государств, и Мария Антуанетта и Людовик XVI теперь рассчитывают обрести освобождение с помощью иностранного оружия.
Так внутренняя контрреволюция перерастала во внешнюю контрреволюцию.
Европейские державы готовили интервенцию против революционной Франции. Это было бесспорно. Но какова должна быть позиция самой Франции? Что должно делать французское правительство? Что должен делать французский народ перед лицом надвигающейся угрозы иностранного нападения?
По этому вопросу в рядах французской демократии обнаружились различные мнения.
20 октября 1791 года Пьер Бриссо, не без труда удовлетворивший свое честолюбивое стремление стать депутатом, выступил в Законодательном собрании с речью, произведшей большое впечатление.
В заносчивом тоне Бриссо грозил иностранным державам. Он доказывал, что государства Европы, предоставляющие приют беглым эмигрантам и угрожающие Франции, только кажутся сильными и опасными; на самом деле они слабы; они страшатся своего народа; французам их нечего бояться. «Заговорим, наконец, языком свободных людей с иностранными державами! — воинственно восклицал Бриссо. — Пора показать миру, на что способны свободные люди и французы!»
Бриссо долго рукоплескали: его речь имела шумный успех в Собрании.
Это выступление Бриссо не было случайным. С этого времени главной темой его речей в Законодательном собрании, его статей в печати становится идея революционной наступательной войны.
«…Народ, завоевавший себе свободу после десяти веков рабства, нуждается в войне. Ему нужна война, чтобы утвердить свободу», — провозгласил он в речи 16 декабря. Но и этого ему кажется мало. Две недели спустя, 29 декабря, снова доказывая необходимость революционной наступательной войны, он с легким сердцем произнес такие слова: «Война является в настоящее время национальным благодеянием; единственное бедствие, которого можно опасаться, это что войны не будет».
Бриссо был не одинок. Эту воинственную позицию вместе с ним разделяла вся его партия — партия бриссотинцев, как ее называли в те дни, партия жирондистов, как ее стали именовать позднее. Пьер Викторьен Верньо, Маргерит Эли Гаде, Жансонне, Гранжнев, Дюко и ряд иных депутатов, представлявших департамент Жиронды или по политическим мотивам примкнувших к группе Бриссо, горячо поддерживали идею революционной наступательной войны.
Их речи звучали крайне революционно. Народы Европы стонут под игом тиранов; они ждут лишь сигнала для того, чтобы сбросить тягостное ярмо. На Франции лежит священный долг. Она должна сделать первый шаг — начать войну против европейских монархий и поднять знамя освободительной войны в Европе. Такова была примерно фразеология жирондистских ораторов.
Они торопились. 18 января 1792 года Пьер Верньо, лучший оратор Жиронды, который не в пример Бриссо умел в горячей импровизированной речи находить слова, увлекавшие аудиторию, потребовал немедленного объявления войны австрийскому императору.
«К оружию! К оружию! — восклицал Верньо, — Граждане, свободные люди, защищайте свою свободу и обеспечьте надежду на освобождение человеческого рода, иначе вы в своих несчастьях не будете даже достойны его сожаления».
Эти призывы, эти речи, звучавшие так патриотически и революционно, встречаемые обычно громом восторженных рукоплесканий взволнованной толпы, тем не менее вызвали энергичные возражения со стороны передовых демократов.
Главным оппонентом бриссотинцев стал Максимилиан Робеспьер. Он решительно отвергал идею наступательной революционной войны. В ряде речей у якобинцев он доказывал, что эти зажигательные призывы к войне чужды интересам революции. Свободу не приносят на острие штыка. «Никто не любит вооруженных миссионеров, и природа и благоразумие прежде всего советуют оттолкнуть их как врагов». Мысль о том, что народы Европы примут с восторгом вооруженное вторжение французов, заблуждение и авантюризм. Но идея войны опасна еще и потому, что она отвлекает внимание народа от главного — от борьбы против врагов внутри страны. Нельзя победить внешней контрреволюции, не подавив предварительно внутреннюю контрреволюцию. «Прежде чем последствия нашей революции скажутся у иноземных наций, нужно, чтобы она упрочилась, — говорил Робеспьер. — Желать дать им свободу раньше, чем мы сами завоевали ее, значит утвердить порабощение и наше и всего мира…»
Робеспьер был прав; его взгляды поддерживала группа его приверженцев, но они составляли меньшинство, и их голос заглушался громкими воплями пылких сторонников немедленной революционной войны.
Случилось так, что этот призыв к войне неожиданно встретил поддержку и сочувствие самых различных общественных сил.
Жирондисты, связанные с торгово-промышленной буржуазией и выражавшие ее интересы, надеялись путем войны добиться расширения границ Франции на севере и востоке и общего усиления ее позиций — экономических и политических — в Европе. К тому же они полагали — и это, по-видимому, было для них главным, — что война с неизбежностью приведет их к власти и закрепит их политическое господство.
Народные массы, введенные в заблуждение революционной фразеологией жирондистов, принимали ее всерьез: идея освободительной войны отвечала их патриотическим чувствам, и они ее поддержали.
Но идея войны соответствовала и. тайным расчетам и вероломным замыслам короля и двора. В окружении короля полагали, что война намного облегчит выполнение главной цели — разгрома революции. Война должна быть «малой», недолгой; при обоих возможных вариантах она должна дать выигрыш двору: если она будет победоносной, то король сможет сам подавить революцию; если она будет неудачной, 'то революцию задушат интервенты. Как бы ни развернулись события, наивно полагали в Тюильрийском дворце, они пойдут на пользу монархии.
В декабре 1791 года военным министром был назначен граф Нарбонн. Людовик де Нарбонн был тесно связан с фейянами, и его приход на этот важный пост, казалось, обеспечивал двору самую энергичную поддержку конституционалистов. Но, человек авантюристической складки и огромного честолюбия, Нарбонн мечтал о большем. Он стремился к войне, чтобы прославить свое имя, и на гребне успехов стать первым лицом в королевстве. В свою очередь, Мария Антуанетта, державшая в маленькой руке запутанные нити сложных политических интриг, решила использовать нового человека для тонкой и опасной игры, которую вел дворец.
Нарбонн был близок с госпожой де Сталь, дочерью Неккера, литературной дамой, полной самомнения, салон которой посещали знаменитые философы и политические деятели. Королева не выносила Жермен де Сталь и должна была с предубеждением отнестись к ее избраннику. И все-таки в декабре 1791 года умная и злая Мария Антуанетта писала графу Ферзену: «Граф Людовик де Нарбонн, наконец, стал со вчерашнего дня военным министром. Какая слава для г-жи де Сталь и какое удовольствие для нее иметь… в своем распоряжении целую армию!»
Но дальше шли деловые соображения: «Он может быть полезным, если захочет, потому что он достаточно умен, чтобы привлечь конституционалистов, и умеет говорить нужным тоном с нынешней армией…»
И, наконец, откровенные признания: «Как я буду счастлива, если мне когда-нибудь удастся опять стать настолько сильною, чтобы доказать всем этим плутам, что я не одурачена ими…»
В этой игре каждый старался одурачить другого. Эта игра велась не на мелочь; ее ставкой были судьбы Франции. Но это нимало не смущало игроков. Двор и Нарбонн (и стоявшие за Нарбонном фейяны) быстро сговорились: пропаганда жирондистами войны им только на руку; надо поддерживать идею войны и приблизить ее начало.
В марте 1792 года король призвал к власти жирондистов. Министром внутренних дел был назначен Ролан де ла Платьер; министром иностранных дел популярный в то время генерал Дюмурье. Остальные министерские посты были также замешены жирондистами или близкими к ним лицами. Бриссо в состав правительства не вошел — для этого он был слишком незначителен. Но, не входя в министерство, он оставался тайным руководителем нового кабинета.
Образование жирондистского министерства было тонким маневром двора. Новое правительство, во главе которого стояли люди, пользовавшиеся доверием страны, должно было прикрыть тайные планы короля и его окружения. Жирондистское правительство должно было — это оставалось его главной целью — стремиться к войне. Но это же было и ближайшей задачей королевского двора. Теперь, после того как жирондисты пришли к власти, война была неизбежна.
Марат вернулся во Францию, когда новое правительство было уже образовано. Он отнесся к нему с недоверием. В газете «Друг народа» от 13 апреля он высказал вслух свои сомнения, свои опасения по поводу образования нового министерства.
«Все публицисты рассматривают образование якобинского министерства как самое лучшее предзнаменование. Я не разделяю их мнения: в моих глазах опозоренные министры менее опасны, чем министры, пользующиеся доброй славой, обманывающие общественное доверие, покамест они его не погубят», — писал Марат.
Он высказывал предположение, что жирондисты призваны к власти по совету Ламетов и Лафайета, то есть фейянов. «Они сочли нужным указать королю средство ввести народ в заблуждение видимостью лжепатриотизма, беспрепятственно плести заговоры под покровом мнимых Аристидов, пользующихся доверием нации…»
Марат на сей раз был сдержан, он не бросал обвинений никому, кроме Клавьера, он не хотел говорить ничего дурного о новых министрах. Он призывал лишь к настороженности, к бдительности.
В спорах о войне Марат солидаризировался с Робеспьером. Еще ранее, зимой 1791/92 года, Марат разгадал замыслы жирондистов, ^прикрываемые крикливой пропагандой революционной войны. Воинственными выкриками, военным угаром они хотела отвлечь внимание народных масс от задач борьбы против внутренней контрреволюции.
«Лишь уничтожив наших внутренних врагов, мы получим возможность успешно действовать против наших внешних врагов, как бы многочисленны они ни были; до этого все, что мы предпримем, будет совершенно бесполезно», — писал Марат еще в ноябре 1791 года.
Его позиция осталась неизменной. Она полностью совпала с позицией Робеспьера. Они оба с революционной прозорливостью сразу же поняли, что война в данный момент будет выгодна только силам внутренней контрреволюции. Они оба ратовали против нее. Но их голоса тонули в громких возгласах одобрения, неизменно сопровождавших призывы жирондистов к революционной войне.
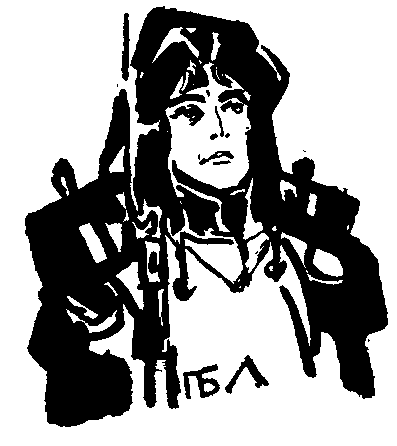
Назад: ГЛАВА ВОСЬМАЯ «ДРУГ НАРОДА»
Дальше: ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ПРОТИВ ЖИРОНДЫ

