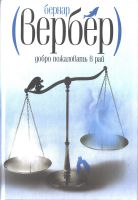ВАРИАНТЫ
* Настоящие 13 отрывков составляют лишь часть дополнений и разночтений, выявленных нами сверкой печатного текста “Мелкого беса” с текстом рукописным, xранящимся в Институте русской литературы Академии Наук СССР, в архиве Ф. К. Сологуба. Здесь нами даются лишь те впервые публикуемые материалы романа, которые имеют характер законченных эпизодов – глав, или, будучи лишь вариантами известного ранее текста, дают дополнительные данные для социологического понимания произведения и его персонажей. – Ред.
1. Наташке и хотелось украсть сладкий пирог и потихоньку съесть его, да нельзя было: раз – что Варвара торчит около нее, да и только, не выжить ее ничем; а другое – если и уйдет и без нее снимать со сковороды, так она потом посчитает по следам на сковороде: сколько нет, столько пирожков потребует, – никак украсть нельзя ни одного. И Ната злилась. А Варвара, по обыкновению своему, ругалась, придираясь к служанке за разные неисправности и за недостаточную, по ее мнению, расторопность. На ее морщинистом, желтом лице, хранившем следы былой красивости, неизменно лежало брюзгливо-хищное выражение.
– Тварь ленивая, – кричала Варвара дребезжащим голосом, – да что ты, обалдела, что ли, Наташка! Только что поступила, да уж ничего не хочешь делать, – ничевуха поганая.
– Да кто у вас и живет, – грубо отвечала Наташа.
И точно, у Варвары прислуга не заживалась: своих служанок Варвара кормила плохо, ругала бесперерывно, жалованье старалась затянуть, а если нападала на не очень бойкую, то толкала, щипала и била по щекам.
– Молчать, стерва! – закричала Варвара.
– Чего мне молчать, – известно, у вас, барышня, никто не живет, – все вам нехороши. А сами-то вы, небось, хороши больно. Не в пору привередливы.
– Как ты смеешь, скотина?
– Да и не смеивши скажу. Да и кто у такой облаедки жить станет, кому охота!
Варвара разозлилась, завизжала, затопала ногами. Наташка не уступала. Поднялся неистовый крик.
– Кормить не кормите, а работы требуете, – кричала она.
– На помойную яму не напасешься хламу, – отвечала Варвара.
– Еще кто помойная яма. Туда же, всякая дрянь…
– Дрянь, да из дворян, а ты – моя прислуга. Стерва этакая, вот я тебе по морде дам, – кричала Варвара.
– Я и сама сдачи дать умею! – грубо ответила Наташка, презрительно посматривая на маленькую Варвару с высоты своего роста. – По морде! Это что тебя-то самое барин по мордасам лощит, так ведь я – не полюбовница, меня за уши не выдерешь.
В это время со двора в открытое окно послышался крикливый, пьяный бабий голос:
– Эй, ты, барыня, ай барышня? как звать-то тебя? Где твой соколик?
– А тебе что за дело, лихорадка? – закричала Варвара, подбегая к окну.
Внизу стояла домовая хозяйка, Иринья Степановна, сапожникова жена, простоволосая, в грязном ситцевом платье. Она с мужем жила во флигельке, на дворе, а дом сдавали. Варвара в последнее время часто вступала с нею в брань, – хозяйка ходила вечно полупьяная и задирала Варвару, догадываясь, что хотят съезжать.
Теперь они опять сцепились ругаться. Хозяйка была спокойнее, Варвара выходила из себя. Наконец хозяйка повернулась спиной и подняла юбку. Варвара немедленно ответила тем же.
От таких сцен и вечного крика у Варвары делались потом мигрени, но она уже привыкла к беспорядочной и грубой жизни и не могла воздержаться от непристойных выходок. Давно уже она перестала уважать и себя, и других.
2. На другой день, после обеда, пока Передонов спал, Варвара отправилась к Преполовенским. Крапивы, целый мешок, послала она раньше, с своей новой служанкой Клавдией. Страшно было, но все же Варвара пошла. В гостиной у Преполовенских сидели в круг преддиванного овального стола Варвара, хозяйка и ее сестра Женя, высокая, полная, краснощекая девица с медленными движениями и обманчиво-невинными глазами.
– Вот, – говорила Софья, – видите, какая она У нас толстуха краснощекая, – а все потому, что ее мать крапивой стегала. Да и я стегаю.
Женя ярко покраснела и засмеялась.
– Да, – сказала она ленивым, низким голосом, – как я начну худеть, сейчас меня жаленцей попотчуют, – я и раздобрею опять.
– Да ведь вам больно? – с опасливым удивлением спросила Варвара.
– Что ж такое, больно, да здорово, – отвечала Женя, – у нас уж такая примета; и сестрицу стегали, когда она была в девицах.
– А не страшно разве? – спрашивала Варвара.
– Что ж делать, меня не спрашивают, – спокойно отвечала Женя, – высекут, да и вся недолга. Не своя воля.
Софья внушительно и неторопливо сказала:
– Чего бояться, вовсе не так уж больно, ведь я по себе знаю.
– И хорошо действует? – еще раз спросила Варвара.
– Ну вот еще, – с досадой сказала Софья, – не видите разве, – живой пример перед глазами. Сперва немного опадешь с тела, а со следующего дня и начнешь жиреть.
Наконец убеждения и уговоры двух сестриц победили последние Варварины сомнения.
– Ну, ладно, – сказала она ухмыляясь, – валяйте. Посмотрим, что будет. А никто не увидит?
– Да некому, вся прислуга отправлена, – сказала Софья.
Варвару повели в спальню. На пороге она было начала колебаться, но Женя втолкнула ее, – сильная была девица, – и заперла дверь.
Занавесы были опущены, в спальне полутемно. Ни откуда не слышалось ни звука. На двух стульях лежало несколько пучков крапивы, обернутых по стеблям платками, чтобы держать не обжигаться. Варваре стало страшно.
– Нет уж, – нерешительно начала она, – у меня что-то голова болит, лучше завтра… Но Софья прикрикнула:
– Ну, раздевайтесь живее, нечего привередничать.
Варвара мешкала и начала пятиться к дверям. Сестрицы бросились на нее и раздели насильно. Не успела она опомниться, как лежала в одной рубашке на постели. Женя захватила обе ее руки своею сильною рукою, а другою взяла от Софьи пучок крапивы и принялась стегать им Варвару. Софья держала крепко Варварины ноги и повторяла:
– Да вы не ерзайте, – экая ерза какая!
Варвара крепилась недолго, – и завизжала от боли. Женя секла ее долго и сильно переменила несколько пучков. Чтобы Варварин визг не был далеко слышен, она локтем прижала ее голову к подушкам.
Наконец Варвару отпустили. Она поднялась, рыдая от боли. Сестры стали утешать ее. Софья сказала:
– Ну, чего ревете. Экая важность: пощиплет и перестанет. Это еще мало, надо повторить будет через несколько дней.
– Ой, голубушка, что вы! – жалобно воскликнула Варвара, – и раз-то намучилась.
– Ну, где там намучились, – унимала ее Софья. – Конечно, надо повторять время от времени. Нас ведь обоих с детства стегали, да и нередко. А то и пользы не будет.
– Жамочная крапива! – посмеиваясь, говорила Женя.
Выспавшись после обеда, Передонов отправился в Летний сад поиграть в ресторане на биллиарде. На улице встретил он Преполовенскую: проводив Варвару, она шла к своей приятельнице Вершиной рассказать по секрету об этом приключении. Было по дороге, пошли вместе. Уже заодно Передонов пригласил ее с мужем на вечер сыграть в стуколку по маленькой.
Софья свела разговор на то, отчего он не женится. Передонов угрюмо молчал. Софья делала намеки на свою сестру, – таких-то ведь пышек и любит Ардальон Борисыч. Ей казалось, что он соглашается: он смотрел так же сумрачно, как всегда, и не спорил.
– Я ведь знаю ваш вкус, – говорила Софья, – вы егастых недолюбливаете. Вам надо выбрать себе под пару, девицу в теле.
Передонов боялся говорить, – еще подденут пожалуй, – и молча сердито посматривал на Софью.
3. Дорогой Передонов рассказал Володину, что Женя, Софьина сестра, – любовница Преполовенского.
Володин немедленно этому поверил: он зол был на Женю, которая недавно ему отказала.
– Надо бы на нее в консисторию донести, – говорил Передонов, – ведь она из духовных, епархиалка.
Вот донести бы, так отправят ее в монастырь на покаяние, а там высекут!
Володин думал: не донести ли? Но решился быть великодушным, – бог с нею. А то еще и его притянут, скажут: докажи.
4. В таких разговoрах приехали в деревню. Дом, где жил арендатор, Мартин и Владин отец, был низенький и широкий, с высокою серою кровлею и прорезными ставнями у окон. Он был не новый, но прочный и, прячась за рядом березок, казался уютным и милым, – по крайней мере, таким казался он Владе и Марте. А Передонову не нравились березки перед домом, он бы их вырубил или поломал.
Навстречу приехавшим выбежали с радостными криками трое босоногих детей, лет восьми – десяти: девочка и два мальчика, синеглазые и с веснусчатыми лицами.
На пороге дома гостей встретил и сам хозяин, плечистый, сильный и большой поляк с длинными полуседыми усами и угловатым лицом. Это лицо напоминало собою одну из тех сводных светописей, где сразу отпечатаны на одной пластинке несколько сходных лиц. В таких снимках утрачиваются все особые черты каждого человека и остается лишь то общее, что повторяется во всех или во многих лицах. Так и в лице Нартановича, казалось, не было никаких особых примет, а было лишь то, что есть в каждом польском лице. За это кто-то из городских шутников прозвал Нартановича: сорок четыре пана. Сообразно с этим Нартанович так и держал себя: был любезен, даже слишком любезен в обращении, никогда притом не утрачивал шляхетского своего гонора и говорил лишь самое необходимое, как бы из боязни в лишних разговорах обнаружить что-нибудь лишь ему одному принадлежащее.
Очевидно он рад был гостю и приветствовал его с деревенскою преувеличенностью. Когда он говорил, звуки его голоса вдруг возникали, – громкие, как бы назначенные спорить с шумом ветра, – заглушали все, что только что звучало, и вдруг обрывались и падали. И после того голоса у всех других людей казались слабыми, жалкими. В одной из горниц, темноватых и низковатых, где хозяин легко доставал потолок рукою, быстро накрыли на стол. Юркая баба собрала водок и закусок.
– Прошу, – сказал хозяин, делая неправильные ударения по непривычке к разговору, – чем бог послал. Передонов торопливо выпил водки, закусил и принялся жаловаться на Владю. Нартанович свирепо смотрел на сына и угощал Передонова немногословно, но настоятельно. Однако Передонов решительно отказался есть еще что-нибудь.
– Нет, – сказал он, – я к вам по делу, вы меня сперва послушайте.
– А, по делу, – закричал хозяин, – то есть резон. Передонов принялся чернить Владю со всех сторон. Отец все более свирепел.
– О, лайдак! – восклицал он медленно и с внушительными ударениями, – выкропить тебе надо. Вот я тебе задам такие холсты. Вот ты получишь сто горячих.
Владя заплакал.
– Я ему обещал, – сказал Передонов, – что нарочно приеду к вам, чтоб вы его при мне наказали.
– За то вас благодарю, – сказал Нартанович, – я осмагаю розгами, ленюха этакого, вот-то будет помнить, лайдак!
Свирепо глядя на Владю, Нартанович поднялся, – и казалось Владе, что он
– громадный и вытеснил весь воздух из горницы. Он схватил Владю за плечо и потащил его в кухню. Дети прижались к Марте и в ужасе смотрели на рыдающего Владю. Передонов пошел за Нартановичем.
– Что ж вы стоите, – сказал он Марте, – идите и вы, посмотрите да помогите, – свои дети будут.
Марта вспыхнула и, обнимая руками всех троих ребятишек, проворно побежала с ними из дому, подальше, чтобы не слышать того, что будет на кухне Когда Передонов вошел в кухню, Владя раздевался. Отец стоял перед ним и медленно говорил грозные слова:
– Ложись на скамейку, – сказал он, когда Владя разделся совсем.
Владя послушался. Слезы струились из его глаз, но он старался сдержаться. Отец не любил коика мольбы, – хуже будет, если кричать. Передонов смотрел на Владю, на его отца, осматривал кухню и, не видя нигде розок, начал беспокоиться. Неужели это делает Нартанович только для виду: попугает сына да и отпустит его ненаказанным. Недаром Владя странно ведет себя, совсем не так, как ожидал Передонов: не мечется, не рыдает, не кланяется отцу в ноги (ведь все поляки низкопоклонные), не молит о прощении, не бросается с своими мольбами к Передонову. Для того ли приехал сюда Передонов, чтобы посмотреть только на приготовления к наказанию?
Меж тем Нартанович, не торопясь, привязал сына к скамейке, – руки затянул над головой ремнем, ноги в щиколотках обвел каждую отдельно веревкой и притянул их к скамейке порознь, раздвинув их, одну к одному краю скамьи, другую – к другому, и еще веревкой привязал его по пояснице. Теперь Владя не мог уже пошевелиться и лежал, дрожа от ужаса, уверенный, что отец засечет его до полусмерти, так как прежде, за малые вины, наказывал не привязывая.
Покончив с этим делом, Нартанович сказал:
– Ну, теперь розог наломать, да и стегать лайдака, если то не будет противно пану видеть, как твою шкуру стегают.
Нартанович искоса взглянул на угрюмого Передонова, усмехнулся, поводя своими длинными усами, и подошел к окну. Под окном росла береза.
– И ходить не треба, – сказал Нартанович, ломая прутья.
Владя закрыл глаза. Ему казалось, что он сейчас потеряет сознание.
– Слухай, ленюх, – крикнул отец над его головою страшным голосом, – для первого раза на году дам тебе двадцать, а за тем разом больше ж получишь.
Владя почувствовал облегчение: это – наименьшее количество, которое признавал отец, и такое-то наказание Владе было не в диковинку.
Отец принялся стегать его длинными и крепкими прутьями. Владя стиснул зубы и не кричал. Кровь проступала мелкими, как роса, каплями.
– Вот-то хорошо, – сказал отец, окончив наказание,-твердый хлопец!
И он принялся развязывать сына. Передонову казалось, что Владе не очень больно.
– Для этого-то не стоило и привязывать, – сказал он сердито, – это с него, как с гуся вода.
Нартанович посмотрел на Передонова своими спокойными синими глазами и сказал:
– В другой раз милости просим, – то лепше ему будет. А сегодня же достаточно.
Владя надел рубашку и, плача, поцеловал у отца руку.
– Целуй розгу, смаганец, – крикнул отец, – и одевайся.
Владя оделся и побежал босиком в сад, – выплакаться на воле.
Нартанович повел Передонова по дому и по службам показывать хозяйство. Передонову это нисколько не было занятно. Хотя он часто думал, что вот накопит денег и купит себе именье, но теперь, глядя на все, что ему показывали, он видел только грубые и неопрятные предметы, не чувствовал их жизни и не понимал их связи и значения в хозяйстве.
Через полчаса сели ужинать. Позвали и Владю. Передонов придумывал шутки над Владей. Выходило грубо и глупо. Владя краснел, чуть не плакал, но другие не смеялись, – и это огорчало Передонова. И ему было досадно, зачем давеча Владя не кричал. Больно же ведь ему было, – недаром кровца брызгала, – а молчал, стервеныш. Заядлый полячишка! – думал Передонов. И уж он начал думать, что не стоило и приезжать.
Рано утром Передонов поднялся и сказал, что сейчас уезжает. Напрасно уговаривали его погостить весь день, – он решительно отказался.
– Я только по делу и приезжал, – угрюмо говорил он.
Нартанович слегка усмехался, поводя своими длинными сивыми усами, и говорил зычным голосом:
– Что то за шкода, что за шкода!
Передонов опять несколько раз принимался дразнить Владю. А Владя радовался, что Передонов уезжает. Теперь, после вчерашней кары, уж он знал, что можно дома делать что хочешь, отец не забранит. На приставанья Передонова он охотно ответил бы какою-нибудь дерзостью. Но за последние дни Вершина не раз повторяла ему, что если он хочет добра Марте, то не должен сердить Передонова. И вот он усердно заботился о том, чтоб Передонову еще удобнее было сидеть, чем вчера.
Передонов смотрел на его хлопоты, стоя на крыльце, и спрашивал:
– Что, брат, влетело?
– Влетело, – отвечал Владя, стыдливо улыбаясь.
– До новых веников не забудете?
– Не забуду.
– Хорошо всыпало?
– Хорошо.
И так продолжался разговор все время, пока запрягалась тележка. Владя начал уже думать, что не всегда возможно быть любезным до конца. Но Передонов уехал, – и Владя вздохнул свободно.
С ним отец обходился сегодня так, как будто вчера ничего и не было. Владин день прошел весело.
За обедом Нартанович сказал Марте:
– Глупый этот у них учитель. Своих детей не имеет, чужих сечь ездит. Смагач!
– На первый-то раз можно было и не сечь, – сказала Марта.
Нартанович посмотрел на нее строго и сказал внушительно :
– В ваши лета человека выхлестать завсе не лишнее, – имей это в памяти. Да он и заслужил.
Марта покраснела… Владя сказал, сдержанно улыбаясь :
– До свадьбы заживет.
– А ты, Марта, – сказал Нартанович, – после обеда получишь хлосты. Отца не учи. Двадцать горяченьких дам.
5. Передонов быстро шел, почти бежал. Встречные городовые раздражали, пугали его. Что им надо! – думал он, – точно соглядатаи.
6. Знал он о горожанах поразительно много, – и действительно, если бы каждая незаконная проделка могла быть уличена с достаточной для преданья суду ясностью, то город имел бы случай увидеть на скамье подсудимых таких лиц, которые пользовались общим уважением. Любопытных было бы несколько судебных дел!
7. И во всей-то гимназии теперь 177 гимназистов, а мещан 28, да крестьян 8, дворян да чиновников только 105.
8. – Теперь вы, значит, не либерал, а консерватор.
– Консерватор, ваше превосходительство.
9. Когда Передонов вернулся домой, он застал Варвару в гостиной с книгой в руках, что бывало редко. Варвара читала поваренную книгу, единственную, которую она иногда открывала.
Многого в книге она не умела понять, и все то, что вычитывала из нее и хотела применить, ей не удавалось: никак ей было не сладить с отношениями составных частей кушаний, так как эти отношения давались в книге на 6 или 12 персон, а ей надо было готовить на две или на три персоны, редко больше. Но все же она иногда делала кушанья по книге. Книга была старая, трепаная, в черном переплете. Черный переплет бросился в глаза Передонову и привел его в уныние.
– Что ты читаешь, Варвара? – сердито спросил он.
– Что, известно что, поварскую книгу, – ответила Варвара, – мне глупые книги некогда читать.
– Зачем поварская книга? – с ужасом спросил Передонов.
– Как зачем? кушанье буду готовить, тебе же, ты все привередничаешь, – объясняла Варвара, усмехаясь с видом горделивым и самодовольным.
– По черной книге я не стану есть! – решительно заявил Передонов, быстро выхватил из рук у Варвары книгу и унес ее в спальню.
“Черная книга! Да еще по ней обеды готовить! – думал он со страхом. – Тогда только недоставало, чтобы ею открыто пытались извести чернокнижием! Необходимо ее уничтожить”, – думал он, не обращая внимания на дребезжащее ворчанье Варвары.
Но как уничтожить? Сжечь? Но еще оно, пожалуй, пожар сделает. Утопить? Выплывет, конечно, и кому еще попадет! Забросить? Найдут. Нет, самое лучшее – отрывать по листу и потихоньку уносить для разной надобности, а потом уже, когда она вся выйдет, черный переплет сжечь. На том он и успокоился. Но как быть с Варварою? Заведет новую чародейную книгу. Нет, надо Варвару наказать хорошенько.
Передонов отправился в сад, наломал там березовых прутьев и, угрюмо поглядывая на окна, принес их в спальню. Потом крикнул, приотворив дверь в кухню:
– Клавдюшка, позови барыню в спальню, и сама приходи.
Скоро Варвара и Клавдия вошли. Клавдия первая увидела розги и захихикала.
– Ложись, Варвара! – приказал Передонов.
Варвара завизжала и бросилась к двери.
– Держи, Клавдюшка! – кричал Передонов.
Вдвоем разложили Варвару на кровати. Клавдия держала, Передонов порол, Варвара рыдала отчаянно и просила прощения.
10. За дверью раздавались тихие детские голоса, слышался серебристый Лизин смех.
Гудаевская шепнула:
– Вы тут пока постойте, за дверью, чтоб он пока не знал.
Передонов зашел, в глухой угол коридора и прижался к стене. Гудаевская порывисто распaхнула дверь и вошла в детскую. Сквозь узкую щель у косяка Передонов увидел, что Антоша сидел у стола, спиной к двери, рядом с маленькой девочкой в белом платьице. Ее кудри касались его щеки и казались темными, потому что Передонову видна была только затененная их часть. Ее рука лежала на Антошином плече. Антоша вырезал для нее что-то из бумаги, – Лиза смеялась от радости. Передонову было досадно, что здесь смеются: мальчишку пороть надо, а он сестру забавляет вместо того, чтобы каяться да плакать. Потом злорадное чувство охватило его: вот сейчас ты завопишь, подумал он об Антоше и утешился.
Антоша и Лиза обернулись на стук отворившейся двери, – румяную щеку и коротенький Лизин нос из-под длинных и прямых прядей волос увидел Передонов из своего убежища, увидел и простодушно-удивленное Антошино лицо.
Мать порывисто подошла к Антоше, нежно обняла его за плечики и сказала бодро и решительно:
– Антоша, миленький, пойдем. А ты, Марьюшка, Побудь с Лизой, – сказала oна, обращаясь к няньке, которой не видно было Передонову.
Антоша встал неохотно, а Лиза запищала на то, что он еще не кончил.
– После, после он тебе вырежет, – сказала ей мать и повела сына из комнаты, все держа его за плечи.
Антоша еще не знал, в чем дело, но уже решительный вид матери испугал его и заставил подозревать что-то страшное.
Когда вышли в коридор и Гудаевская закрыла дверь, Антоша увидел Передонова, испугался и рванулся назад. Но мать крепко ухватила его за руку и быстро повлекла по коридору, приговаривая:
– Пойдем, пойдем, миленький, я тебе розочек дам. Твоего oтца тирана нет дома, я тебя накажу розочками, голубчик, это тебе полезно, миленький.
Антоша заплакал и закричал:
– Да я же не шалил, да за что же меня наказывать!
– Молчи, молчи, миленький! – сказала мать, шлепнула его ладонью по затылку и впихнула в спальню.
Передонов шел за ними и что-то бормотал, тихо и сердито.
В спальне приготовлены были розги. Передонову не понравилось, что они жиденькие и коротенькие.
“Дамские”, – cердито подумал он.
Мать быстро села на стул, поставила перед собой Антошу и принялась его расстегивать. Антоша, весь красный, с лицом, облитым слeзaми, закричал, вертясь в ее руках и брыкаясь ногами:
– Мамочка, мамочка, прости, я ничего такого не буду делать!
– Ничего, ничего, голубчик, – отвечала мать, – раздевайся скорее, это тебе будет очень полезно. Ничего, не бойся, это заживет скоро, – утешала она и проворно раздевала Антошу.
Полураздетый Антоша сопротивлялся, брыкался ногами и кричал.
– Помогите, Ардальон Борисович, – громким шопотом сказала Юлия Петровна, – это такой разбойник, уж я знала, что мне одной с ним не справиться.
Передонов взял Антошу за ноги, а Юлия Петровна принялась сечь его.
– Не ленись, не ленись! – приговаривала она.
– Не лягайся, не лягайся! – повторял за ней Передонов.
– Ой, не буду, ой, не буду! – кричал Антоша. Гудаевская работала так усердно, что скоро устала.
– Ну, будет, миленький, – сказала она, отпуская Антошу, – довольно, я больше не могу, я устала.
– Если вы устали, так я могу еще посечь, – сказал Передонов.
– Антоша, благодари, – сказала Гудаевская, – благодари, шаркни ножкой. Ардальон Борисович еще тебя посечет розочками. Ляг ко мне на коленочки, миленький.
Она передала Передонову пучок розог, опять привлекла к себе Антошу и уткнула его головой в колени. Передонов вдруг испугался: ему показалось, что Антоша вырвется и укусит.
– Ну, на этот раз будет, – сказал он.
– Антоша, слышишь? – спросила Гудаевская, подымая Антошу за уши. – Ардальон Борисович тебя прощает. Благодари, шаркни ножкой, шаркни. Шаркни и одевайся, Антоша, рыдая, шаркнул ножкой, оделся, мать взяла его за руку и вывела в коридор.
– Подождите. – шепнула она Передонову, – мне еще надо с вами поговорить.
Она увела Антошу в детскую, где уже няня уложила Лизу, и велела ему ложится cпать. Потом вернулась в спальню. Передонов угрюмо сидел на стуле среди комнаты. Гудаевская сказала:
– Я так вам благодарна, так благодарна, не могу сказать. Вы поступили так благородно, так благородно. Это муж должен был бы сделать, а вы заменили мужа. Он стоит того, чтобы я наставила ему рога; если он допускает, что другие исполняют его обязанности, то пусть другие имеют и его права.
Она порывисто бросилась на шею Передонова и прошептала:
– Приласкайте меня, миленький!
И потом еще сказала несколько непередаваемых слов. Передонов тупо удивился, однако охватил руками ее стан, поцеловал ее в губы, – и она впилась в его губы долгим, жадным поцелуем. Потом она вырвалась из его рук, метнулась к двери, заперла ее на ключ и быстро принялась раздеваться.
11. Антоша Гудаевский уже спал, когда отец вернулся из клуба. Утром, когда Антоша Гудаевский уходил в гимназию, отец еще спал. Антоша увидел отца только днем. Он потихоньку от матери забрался в отцов кабинет и пожаловался на то, что его высекли. Гудаевский рассвирепел, забегал по кабинету, бросил со стола на пол несколько книг и закричал страшным голосом:
– Подло! Гадко! Низко! Омерзительно! К чорту на рога! Кошке под хвост! Караул!
Потом он накинулся на Антошу, спустил ему штанишки, осмотрел его тоненькое тело, испещренное розовыми узкими полосками, и вскрикнул пронзительным голосом;
– География Европы, издание семнадцатое!
Он подхватил Антошу на руки и побежал к жене. Антоше было неудобно и стыдно, и он жалобно пищал.
Юлия Петровна погружена была в чтение романа. Заслышав издали мужнины крики, она догадалась, в чем дело, вскочила, бросила книгу на пол и забегала по горнице, развеваясь пестрыми лентами и сжимая сухие кулачки.
Гудаевский бурно ворвался к ней, распахнув дверь ногою.
– Это что? – закричал он, поставил Антошу на пол и показал ей его открытое тело. – Откуда этакая живопись! Юлия Петровна задрожала от злости и затопала ногами.
– Высекла, высекла! – закричала она, – вот и высекла!
– Подло! Преподло! Анафемски расподло! – кричал Гудаевский, – как ты осмелилась без моего ведома?
– И еще высеку, на зло тебе высеку, – кричала Гудаевская, – каждый день буду сечь.
Антоша вырвался и, застегиваясь на ходу, убежал, а отец с матерью остались ругаться. Гудаевский подскочил к жене и дал ей пощечину. Юлия Петровна взвизгнула, заплакала, закричала:
– Изверг! Злодей рода человеческого! В гроб вогнать меня хочешь!
Она изловчилась, подскочила к мужу и хлопнула его по щеке.
– Бунт! Измена! Караул! – закричал Гудаевский. И долго они дрались, – все наскакивали друг на друга. Наконец устали. Гудаевская села на пол и заплакала.
– Злодей! Загубил ты мою молодость, – протяжно и жалобно завопила она.
Гудаевский постоял перед нею, примерился было хлопнуть ее по щеке, да передумал, тоже сел на пол против жены и закричал:
– Фурия! Мегера! Труболетка бесхвостая! Заела ты мою жизнь!
– Я к маменьке поеду, – плаксиво сказала Гудаевская.
– И поезжай, – сердито отвечал Гудаевский, – очень рад буду, провожать буду, в сковороды бить буду,. на губах персидский марш сыграю.
Гудаевский затрубил в кулак резкую и дикую мелодию.
– И детей возьму! – крикнула Гудаевская.
– Не дам детей! – закричал Гудаевский. Они разом вскочили на ноги и кричали, размахивая руками:
– Я вам не оставлю Антошу, – кричала жена.
– Я вам не отдам Антошу, – кричал муж.
– Возьму!
– Не дам!
– Испортите, избалуете, погубите!
– Затираните!
Сжали кулаки, погрозили друг другу и разбежались, – она в спальню, он в кабинет. По всему дому пронесся стук двух захлопнутых дверей.
Антоша сидел в отцовом кабинете. Это казалось ему самым удобным, безопасным местом. Гудаевскнй бегал по кабинету и повторял:
– Антоша, я не дам тебя матери, не дам.
– Ты отдай ей Лизочку, – посоветовал Антоша. Гудаевский остановился, хлопнул себя ладонью по лбу и крикнул:
– Идея!
Он выбежал из кабинета. Антоша робко выглянул в коридор и увидел, что отец пробежал в детскую. Оттуда послышался Лизин плач и испуганный нянькин голос. Гудаевский вытащил из детской за руку навзрыд плачущую, испуганную Лизу, привел ее в спальню, бросил матери и закричал:
– Вот тебе девчонка, бери ее, а сын у меня остается на основании семи статей семи частей свода всех уложений.
И он убежал к себе, восклицая дорогой:
– Шутка! Довольствуйся малым, секи понемножку! Ого-го-го!
Гудаевская подхватила девочку, посадила ее к себе на колени и принялась утешать. Потом вдруг вскочила, схватила Лизу за руку и быстро повлекла ее к отцу. Лиза опять заплакала.
Отец и сын услышали в кабинете приближающийся по коридору Лизин рев. Они посмотрели друг на друга в изумлении.
– Какова? – зашептал отец, – не берет! К тебе подбирается.
Антоша полез под письменный стол. Но в это время уже Гудаевская вбежала в кабинет, бросила Лизу отцу, вытащила сына из-под стола, ударила его по щeке, схватила за руку и повлекла за собою, крича:
– Пойдем, голубчик, отец твой – тиран. Но тут и отец спохватился, схватил мальчика за другую руку, ударил его по другой щеке и крикнул:
– Миленький, не бойся, я тебя никому не отдам.
Отец и мать тянули Антошу в разные стороны и быстро бегали кругом. Антоша между ними вертелся волчком и в ужасе кричал:
– Отпустите, отпустите, руки оборвете.
Как-то ему удалось высвободить руки, так что у отца и у матери остались в руках только рукава от его курточки. Но они не замечали этого и продолжали яростно кружить Антошу. Он кричал отчаянным голосом:
– Разорвете! В плечах трещит! Ой-ой-ой, рвете, рвете! Разорвали!
И точно, отец и мать вдруг повалились в обе стороны на пол, держа в руках по рукаву от Антошиной курточки. Антоша убежал с отчаянным криком:
– Разорвали, что же это такое!
Отец и мать, оба вообразили, что оторвали Антошины руки. Они завыли от страха, лежа на полу:
– Антосю разорвали!
Потом вскочили и, махая друг на друга пустыми рукавами, стали кричать наперебой:
– За доктором! Убежал! Где его руки! Ищи его руки!
Они оба заерзали на полу, рук не нашли, сели друг против друга и, воя от страха и жалости к Антоше, принялись хлестать друг друга пустыми рукавами, потом подрались и покатились по полу. Прибежали горничная и нянька и розняли господ.
12. После обеда Передонов лег спать, как всегда, если не шел на биллиард. Во сне ему снились все бараны да коты, которые ходили вокруг него, блеяли и мяукали внятно, но слова у них были все поганые, и бесстыже было все, что они делали.
Выспавшись, отправился он к купцу Творожкову, отцу двух гимназистов, жаловаться на них. Он был уже разлакомлен успехом прежних посещений, и казалось ему, что и теперь будет удача. Творожков – человек простой, ученый на медные деньги, сам разжился, вид у него суровый, говорит он мало, держит себя строго и важно; мальчики его, Вася и Володя, боятся его, как огня. Конечно, он им задаст такую порку, что чертям тошно станет.
И, видя, как сурово и молчаливо выслушивает Творожков его жалобы, Передонов все более утверждался в этой своей уверенности. Мальчики, четырнадцатилетний Вася и двенадцатилетний Володя, стояли, как солдатики, вытянувшись перед отцом, но Передонова удивляло и досадовало то, что они спокойно смотрят и не обнаруживают страха. Когда Передонов кончил и замолчал, Творожков внимательно посмотрел на сыновей. Они еще более вытянулись и смотрели прямо на отца.
– Идите, – сказал Творожков.
Мальчики поклонились Передонову и вышли. Творожков обратился к Передонову:
– Много чести для нас, милостивый государь, что вы изволили так побеспокоиться относительно моих сыновей. Только мы наслышаны, что вы и ко многим другим также ходите и тоже требуете, чтобы родители стегали своих мальчиков. Неужели у вас так вдруг в гимназии расшалились ребята, что и справы с ними нет? Все было хорошо, а тут вдруг порка да порка.
– Коли они шалят, – смущенно пробормотал Передонов.
– Шалят, – согласился Творожков, – уж это известное дело; они шалят, мы их наказываем. Только мне удивительно, – уж вы меня извините, милостивый государь, коли что не так скажу, – удивительно мне очень, что из всех учителей вы один так себя утруждаете, и таким, с позволения сказать, неподходящим занятием. Своего сына, известно, когда постегаешь, – что ж делать, коли заслужит, а чужим-то мальчикам под рубашки заглядывать как будто бы оно для вас и лишнее дело будет.
– Для их же пользы, – сердито сказал Передонов.
– Эти порядки нам хорошо известны, – возразил сейчас же Творожков, не давая ему продолжать, – провинится гимназист, его в гимназии накажут, как по правилам следует; коли ему неймется, родителям дадут знать или там в гимназию вызовут, классный наставник или там инспектор скажет, в чем его вина; а уж как с ним дома поступить, это родители сами знают, по ребенку глядя, ну и опять же по вине. А чтобы учитель там какой сам от себя ходил по домам да требовал, чтобы пороли мальчиков, таких порядков нет. Сегодня это вы пришли, завтра другой придет, послезавтра – третий, а я каждый день своих сыновей драть буду? Нет уж, слуга покорный, это не дело, и вы, милостивый государь, стыдитесь таким несообразным делом заниматься. Стыдно-с!
Творожков встал и сказал:
– Полагаю, что больше нам не о чем беседовать.
– Вот вы как поговариваете? – угрюмо сказал Передонов, смущенно подымаясь с своего кресла.
– Да-с, вот так, – ответил Творожков, – уж вы меня извините.
– Нигилистов растить хотите, – злобно говорил Передонов, неловко пятясь к двери, – донести на вас надо.
– Мы и сами донести умеем, – спокойно отвечал Творожков.
Этот ответ поверг Передонова в ужас. О чем собирается донести Творожков? Может быть, во время разговора, думал Передонов, я что-нибудь сболтнул, проговорился, а он и подцепил. У него, может быть, под диваном такая машинка стоит, что все опасные слова записывает. Передонов в ужасе бросил взгляд под диван, – и там, показалось ему, зашевелилось что-то маленькое, серенькое, зыбкое, дрожащее издевающимся смешком. Передонов задрожал. Не надо только выдавать себя, – пронеслась в его голове быстрая мысль.
– Дудки, меня не поймаешь! – крикнул он Творожкову и поспешно пошел из комнаты.
13. Конечно, Передонов этого не заметил. Он был весь поглощен своею радостью.
Марта вернулась в беседку, когда уже Передонов ушел. Она вошла в нее с некоторым страхом: что-то скажет Вершина.
Вершина была в досаде: до этой поры она еще не теряла надежды пристроить Марту за Передонова, самой выйти за Мурина, – и вот все нарушено. Она быстро и негромко сыпала укоризненными словами, поспешно пускала клубы табачного дыма и сердито поглядывала на Марту.
Вершина любила поворчать. Вялые причуды, потухающая, вялая похоть поддерживали в ней чувство тупого недовольства, и оно выражалось всего удобнее ворчаньем. Сказать вслух – вышло бы ясный вздор, а ворчать, все нелепое изливается через язык, – и не заметишь ни сама, ни другие несвязности, противоречий, ненужности всех этих слов.
Марта, может быть, только теперь поняла, насколько Передонов ей противен после всего, что случилось с ним и из-за него. Марта мало думала о любви. Она мечтала о том, как выйдет замуж и будет вести хорошо хозяйство. Конечно, для этого надо, чтобы кто-нибудь влюбился в нее, и об этом ей было приятно тогда подумать, но это было не главное.
Когда Марта мечтала о своем хозяйстве, то ей представлялось, что у нее будет точь-в точь такой же дом и сад и огород, как у Вершиной. Иногда ей сладко-мечталось, что Вершина все это ей подарила и сама оставалась жить у нее, курить папиросы и журить ее за леность.
– Не сумели заинтересовать, – сердито и часто говорила Вершина, – сидели всегда пень-пнем. Чего вам еще надо! Молодец мужчина, кровь с молоком. Я о вас забочусь, стараюсь, вы бы хоть это ценили и понимали, – ведь для вас же, так и вы бы с вашей стороны хоть чем-нибудь его завлекли.
– Что ж мне ему навязываться, – тихо сказала Марта, – я ведь не Рутиловская барышня.
– Гонору много, шляхта голодраная! – ворчала Вершина.
– Я его боюсь, я за Мурина лучше выйду, – сказала Марта
– За Мурина! Скажите, пожалуйста! Уж очень вы много себе воображаете! За Мурина! Возьмет ли еще он вас. Что он вам иногда ласковые слова говорил, так это еще, может быть, и вовсе не для вас. Вы еще и не стоите такого жениха, – солидный, степенный мужчина. Покушать любишь, а подумать – голова болит..
Марта ярко покраснела: она любила есть и могла есть часто и много. Воспитанная на деревенском воздухе, в простых и грубых трудах, Марта считала обильную и сытую еду одним из главных условий людского благополучия.
Вершина вдруг метнулась к Марте, ударила ее по щеке своею маленькою сухою ручкой и крикнула:
– На колени, негодяйка.
Марта, тихо всхлипывая, встала на колени и сказала:
– Простите Н. А.
– Целый день продержу на коленях, – кричала Вершина, – да платье тереть не изволь, оно деньги плачено, на голые колени стань, платье подыми, а ноги разуй, – не велика барыня. Вот погоди, еще розгами высеку.
Марта, послушно присев на краешек скамейки, поспешно разулась, обнажила колени и стала на голые доски. Ей словно нравилось покоряться и знать, что ее отношениям к этому тягостному делу наступает конец. Накажут, подержат на коленях, может быть, даже высекут, и больно, а потом все же простят, и все это будет скоро, сегодня же.
Вершина ходила мимо тихо стоящей на коленях Марты и чувствовала жалость к ней и обиду на то, что она хочет выйти за Мурина. Ей приятнее было бы выдать Марту за Передонова или за кого другого, а Мурина взять себе. Мурин ей весьма нравился, – большой, толстый, такой добрый, привлекательный. Вершина думала, что она больше подходила бы для Мурина, чем Марта. Что Мурин так засматривается на Марту и прельщается ею, – так это бы прошло. А теперь – теперь Вершина понимала, что Мурин будет настаивать на том, чтобы Марта вышла за него, и мешать этому Вершина не хотела: какая-то словно материнская жалость и нежность к этой девушке овладевала ею, и она думала, что принесет себя в жертву и уступит Марте Мурина. И эта жалость к Марте заставляла ее чувствовать себя доброй и гордиться этим, – и в то же время боль от погибшей надежды выйти за Мурина жгла ее сердце желанием дать Марте почувствовать всю силу своего гнева и своей доброты и всю вину Марты.
Вершиной тем-то особенно и нравились Марта и Владя, что им можно было приказывать, ворчать на них, иногда наказать их. Вершина любила власть, и ей очень льстило, когда провинившаяся в чем-нибудь Марта по ее приказанию беспрекословно становилась на колени.
– Я все для вас делаю, – говорила она. – Я еще и сама не старуха, я еще и сама могла бы пожить в свое удовольствие и выйти замуж за доброго и солидного человека, чем вам женихов разыскивать. Но я о вас больше забочусь, чем о себе. Одного жениха упустили, теперь я для вас, как для малого ребенка, другого должна приманивать, а вы опять будете фыркать и этого отпугаете.
– Кто-нибудь женится, – стыдливо сказала Марта, – я не урод, а чужих женихов мне не надо.
– Молчать! – прикрикнула Вершина. – Не урод! Я, что ли, урод! Наказана, да еще разговасиваешь. Видно, мало. Да и, конечно, надо тебя, миленькая, хорошенько пробрать, чтоб ты слушалась, делала, что велят, да не умничала. С глупа ума умничать – толку не жди. Ты, мать моя, сперва научись сама жить, а теперь в чужих платьях еще ходишь, так будь поскромнее, да слушайся, а то ведь не на одного Владю розги найдутся.
Марта дрожала и смотрела, жалко поднимая заплаканное и покрасневшее лицо, с робкою, молчаливою мольбою в глаза Вершиной. В ее душе было чувство покорности и готовности сделать все, что велят, перенести все, что захотят с нею сделать, – только бы узнать, угадать, чего от нее хотят. И Вершина чувствовала свою власть над этою девушкою, и это кружило ей голову, и какое-то нежно-жестокое чувство говорило в ней, что надо обойтись с Мартой с родительской суровостью, для ее же пользы.
“Она привыкла к побоям, – думала она, – без этого им урок не в урок, одних слов не понимают; они уважают только тех, кто их гнет”.
– Пойдем-ка, красавица, домой, – сказала она Марте, улыбаясь, – вот я тебя там угощу отличными розгами.
Марта заплакала снова, но ей стало радостно, что дело идет к концу. Она поклонилась Вершиной в ноги и сказала:
– Вы мне – как мать родная, я вам так много oбязана.
– Ну, пошла, – сказала Вершина, толкая ее в плечо.
Марта покорно встала и пошла босиком за Вершиной. Под одной березой Вершина остановилась и с усмешкой глянула на Марту.
– Прикажете нарвать? – спросила Марта.
– Нарви, – сказала Вершина, – да хорошеньких.
Марта принялась рвать ветки, выбирая подлиннее и покрепче, и обрывала с них листья, а Вершина с усмешкой смотрела на нее.
– Довольно, – сказала она наконец и пошла к дому.
Марта шла за нею и несла громадный пук розог. Владя повстречался с ними и испуганно посмотрел на Вершину.
– Вот я твоей сестрице сейчас розог дам, – сказала ему Вершина, – а ты мне ее подержишь, пока я ее наказывать буду.
Но, придя домой, Вершина передумала: она села в кухне на стул. Марту поставила перед собой на колени, нагнула ее к себе на колени, подняла сзади ее одежды, взяла ее руки и велела Владе ее сечь. Владя, привыкший к розгам, видевший не раз дома, как отец сек Марту, хоть и жалел теперь сестру, но думал, что если наказывают, то надо делать это добросовестно, – и потому стегал Марту изо всей своей силы, аккуратно считая удары. Пребольно было ей, и она кричала голосом, полузаглушенным своею одеждою и платьем Вершиной. Она старалась лежать смирно, но против ее воли ее голые ноги двигались по полу все сильнее, и наконец она стала отчаянно биться ими. Уже тело ее покрылось рубцами и кровяными брызгами. Вершиной стало трудно ее держать.
– Подожди, – сказала она Владе, – свяжи-ка ей ноги покрепче.
Владя принес откуда-то веревку. Марта была крепко связана, положена на скамейку, прикручена к ней веревкой. Вершина и Владя взяли по розге и еще долго секли Марту с двух сторон. Владя попрежнему старательно считал удары, вполголоса, а десятки говорил вслух. Марта кричала звонко, с визгом, захлебываясь, – визги ее стали хриплыми и прерывистыми. Наконец, когда Владя досчитал до ста, Вершина сказала:
– Ну, будет с нее. Теперь будет помнить.
Марту развязали и помогли ей перейти на ее постель. Она слабо взвизгивала и стонала.
Два дня не могла она встать с постели. На третий день встала, с трудом поклонилась в ноги Вершиной и, поднимаясь, застонала и заплакала.
– Для твоей же пользы, – сказала Вершина.
– Ох, я это понимаю. – отвечала Марта и опять поклонилась в ноги, – и вперед не оставьте, будьте вместо матери, а теперь помилуйте, не сердитесь больше.
– Ну, бог с тобой, я тебя прощаю, – сказала Вершина, протягивая Марте руку.
Марта ее поцеловала.
Назад: XXXII
На главную: Предисловие