Октябрь
Я провела ночь со своим любимым. Прошу его только об одном — чтобы он не возвращался в Америку с Джун. Это доказывает, как сильно он меня волнует. Генри, в свою очередь, заставляет меня поклясться: что бы ни случилось после возвращения Джун, я буду верить в него и его любовь. Мне очень трудно обещать, но Алленди научил меня верить, и я обещаю. Генри спрашивает меня:
— Если бы у меня были деньги и я попросил бы тебя уехать сейчас со мной навсегда, ты бы согласилась?
— Нет — из-за Хьюго и Джун. Я бы не смогла. Но если бы их не было, я уехала бы с тобой куда угодно, пусть даже совсем без денег.
Генри удивлен.
— Иногда мне казалось, что ты играешь со мной.
Но увидев выражение моего лица, он замолкает. Мы провели ночь, тихо и спокойно беседуя. В такие моменты чувственность мешает.
Алленди следит за моей жизнью. Он погрузил меня в спокойный полусон. Он хочет, чтобы меня убаюкало собственное счастье, чтобы я нашла покой в его любви. Ради Хьюго (он стал ревновать к Алленди) я перестану посещать Алленди — дней на десять-двенадцать. Это будет хорошей проверкой моей веры в себя. И приняв благородство, серьезные намерения, жертвенность Алленди, я сразу становлюсь покорной. Меня убивает, что он верит в мою любовь: ведь я чувствую, что это неправда. Мне больно из-за того, что я обманываю этого великого искреннего человека. Интересно, знает ли он, кого я действительно люблю, или я сумела обмануть его так же, как и всех остальных? В 1921 году, еще переписываясь с Эдуардо, я уже была влюблена в Хьюго. А Хьюго, если бы он знал, что в Гаване, когда мы обменивались любовными письмами, я была увлечена Рамиро Колласо! Если бы Генри знал, что мне нравится целоваться с Алленди, а Алленди, в свою очередь, знал, как сильно я хочу жить с Генри…
Он полагает, что моя жизнь с Генри, столь низменная, не может быть реальной. Он говорит:
— Ты приобрела сомнительный опыт, но я чувствую, что сама ты сохранила чистоту. Тобой движет любопытство, жажда новых ощущений.
Что бы со мной ни происходило, все проходит бесследно. Все верят в мою чистоту и искренность, даже Генри.
Алленди хочет, чтобы я воспринимала свою любовь к Генри как экскурс в литературу или театр, а любовь к нему — как выражение моего подлинного «эго». Сама же я считаю, что все происходит с точностью до наоборот. Генри принадлежу я сама, мой ум и мое лоно, а Алленди для меня — получение «опыта».
Из нашего нового радиоприемника постоянно льется музыка. Хьюго слушает ее, с удовольствием размышляя, какую пользу ему приносит помощь Алленди. Диктор из Будапешта вещает что-то на своем странном языке. Я же думаю о том, как обманываю Алленди, и удивляюсь сама себе, зачем я это делаю. Помню, как беспокоило меня зрение Генри: если он ослепнет, как Джойс, что тогда будет? Я думала: «Нужно все бросить и переехать жить к Генри, заботиться о нем». Рассказывая о своих страхах Алленди, я сильно преувеличиваю опасность.
Ложь — признак слабости. Мне кажется, у меня просто не хватает смелости открыто заявить Алленди, что я не люблю его, потому и пытаюсь дать ему понять, на что я готова для Генри.
Полдня после обеда я провела с Генри. Он сказал мне, что наш разговор прошлой ночью сблизил нас, как никогда раньше, изменил его, придал сил.
— Теперь я понимаю, что убежать от Джун не значит решить проблему, — говорит он. — Я всегда уходил от женщин. Сейчас я хочу посмотреть в лицо Джун и той проблеме, которая с ней связана. Хочу проверить собственные силы. Анаис, ты избаловала меня, теперь мне не нужен брак, основанный только на сексе. Ты дала мне то, что я никогда не надеялся найти в женщине. Как мы разговариваем с тобой, как работаем вместе, как ты подстраиваешься под меня… мы подходим друг другу, как рука и перчатка. С тобой я нашел себя. Раньше я жил с Фредом и подчинялся ему, но ни одно его слово не достигало цели, пока я не прожил с тобой те несколько дней, что не было Хьюго. Я вижу теперь, как коварно ты проникла в меня: я ничего не чувствовал и внезапно осознал, как велико твое влияние на меня. Ты все расставила по местам.
— Я готова принять Джун — как разрушительный ураган, — если наша любовь останется жить в наших душах.
— О, если бы только ты приняла ее! Знаешь, я больше всего боялся, да и сейчас боюсь, что ты вступишь в борьбу с Джун, а я окажусь между вами и не найду, чем защитить тебя, ведь она всегда парализует меня своей суровостью. Если бы ты смогла понять и подождать немного! Возможно, я справлюсь с ураганом, раз и навсегда окрепну и смогу противостоять опасности по имени Джун. Я должен выиграть эту битву — одну из самых главных в моей жизни.
— Я обязательно все пойму и не стану еще больше усложнять тебе жизнь.
Вот так мы с Генри сидим и разговариваем — и к вечеру головы наши полны идей, мы готовы писать и жить. Когда мы ложимся, я так возбуждена, что не могу дождаться нашего слияния.
Несколько часов спустя мы сидим при свете мерцающего в темноте аквариума в совершенном смятении. Генри встает и начинает метаться по комнате.
— Я не могу уйти, Анаис. Я должен остаться здесь, с тобой. Я — твой муж.
Мне хочется прижаться к нему, обнять, связать объятиями.
— Если я останусь еще на минуту, — продолжает он, — то сделаю что-нибудь безумное.
— Уходи поскорее, — прошу я, — это становится невыносимым!
Мы спускаемся вниз по лестнице, и запах готовящейся еды ударяет нам в ноздри. Я прижимаю его руку к своему лицу: «Останься, Генри, останься!»
— То, чего вы хотите, — говорит Алленди, — гораздо менее ценно, чем то, что у вас уже есть.
Благодаря психоаналитику я понимаю сегодня, как по-своему сильно любил меня Джон. Я верю в любовь Генри. Я верю, что, даже если Джун одержит победу, Генри будет любить меня вечно. Больше всего мне хочется рука об руку с Генри встретиться с Джун, позволить ей помучить нас обоих, любить ее, завоевать ее любовь и любовь Генри. Я собираюсь использовать смелость, подаренную мне Алленди, для самоистязания и саморазрушения.
Мы с Генри все время недоумеваем, почему мы так похожи друг на друга. Ничего удивительного: ведь мы оба ненавидим состояние счастья.
Хьюго рассказывает мне о своей работе с Алленди. Он поведал врачу, что любовь теперь стала для него похожа на голод, ему хочется съесть меня, вгрызаться в мое тело (наконец-то!). Он признается, что уже попробовал. Алленди от души смеется и спрашивает:
— Ну и как?.. Ей понравилось?
— Как ни странно, — отвечает Хьюго, — кажется, да.
Это смешит Алленди еще сильнее. По какой-то непонятной причине его смех вызывает у Хьюго приступ ревности. Ему кажется, что Алленди доставляет удовольствие их разговор и что он сам был бы не прочь укусить меня.
Тут заливаюсь смехом я. А Хьюго продолжает серьезным тоном:
— Психоанализ — ужасная вещь, но он становится еще страшнее, когда в дело вмешиваются чувства. Что, если бы Алленди, например, проявил к тебе интерес?
Услышав эти слова, я разражаюсь истерическим хохотом, и Хьюго раздражается:
— Что смешного ты в этом находишь?
— Твою сообразительность, — отвечаю я. — Психоанализ и обретенная правда зарождают в тебе новые и очень любопытные мысли.
Я понимаю: то, что происходит между мной и Алленди, — не более чем кокетство. Он — тот мужчина, которого я хочу заставить страдать, удивить, для кого хочу стать источником приключений. Потомок мореходов, он как будто оказался сейчас в тюрьме, обложенной со всех сторон книгами. Я люблю смотреть на Алленди, когда он стоит в дверях своего дома и глаза его мерцают, как море Майорки.
«Выйти за пределы сна». Когда я впервые услышала эти слова Юнга, они меня потрясли. Я руководствовалась ими на страницах дневника, посвященных Джун. Сегодня я повторила их Генри, и он тоже поразился. Он записывает для меня свои сны, то, что им предшествовало, и те ассоциации, которые они вызывали. Какой вечер! У Генри так холодно, что мы залезаем в постель, чтобы согреться. А потом разговоры, горы рукописей, книжные холмы и ручейки вина. (Я пишу это, а ко мне подходит Хьюго, наклоняется и целует. Я едва успела перевернуть страницу.) Я испытываю страшное нетерпение, бьюсь о стены собственной тюрьмы. Генри печально улыбнулся, когда в половине девятого я собралась уходить. Теперь он понимает, что, не зная себе цены, едва не дошел до самоуничтожения. Хватит ли у меня времени, чтобы поставить его на пьедестал?
— Тебе правда не холодно? — спрашивает он, застегивая на мне пальто.
Прошлой ночью он спотыкался о кочки на темной дороге, его слабые глаза ослепляли автомобильные фары. Это опасно.
Я отправляю Хьюго к Алленди. Он не только спасает его как врач, но и провоцирует в нем желание изучать психологию, что делает его интереснее.
Когда я смотрю, как Генри говорит, я чувствую, что восхищаюсь его сексуальностью. Я хочу погрузиться в нее, утонуть, прочувствовать так же глубоко, как Джун. Я в отчаянии, я обижена, мне кажется, что и Хьюго, и Алленди, и даже Генри — все они хотят остановить меня, а я знаю, что могу сама остановиться. Я ужасно люблю Генри, так почему же не уходят беспокойство, перевозбуждение, любопытство? Энергия бьет из меня ключом, мне хочется путешествовать (я хочу поехать на Бали), а вчера вечером, во время концерта, я почувствовала себя Мэри-Роз из пьесы Барри, которая, ступив на землю острова, слышит музыку и исчезает на двадцать лет. У меня появилось такое чувство, что я могу выйти из дома, словно лунатик, забыв (как тогда, в гостиничном номере) обо всех, с кем я связана, и вступить в новую жизнь. С каждым днем возрастает число требований, которые предъявляют мне люди, они лишают меня необходимой мне свободы. Растущие требования Хьюго к моему телу, требования Алленди к благородным движениям моей души, любовь Генри, которая превращает меня в покорную и верную жену… Все это мешает новым приключениям, мне приходится от них отказываться. Не успеваю я пустить корни, как в душе просыпается неудержимое желание выдернуть себя из земли.
Хьюго прочел книги Алленди и решил, что ни я не люблю Алленди, ни он меня. У нас возникло взаимное притяжение — на основе психоанализа, близкого общения и человеческой симпатии.
Около часа мы сидим с Генри в кафе. Он читает мой дневник за 1920 год — мне тогда было семнадцать — и рыдает над ним. Он читал о том периоде, когда Эдуардо не писал мне, потому что получал гомосексуальный опыт. Генри говорит, что за каждый день моего разочарования хочет написать мне по одному письму, чтобы попытаться оправдать все мои ожидания, вернуть все то, что я недополучила. Я ответила, что именно это он и делает.
Потом Генри написал, что думает о моей семнадцатилетней любви: «И она воскликнула: „Мое сердце поет, оно жаждет любви!“ Она влюблена в любовь, но не как семнадцатилетняя девушка, а как будущий художник, которым она стала сейчас, как человек, который отдаст миру свою любовь и будет страдать. Для обыкновенного человека дневник — просто убежище, в котором он скрывается от реальности, как Нарцисс у озера, но Анаис не позволила себе утонуть в этом болоте…»
Человек, понявший меня, написавший эти строки, принимает вызов моей любви и разрушает идею нарциссизма.
Я лежу на диване и снова и снова перечитываю письмо Генри, испытывая при этом острое наслаждение: мне кажется, Генри лежит рядом и вот-вот овладеет мною. Мне больше не нужно бояться слишком сильной любви, и я не боюсь.
Прошлой ночью, выпив бутылку анжу, Генри говорит, как трудно ему перейти к ухаживанию за женщиной. Первый сексуальный опыт Генри получил в шестнадцать лет в публичном доме, там же он подхватил и какую-то болезнь. Потом в его жизни появилась женщина старше его, он не осмеливался ее трахнуть. Он был очень удивлен, когда это случилось, и пообещал себе никогда больше так не делать. Но это случилось снова, и он испугался, что с ним что-то не так. Он записывал, сколько раз это было, с датами — будто вел список своих побед. Ужасные физиологические излишества, игры, трюки, скандалы.
Генри рассказал о своем недавнем разговоре с одной проституткой. Он сидел в кафе и читал Кейзерлинга. К нему подошла женщина, которая оказалась не слишком привлекательной, и сначала он отверг ее. Но позволил сесть рядом и поговорить с ним.
— Мне довольно трудно привлекать к себе мужчин, но когда они узнают меня лучше, то понимают, что я лучше других проституток, — потому что мне нравится быть с мужчиной. Вот сейчас я хочу засунуть руку тебе в штаны, вытащить его и пососать.
На Генри произвела впечатление прямота проститутки, но он ушел от нее. Генри не понял, почему отреагировал именно так. Ему нравится в женщинах агрессивность. Он спрашивает меня, не было ли это проявлением слабости. Я не знаю, но я научусь быть агрессивной, чтобы доставлять ему удовольствие.
Генри рассказывал эмоционально, он возбужденно вытанцовывал передо мной, ревел, изображая, как кусает женскую задницу, потом вдруг замолчал, как будто погрузился в размышления, и выражение его лица изменилось.
— Я перерос все это, — наконец произнес он.
Я поаплодировала разыгранному им спектаклю. Меня так и подмывало сказать:
— А я — нет. Мне еще предстоит все это пережить.
Я смотрю на страдающее лицо Хьюго (в психоанализе он проходит через период мучений и ревности) и испытываю прилив нежности. А Генри говорит:
— Когда мы поженимся, то заберем с собой Эмилию.
Пока мы поднимаемся по лестнице в мою «пещеру», Генри держит руку у меня между ног. Я снова спешу погрузиться в хаос Джун. Я хочу Джун, а не мудрости Алленди и не агрессивной любви Генри. Мне нужна эротика, «влажные» сны по ночам, четыре дня, подобные тем летним, проведенным с Генри, когда он брал меня то на кровати, то на ковре, то на земле, густо заросшей плющом. Я хочу утопить себя в сексуальности, пока не перерасту ее или не пресыщусь ею, как Генри.
Я приезжаю в Клиши к обеду, я пьяна и беспокойна. Генри, сидя в одиночестве, писал о моем творчестве. Последняя страница еще в машинке. Я читаю необыкновенные строки: «Мое желание изменить ее язык было самонадеянным. Его нельзя назвать чисто английским, но чем глубже ты в него погружаешься, тем больше он тебя очаровывает. Неправильности в языке отражают строй ее мыслей и чувств. Их не выразишь на том английском, который в состоянии использовать любой более или менее приличный писатель… Более того, язык Анаис говорит о ее современности, неврозах, подавленности, внезапно возникших мыслях, подсознательных образах. Это язык „с налетом патины“, как сказал Готье, характеризуя декаданс… Я тщетно пытаюсь понять, у кого ты переняла этот стиль, — и не могу припомнить никого, кто бы хоть немного походил на тебя. Ты — это ты…»
Я ликую, потому что мне кажется, что это послание Генри и моя работа составляют единое целое. Я сижу рядом с ним за кухонным столом, голова моя кружится от счастья, и я, заикаясь, говорю:
— То, что ты написал, — прекрасно!
Мы исступленно занялись любовью, еще больше возбудив друг друга. Потом, в такси, он нежно взял меня за руку, как будто мы стали любовниками совсем недавно. Я пришла домой, и в голове моей крутились слова Генри, запечатленные в памяти навсегда: «пресыщен жизнью» и «переполнен сексом». О, я сумею загадать ему гораздо более запутанную загадку, чем ложь Джун!
В наших отношениях с Генри есть и человечность, и уродство. Наша работа — литературное творчество — сама по себе чудовищна, зато любовь — самое человечное чувство на свете. Я чувствую, если Генри холодно, я беспокоюсь за его зрение. Я подаю ему очки, включаю лампу, накрываю одеялом. Но когда мы говорим о литературе или пишем, с нами происходит удивительное превращение — мы растем над собой, раздуваемся от тщеславия и самолюбия. Эта сатанинская радость доступна только писателям. Мужской, сильный стиль Генри и мой, женский, утонченный, борются и сливаются воедино. Но как только я дотрагиваюсь до него, свершается чудо. Он — тот мужчина, ради которого я готова мыть полы. Я готова ради него на самые унизительные и самые удивительные поступки. Генри считает, что однажды мы поженимся, но мне кажется, этого никогда не будет, хотя Генри — единственный человек, за которого я вышла бы замуж. Вместе мы сильнее, значительнее. Ни с кем, кроме Генри, уже не будет такого противостояния. Будущее без него — темно. Я не могу себе его представить.
Алленди говорит Хьюго, что мои литературные знакомства опасны, что я играю с опытом и переживаниями других, как ребенок, и воспринимаю эти игры всерьез. Он считает, что мои литературные приключения заводят меня в опасные, темные области. Большой и сочувствующий Алленди и преданный и ревнивый Хьюго беспокоятся о ребенке, который больше всего нуждается в любви.
Алленди не воспринимает литературную, творческую сторону моей жизни серьезно. Меня обижает, что он упрощает меня до обыкновенной женщины. Он не захотел усложнять свое восприятие моей натуры, принять во внимание мои творческие способности, мое воображение.
Абсолютная искренность таких мужчин, как Алленди и Хьюго, замечательна, но неинтересна. Меня больше увлекают скрытность Генри, драматизм его натуры, литературная гибкость, эксперименты, даже подлость. Когда мы с Генри обнимаем друг друга, игра исчезает, в такие моменты мы становимся единым целым. Потом мы беремся за работу и вживляем в свою реальность воображаемые события. Мы верим в то, что жить можно не так, как обычные люди, — но созидать, искать приключений.
Именно эта сторона моей души, которую не признает Алленди — беспокойная, опасная, эротическая, — нужна Генри, на нее он откликается, ее наполняет новым содержанием и расширяет.
Алленди прав: я действительно нуждаюсь в любви. Я не могу жить без любви. Любовь — основа моего существования.
Он пытается смягчить ревность Хьюго, возможно, чтобы разрешить собственные сомнения. Его страсть покровительственная, сострадательная. Он делает акцент на моей хрупкости, наивности, а я — каким-то глубинным инстинктом — выбираю мужчину, который подавляет мою силу, предъявляет ко мне непомерные требования, который уверен в моей смелости и прочности и не считает меня ни наивной, ни невинной. У него хватает смелости обращаться со мной, как с женщиной.
ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ ПРИЕХАЛА ДЖУН.
Фред сообщил мне об этом по телефону. Я была ошеломлена, хотя так часто представляла себе ее возвращение. Весь день я чувствовала, что Джун в Клиши. Я не могла ни работать, ни есть, вспоминая мольбу Генри — подождать. Но ожидание невыносимо. Я пью большую дозу снотворного. Вскакиваю с постели, когда звонит телефон. Звоню Алленди. Я будто тону.
Генри позвонил мне вчера, потом еще раз сегодня. Он хмур, не знает, что делать.
— Джун приехала в хорошем настроении. Она стала мягче, благоразумнее.
Он обезоружен. Долго ли это будет продолжаться? Надолго ли останется с ним Джун? А что делать мне? Я не могу просто ждать здесь, в этой комнате, наедине со своей работой.
Я ложусь спать с тяжестью на душе. Когда я просыпаюсь утром, ощущение, будто затылок набит камнями. Сейчас любовь Хьюго слишком сильна для меня, она пугает, она выше человеческих сил. И любовь Алленди тоже. Они борются за меня. В детстве я была готова чуть ли не умереть, чтобы завоевать любовь отца, а сейчас я позволяю себе умирать психически по той же причине: я хочу мучить и тиранить тех, кого люблю, лишь бы добиться их внимания. Эта мысль обожгла меня, как удар хлыста. Сейчас я борюсь, чтобы помочь самой себе.
Я не должна отказываться от Генри только из-за того, что Джун стала благоразумной. Но я должна отказаться от него на время, а чтобы сделать это, необходимо заполнить ту огромную пустоту, которая образуется в моей жизни без него.
Джун позвонила мне, и, услышав звук ее голоса, я не ощутила ни боли, ни блаженства, ни даже волнения. Завтра вечером она приезжает в Лувесьенн.
Хьюго привез меня к Алленди. Я собиралась поехать в Лондон, познакомиться с новыми людьми, хоть как-то отвлечься и успокоиться. Когда я переступила порог кабинета Алленди, я уже была способна контролировать себя. Алленди был счастлив: он спасет меня от самоистязания, положит конец моему подчинению Генри и Джун. Он целует мои руки и говорит, говорит… красноречиво и человечно. Ревнивый Алленди в сравнении с Генри. Он так оживлен! Я однажды обмолвилась, что Генри необходима женщина, потому что он стопроцентный мужчина. Слава всем богам — в нем нет и тени женственности! На это Алленди сказал, что именно сексуально зрелым мужчинам свойственны нежность и чисто женская интуиция. У настоящего мужчины сильно развит покровительственный инстинкт, но про Генри этого сказать нельзя. Алленди просто гений, когда дело касается Генри. Он — этот замечательный психоаналитик — так ревнует, что даже высказал несуразное предположение: возможно, Генри — немецкий шпион.
Алленди хочет, чтобы я избавилась от своей потребности в любви и полюбила его по собственной воле. Он не хочет, чтобы абстрактная потребность в любви толкнула меня к нему в объятия. Алленди не хочет использовать свое влияние, чтобы овладеть мною, хотя мог бы так поступить. Для него важнее всего, чтобы я твердо стояла на своих ногах.
Он сказал: Генри нравится, что я подарила ему такую любовь, какой он никогда больше в жизни не встретит. В его руках оказался столь драгоценный дар только потому, что я не знаю себе истинную цену. Алленди надеется — ради моего же блага, — что с этим покончено.
Я спокойно соглашаюсь со всеми его выводами. Я доверяю Алленди, меня тянет к нему (особенно сегодня, я замечаю чувственный изгиб его губ, чувствую, что между нами возможна первобытная страсть). Но в глубине души я, как все женщины, чувствую сильную покровительственную любовь к Генри — такому несовершенному, нуждающемуся в любви.
Я становлюсь сильнее. Звоню Эдуардо, чтобы помочь ему, поддержать. Отказываюсь от поездки в Лондон. Она мне не нужна. Я могу смело встретиться с Генри и Джун. Удушающая боль исчезла. Мне не нужно искать поддержки ни в смене обстановки, ни в новых друзьях.
Я бешено сопротивляюсь потере любовника, которого никогда не забуду. Что станет с работой Генри, с его счастьем? Что Джун может сделать для него — моего любимого Генри, которому я дала силу и понимание самого себя, для Генри-ребенка, нежного создания, такого мягкого и податливого в руках женщины? Алленди говорит, что Генри никогда больше не встретит такой любви, как моя, но я знаю, что всегда буду в его распоряжении. Если Джун обидит его, я окажусь рядом, чтобы снова любить его.
Полночь. Джун. Джун и безумие. Мы с Джун стоим на железнодорожной платформе и целуемся, мимо нас проносится поезд. Я провожаю ее. Я обнимаю ее за талию. Она дрожит.
— Анаис, я счастлива с тобой.
Это она подставляет мне губы для поцелуя.
Весь вечер она говорила о Генри, о его книге, о себе самой. Она была искренна, а может, меня просто легко одурачить. Я верю только в наше возбуждение. Не хочу ничего знать, просто хочу любить ее. Одного я ужасно боюсь — что Генри покажет ей мое письмо к нему. Это обидит Джун, убьет ее…
Она сравнила меня с учительницей из фильма «Девушки в униформе», а себя — с обожающей ее девочкой Мануэлой. У учительницы были красивые глаза, полные сочувствия, хотя она была сильной женщиной. Почему Джун хочет считать меня сильной, а себя — темпераментным ребенком, любимицей учительницы?
Ей нужна защита. Ей необходимо, чтобы она могла где-то спрятаться от боли, от жизни, слишком страшной для нее. Она смотрит на меня, как на неиспорченную себя. Итак, Джун рассказывает мне все о себе и Генри — ту же историю, но с другой стороны. Она любила и доверяла Генри, пока он не предал ее. Он не только изменял ей с другими женщинами, он деформировал ее личность, сделал жестокой, какой она не была раньше, порвал самые нежные и слабые струны в ее душе. Она лишилась уверенности в себе, чувствуя невероятную потребность в любви и верности. Она нашла убежище в Джин, в ее преданности, вере, понимании. А теперь выстроила вокруг себя стену изо лжи — в качестве, самозащиты. Она хочет защитить себя от Генри, сделаться недоступной, неуязвимой. Она черпает силу из моей веры и любви.
— У Генри недостаточно богатое воображение, — говорит она. — Он фальшив. Но и не прост. Это он запутал меня, высосал все жизненные соки, уничтожил. Он придумал мой вымышленный образ, якобы заставляющий его страдать, который он мог бы при этом ненавидеть. Генри нужно подстегивать себя ненавистью, чтобы творить. Я не верю в него как в писателя. У него, конечно, бывают моменты озарения, но он обманщик. В его натуре есть все те недостатки, в которых он обвиняет меня. Генри — лгун, притворщик, шут, актер. Это он устраивает драмы и порождает уродства. Ему не нужна простота. Он интеллектуал. Он ищет простоты, но он тут же искажает ее и начинает выдумывать всяких чудовищ. Все это фальшиво, фальшиво!
Я поражена, потому что чувствую в словах Джун новую правду. Я разрываюсь не между Генри и Джун, а между двумя правдами, представшими передо мной с удивительной ясностью. Я верю в человеческие качества Генри, хотя и считаю его литературным монстром. Я верю в Джун, хотя знаю, как ужасна ее невинная разрушительная сила, ее странные выдумки.
Сначала Джун хотела бороться со мной. Она опасалась, что я поверила в образ, созданный Генри. Она хотела отправиться в Лондон, а не в Париж, и позвать меня туда. Но одного взгляда в глаза оказалось достаточно, она снова поверила мне.
Вчера вечером Джун много и красиво говорила. Она разоблачала все слабости Генри, высказывала сомнения в его искренности, цельности натуры. Она заставила меня усомниться в необходимости защищать его.
— Генри только притворяется, что понимает тебя, а потом вдруг может перейти в наступление, уничтожить.
Правду о каждом из них я могу понять только сама. Разве не был Генри со мной более человечным, чем с другими, а Джун — более искренней? Неужели я, которая так много времени провела с ними обоими, неужели я не сумею разрушить их образы, не смогу познать их истинную сущность?
Алленди словно лишил меня наркотика, сделал меня здравомыслящим человеком, и я жестоко страдаю от потери иллюзий.
Джун теперь тоже здравомыслящий человек. Она не истерична, мысли ее не путаются. Осознав сегодня эту перемену, я ужаснулась. Трезвость и человечность — именно то, чего хотел Генри; он это и получил. Они могут говорить друг с другом. Я изменила Генри, сделала его более зрелым, и теперь он в состоянии лучше понять свою жену.
Мы с ней сидим рядом, наши колени соприкасаются, мы смотрим в глаза друг другу. Последнее безумство — это возбуждение, вспыхивающее между нами. Мы как будто даем клятву: «Ладно, мы будем разумными с Генри, но сумасшедшими друг с другом».
Я погружаюсь в хаос мира Джун и Генри и обнаруживаю, что оба лучше понимают себя и друг друга. А я? Я страдаю от умопомешательства, которое они уже пережили; я переняла их путаность, притворство, сложности. И без конца переживаю их в своем воображении. Я вижу, как Джун лишает Генри веры в себя, как запутывает его. Она уничтожает его книгу. Демонстрируя любовь ко мне, она пытается нейтрализовать мое влияние на Генри, одержать надо мной победу, отдалить меня от него, она снова пытается подавить его, чтобы потом оставить ни с чем, унизить. Чтобы добиться своей цели, Джун готова даже любить меня. Она отговаривает Генри пользоваться моей помощью для публикации его книги. Ее бесит, что он потерял веру в нее, в то, что она тоже способна ему помочь. Я вижу: теперь Джун пользуется моими методами — рассудительностью, спокойствием, — чтобы все разрушить.
Мы сидим в такси, Джун обнимает меня. Она говорит, обвивая меня руками за плечи:
— Ты вдыхаешь в меня жизнь, возвращаешь то, что отнял Генри.
Я что-то взволнованно говорю в ответ. Мы касаемся друг друга коленями, прижимаемся щеками, крепко сцепив пальцы, — и внезапно осознаем, что мы враги. У нас противоположные цели. Я ничего не могу сделать для Генри. Пока Джун здесь, Генри будет слабым, мои объятия не помогут. Когда я говорю Джун, что люблю ее, то думаю лишь о том, что могу сделать для Генри, этого мужчины-ребенка. Он мне больше не любовник, потому что мужская сила ушла. Мое тело помнит мужчину, который умер.
Но какую великолепную игру мы затеяли! Кто из нас демон? Кто лжец? Кто человек? Кто хитрее и умнее всех? Кто сильнее? Кто любит больше? Три наших сильных «эго» борются за превосходство или за любовь, а может, это одно и то же? Я хочу покровительствовать и Генри, и Джун. Я кормлю их, работаю на них, я готова ради них на любые жертвы. Возможно, мне даже придется отдать им жизнь, потому что они уничтожают друг друга. Генри беспокоится, как я одна доберусь в полночь от вокзала, проводив Джун, а она говорит:
— Я боюсь твоей безупречности, остроты чувств, — и прижимается ко мне, как будто хочет почувствовать себя маленькой.
А потом я получаю замечательное письмо от Генри, такое искреннее в своей простоте:
Анаис, спасибо, что не давишь на меня сейчас… Умоляю, не теряй веру. Я люблю тебя больше, чем когда-нибудь раньше, правда, правда! Мне ужасно не хочется доверять бумаге то, что я должен рассказать тебе о моих первых двух ночах с Джун. Когда мы увидимся, я все тебе расскажу, и ты поймешь, что я весь открыт для тебя. Как это ни странно, мы с Джун не ссоримся. Как будто у меня теперь больше терпения, понимания и жалости, даже сострадания, чем прежде… Я скучал и скучаю по тебе, я думаю о тебе (господи, прости!) в такие минуты, когда ни один нормальный мужчина этого бы не делал… Прошу, дорогая моя, любимая моя Анаис, не говори со мной так жестоко, как в последний раз по телефону. Не говори, что счастлива за меня. Зачем? Я чувствую странную печаль и напряжение и не могу объяснить своего состояния. Я хочу тебя. Если ты оставишь меня сейчас, я совсем потеряюсь. Ты должна верить в меня, неважно, что иногда это так трудно. Ты спрашиваешь, поедем ли мы в Англию? Боже, что я могу сказать? Чего бы хотел я сам?
Отправиться туда с тобой, остаться там навсегда. Я говорю это тебе сейчас в момент, когда Джун вернулась ко мне в лучшем своем обличье, в наших отношениях могла бы возродиться надежда, если бы я захотел. Но, как и у вас с Хьюго, я понимаю: все пришло слишком поздно. Я это уже пережил. Теперь я знаю, что должен пережить с Джун некий прекрасный и печальный обман. Ты страдаешь, и это причиняет мне страшную боль.
Возможно, сейчас ты увидишь в Джун больше положительных качеств и станешь меня за это ненавидеть или презирать, но что я могу поделать? Прими Джун такой, какая она есть. Эта женщина может очень много для тебя значить, но не позволяй ей встать между нами. Что вы можете дать друг другу — не мое дело. Просто помни, что я люблю тебя. И, пожалуйста, не наказывай, избегая встреч со мной.
Прошлой ночью я плакала. Плакала, потому что я наконец стала женщиной, только процесс этот оказался слишком болезненным. Я плакала, потому что перестала быть ребенком, слепо верящим во все. Я плакала, потому что мои глаза раскрылись и передо мной предстал реальный мир: я увидела эгоистичную натуру Генри, властолюбие Джун, поняла, как ненасытна моя жажда творчества, творчества, которое занято окружающими и потому не может быть самодостаточным. Я плакала, потому что утратила веру, а я так хочу верить. Я все еще способна страстно любить, даже потеряв веру. Значит, это человеческая любовь. Я плакала, потому что отныне плакать буду меньше. Я плакала, потому что избавилась от боли, но еще не привыкла к ее отсутствию.
Итак, сегодня вечером ко мне приезжает Генри, а завтра я собираюсь провести день с Джун.
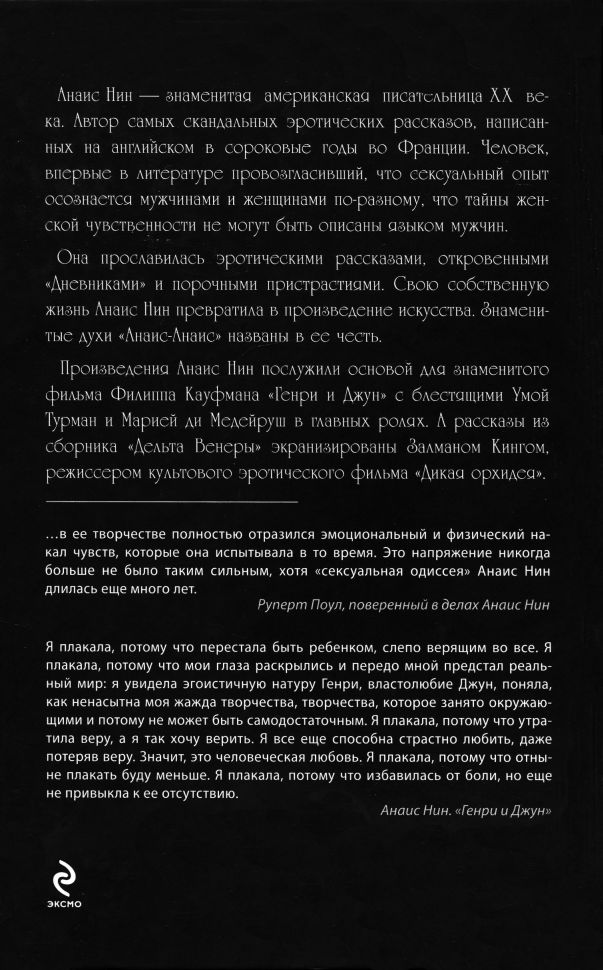
notes
Назад: Сентябрь
Дальше: Примечания

