Глава шестнадцатая
Бальтазар Джонс аккуратно поставил египетский флакон для духов в застекленный шкафчик и отступил на шаг, любуясь. Это был особенно удачный образчик, полученный от легкого ливня, обрушившегося вчера ночью. Осторожно протерев шкаф от пыли, он пробежал глазами по остальным экспонатам, читая наклейки с восторгом истинного коллекционера.
Закрыв дверь в комнату с военными граффити, он был уже на полпути вниз и размышлял о завтраке, когда зазвонил телефон. Он ускорил шаг, и руке, скользящей по веревочным перилам, стало жарко. Но когда он поднял трубку, то вместо жены услышал голос продавца, который попытался всучить ему исключительного качества стеклопакет.
Он повесил трубку и тяжело осел на край кровати. Хотя Бальтазар Джонс знал, что Геба Джонс не вернется обратно, его не покидала мучительная надежда, что она хоть как-то даст о себе знать. В какой-то момент он стал одержим мыслью, что она напишет, признается, что совершила ошибку, бросив его. По несколько раз на день он звонил в башню Байворд, чтобы проверить свой ящик для корреспонденции, уверенный, что если почтальон не принес письма, оно окажется там. Но недели проходили, а от нее не было ни слова, и он утвердился в мысли, что если письмо вдруг придет, то только от ее адвоката. С этого момента он перестал забирать почту, и ее скопилось столько, что главный страж грозился все уничтожить, если он не заберет.
Зажав ладони коленями, чтобы защитить руки от сквозняка, он оглядел комнату, размышляя, что ему делать с вещами жены. К примеру, на туалетном столике остался расписной горшочек, подаренный им во время медового месяца, — жена держала там сережки. С ручки ящика комода свисали бусы, которые некогда покачивались на ее груди. На шкафу лежала коробка, в которой хранилось ее подвенечное платье — она отказалась оставить его на чердаке их дома в Кэтфорде, уверяя, что в случае пожара первым делом стала бы спасать его. Уверившись, что все пожитки жены находятся на своих местах, бифитер надел форму и вышел из Соляной башни без завтрака, не желая есть в одиночестве.
Зайдя в вольер рядом с Белой башней, он поискал взглядом кольцехвостых кускусов, которые пережили ужасное потрясение в ту ночь, когда оказались на свободе. Высматривая их среди листвы, он снова вспомнил о том, кто совершил диверсию, о человеке, чья майка до сих пор висела у него в сушилке. Поскольку доказательств вины не было, он сомневался, что смотритель воронов когда-нибудь признается в своем проступке.
В итоге он разглядел ведущих укромный образ жизни животных, которые прятались в глубине вольера, и среди листьев были видны только их чудесные, свернутые колечком хвосты. Порадовавшись, что зверьки полностью пришли в себя после потрясения, бифитер открыл затянутую сеткой дверцу в жилище карликовой сахарной летяги — подарок губернатора Тасмании. Существо с жемчужно-серой шкуркой, впадающее в депрессию от одиночества, тут же открыло громадные карие глаза. Научив летягу карабкаться по маленькой лесенке, которую сделал специально для нее, бифитер погладил ее по шерстке пером, потерянным кем-то из туканов. А после того, как они сыграли в увлекательнейшие прятки, он покормил зверька кусочками обожаемых им фруктов, и тот заснул прямо на руках у бифитера.
Оставив ночных животных досматривать сны, он отправился в дом номер семь по Тауэрскому лугу, по пути задрав голову на флюгер Белой башни. Он разглядел изумрудное пятнышко — попугай до сих пор свисал вниз головой, покачиваясь на ветру, — и отвернулся, огорченный. В этот самый миг ему на плечо упала капля, в которой безошибочно узнавался птичий помет. Яростно стерев его с камзола бумажным платком, он пробрался через толпу туристов, которые уже начали просачиваться в крепость. Постучав в светло-синюю дверь, он стоял, дожидаясь, пока ему откроют, и наблюдая за облаками. Прошло несколько мгновений, он снова постучал. Подозревая, что йомен Гаолер все-таки дома, бифитер снял шляпу, наклонился и поглядел в щель почтового ящика. Йомен Гаолер сидел на нижней ступеньке лестницы в одной пижаме, закрыв лицо ладонями. Он медленно растопырил пальцы, и его взгляд встретился с глазами Бальтазара Джонса.
— Откройте. Я принес кузнечиков для этрусской землеройки, — сказал бифитер.
Йомен Гаолер подошел к щели для писем и газет и наклонился.
— Бросьте их сюда, — ответил он.
Когда бифитер уже просовывал в щель полиэтиленовый пакет, его неожиданно пронзило подозрение. Выдернув пакет, он проговорил:
— Нет, проще отдать его вам прямо в руки. Не проходит.
Йомен Гаолер приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы можно было высунуть руку. Не обращая внимания на пухлую ладонь, пытавшуюся преградить ему путь, Бальтазар Джонс нажал на дверь плечом и толкнул.
— Если вы не против, я, пожалуй, зайду проведаю землеройку, раз уж все равно пришел.
Как только Бальтазар Джонс протиснулся мимо йомена Гаолера — а для этого пришлось работать локтями весьма не по-джентльменски, — он прошел по коридору прямо в кухню. Положив на стол шляпу, он открыл клетку, протянул руку и снял крышу маленького пластмассового домика. Осторожно потрогал зверька. Тот не шевельнулся. Он потрогал еще раз, но снова безрезультатно.
Он обернулся к йомену Гаолеру и спросил:
— Есть соображения, почему она не двигается?
Йомен Гаолер перевел взгляд на дальнюю стену, затем посмотрел на своего гостя бесконечно невинными глазами.
— Разве она не спит? — высказал он предположение.
Бальтазар Джонс сунул руку в домик, вытащил зверька за хвост и поднял, отчего тот безжизненно закачался, словно гипнотический маятник.
— Так когда же она умерла? — спросил он.
Йомен Гаолер сел, провел рукой по волосам и признался, что животное не двигается почти неделю. Они оба молча глядели на окоченевшее тельце.
— Придется сказать всем, что землеройка впала в спячку, — решил Бальтазар Джонс. — А вы тем временем найдете другую.
Йомен Гаолер с недоумением посмотрел на него.
— Сомневаюсь, что в Англии водятся этрусские землеройки, — заметил он.
Однако Бальтазар Джонс пропустил его слова мимо ушей и вышел из дома.
Шагая к крепостному рву, чтобы покормить остальных животных, бифитер вспомнил, как он вез подарок президента Португалии в крепость, как они вместе мучительно медленно ехали через весь город под песни Фила Коллинза. Как он втайне от Гебы устроил зверька на ночь прямо на старом обеденном столе на верхнем этаже Соляной башни, как старался выбрать для зверька самого лучшего смотрителя. И он вспомнил острую бархатистую мордочку, неподвижно застывшую, пока мертвое тельце раскачивалось перед йоменом Гаолером, поднятое за хвост. Он миновал башню Байворд и остановился на мосту через крепостной ров. Однако даже вид длиннющей очереди из желающих увидеть коллекцию экзотических животных ее величества никак не улучшил его настроения.
Преподобный Септимус Дрю наполнил в ванной оранжевую садовую лейку и отнес ее в мастерскую, предназначенную для поиска способов истребления rattus rattus . Прошло уже несколько недель с тех пор, как он последний раз сидел за столом и при свете настольной лампы до глубокой ночи трудился над новейшим механизмом, способным быстро и безвозвратно оборвать жизнь, питаемую его гобеленовыми подушечками для коленопреклонения. Ситуация переменилась не оттого, что популяция усатого народца упала — крысы по-прежнему без зазрения совести оставляли по всей церкви свой помет, — но из уважения к непостижимой привязанности Руби Дор к этим зверькам.
Поливая анемичные хлорофитумы, едва живые из-за отсутствия к ним внимания, он снова задумался о причине внезапного froideur хозяйки таверны. После нескольких часов, проведенных вдвоем в «Джине и дыбе», когда они праздновали возвращение декоративных крыс, он вернулся домой, едва не воспаряя от восторга. В подобное состояние его привело вовсе не выдержанное шампанское, хотя оно, без сомнения, было исключительным, а уверенность, что Руби Дор, без всякого сомнения, самая возвышенная женщина, какую ему доводилось встречать.
Пока они вдвоем сидели в таверне и канарейка уже давно спрятала голову под крыло, хозяйка поведала ему поразительнейшую историю о сердце Томаса Харди, которой он никогда не слышал, хотя всю жизнь питал слабость к Вестминстерскому аббатству. Наливая капеллану очередной бокал, хозяйка таверны рассказала, что писатель в своем завещании требовал, чтобы его похоронили на родине, в Уэссексе. Однако после его смерти в 1928 году правительство решило, что национальное достояние должно покоиться в аббатстве вместе с другими знаменитыми авторами. Началась недостойная склока, после чего сердце Харди было вынуто и похоронено в Стинсфорде, в могиле жены. Оставшееся тело кремировали и с почестями захоронили в знаменитом аббатстве. Однако существует легенда, будто бы его сердце перед погребением положили в жестянку из-под печенья и оставили для сохранности в садовом сарае, и там до него добралась местная кошка, сожравшая деликатес. Говорят, узнав о бесчинстве, гробовщик быстренько свернул киске шею, а тело положил в жестянку и опустил в могилу. Когда хозяйка таверны завершила свой рассказ, капеллан с трудом удержался, чтобы не взять ее мягкую бледную руку и не облобызать с восхищением.
Несмотря на эти часы, проведенные в столь интимной обстановке, когда их разделяла только деревянная стойка бара, на следующий вечер Руби Дор вела себя так, словно они были едва знакомы. И во все следующие дни, когда бы он ни зашел в бар, его неизменно обслуживали последним, хотя это самое большое бесчестье, какое может постичь англичанина. Когда бифитеры отходили, чтобы найти свободный столик, он мешкал у стойки, пытаясь поговорить с ней, но хозяйка либо принималась за свое вязание, энергично орудуя спицами, либо уходила за новым бочонком.
Глядя, как почва в горшках жадно поглощает воду, святой отец снова спрашивал себя, чем же он оскорбил Руби Дор, но никак не мог найти ответа. Не в силах и дальше выносить неопределенность, он спустился по истертым деревянным ступенькам, сунул лейку в шкаф под кухонной раковиной и задернул сетчатую занавеску. Как он и опасался, председательница Общества почитателей Ричарда Третьего сидела верным часовым на скамейке рядом с Белой башней, крепко сжав колени, и ветерок колыхал ее волосы оттенка пушечного металла. Но святой отец все равно взял ключи и решительно вышел из дома.
Он дошел уже до Кровавой башни, когда вдруг почувствовал, как его хлопнули по плечу. Он развернулся, но прежде, чем дама успела раскрыть рот, вскинул руку и объявил: что бы она ни сказала, она не сможет убедить его в достоинствах короля-горбуна.
— Если вам необходимы сторонники Ричарда Третьего, попробуйте завербовать йомена Гаолера. Он уверен, что малолетних принцев убил герцог Букингемский. Йомен живет вон там, — прибавил он, махнув в сторону дома номер семь по Тауэрскому лугу.
Продолжая свой путь к таверне, капеллан снова ощутил, как его хлопают по плечу. Подозревая, что ему так и не удалось избавиться от председательницы, он резко развернулся, собираясь сказать, что он идет по срочному делу. Однако рядом с ним стоял хранитель истории Тауэра, заламывая свои алчные пальцы.
— Вы не видели йомена Джонса? — спросил он.
— Сегодня нет, — ответил святой отец.
— Ну, если увидите, передайте ему, что только что доставили двух сернобыков.
Преподобный Септимус Дрю шел дальше, пробираясь между туристами. Пройдя в конце Водного переулка табличку «Частная собственность», он толкнул дверь «Джина и дыбы». Толпа завороженных бифитеров собралась у стола, наблюдая, как доктор Евангелина Мор и смотритель воронов разыгрывают партию в «Монополию», начавшуюся накануне вечером. С тех пор как был снят запрет на игру, врач тауэрской общины не проиграла ни одной партии, раз за разом ставя на кон свой трехпенсовик. После очередной победы, к которой врач широкого профиля шла, захватывая недвижимость с безжалостностью судебного пристава, новый противник старался заполучить для себя монету, на которой сохранились рубцы из-за неоднократного заточения в недрах рождественского пудинга. Однако врач не поддавалась ни на какие уговоры и не отдавала своего трехпенсовика.
Капеллан подошел к барной стойке и, когда его наконец-то обслужили, получил пинту «Дочери Сквенджера». Однако даже его выбор напитка не мог смягчить хозяйку, которая молча пододвинула ему сдачу через стойку, залитую лужицами пива. Она вернулась на свой стул, взяла вязание и опустила голову. Преподобный Септимус Дрю наблюдал, как петли яростно переползают со спицы на спицу. Он поставил свою кружку, огляделся по сторонам и придвинулся ближе.
— Можно мне поговорить с вами наедине? — пробормотал он.
Руби Дор подняла голову, секунду молчала, а затем произнесла:
— Встретимся в Колодезной башне через минуту. Вы лучше идите первым, не то пойдут сплетни.
Капеллан ждал, повернувшись спиной к декоративным крысам, стараясь не замечать их зловещего шуршания и думая о великолепной моркови, которую выращивают в огороде отставные ночные бабочки. Хозяйка таверны пришла довольно быстро, закрыв дверь башни с таким грохотом, что грызуны попрятались в свои домики. Она сунула руку в карман джинсов, вытащила листок бумаги и протянула ему.
— Кажется, это вы потеряли, — сказала Руби Дор. — Ревуны их разбросали, когда разоряли ваше жилище.
Преподобный Септимус Дрю расправил листок и принялся читать. Мгновенно узнав собственное сочинение, он быстро сложил бумагу и засунул поглубже в карман рясы. Затем он признался Руби Дор в своей страсти к сочинительству, зародившейся из-за романтической истории, какая приключилась с его овдовевшей матерью. Он объяснил, что испробовал все литературные жанры, однако ведущие издательства страны запретили ему присылать свои работы. Еще он прибавил, что все деньги до последнего пенни жертвует на приют, который основал, желая помочь проституткам, чтобы они смогли подыскать себе более достойное занятие в жизни и не торговать саморазрушительной любовью.
Однако, как он ни расписывал сочную капусту, выращенную девочками, это не помогло утихомирить Руби Дор. Она заявила, что раз он священник, то не имеет никакого права сочинять что-то там о сосках, похожих на розовые бутоны, и что он ставит под удар репутацию не только Церкви, но и Тауэра.
— Почему мужчины всегда не такие, какими кажутся? — воскликнула она в конце концов и пошла к двери, яростно раскачивая хвостом.
Он остался один в темноте, и ее слова отдавались таким громким эхом, что он уже не слышал зловещего шуршания, доносившегося из клетки у него за спиной.
Валери Дженнингс наблюдала из-под своих шикарных ресниц, как Геба Джонс, встав на звон швейцарского коровьего колокольчика, сворачивает за угол. Валери поднялась, поправила пояс юбки с цветочным узором и зашла за книжные полки. Пока она рассматривала корешки книг позабытой писательницы девятнадцатого века мисс Э. Клаттербак, отыскивая что-нибудь, способное перенести в другой мир, ее вдруг осенило, что, как ни странно, книги этого автора находит только билетный контролер Артур Кэтнип. Она снова вспомнила их последнее свидание на ступенях отеля «Сплендид», где он поднялся на цыпочки и поцеловал ее, желая спокойной ночи.
Перед тем свиданием у нее не было времени возвращаться домой, чтобы переодеться. Валери Дженнингс прошла в секцию забытой одежды бюро находок и принялась лихорадочно шарить по полкам. Наконец она наткнулась на черное платье с рукавами в три четверти с еще сохранившимся магазинным ярлыком, который она тут же отрезала. Затем Валери Дженнингс отправилась к полкам с сумочками, чтобы подобрать что-нибудь в тон, и в итоге нашла черный клатч с застежкой со стразами, который захлопывался с громким щелчком. Порывшись в ящике с забытыми духами, она вынула флаконы с «Ивнинг сенсейшн» и «Мистик маск». Не в силах решить, что ей нравится больше, она попрыскала на себя из обоих флаконов и, зажмурив глаза, стояла, пока умопомрачительная взвесь окутывала ее душистым облаком. Она открыла нижний ящик и нашла среди ожерелий нитку кремового жемчуга. Заметив, что застежка со стразами вторит застежке на клатче, она дрожащими пальцами застегнула жемчуг. Стоя в туалете перед зеркалом, она распустила свой дежурный узел на затылке, и темные кудри рассыпались по плечам.
Она остановилась на тщательно выметенном крыльце гостиницы «Сплендид», кренясь вперед из-за туфель, превращавших пальцы на ногах в два красных треугольника, и поправила только что протертые очки, ожидая кавалера. Когда появился покрытый татуировками билетный контролер, она с трудом узнала его из-за прически — на его голове кто-то попытался выстричь инопланетные круги.
Когда они вошли в обеденный зал, он показался ей даже прекраснее, чем викторианский зимний сад с орхидеями, куда Геба Джонс водила ее в свой день рождения. Когда официант отодвинул для Валери Дженнингс стул, она заметила, что только на их столике стоят желтые розы. Артур Кэтнип сел напротив нее и сказал, что она выглядит великолепно, и она больше не ощущала унижения оттого, что надела чужое платье, которое сидит на ней не вполне удачно.
Когда подали закуски, билетный контролер поглядел на устрицы в тарелке Валери Дженнингс и заметил, что из школьных уроков биологии вынес только то, что моллюски могут несколько раз за жизнь поменять пол. Валери Дженнингс ответила, что она и сама однажды вплотную приблизилась к вопросу о смене пола, когда раздавала в детской больнице рождественские подарки, облаченная в костюм Санты, и ей пришлось воспользоваться мужской уборной, чтобы не вызвать подозрения у детей.
Когда подали горячее, Валери Дженнингс с тревогой поглядела на гуся в тарелке Артура Кэтнипа и рассказала, как один такой гусь напал на нее, когда она кормила в парке уток. Билетный контролер вспомнил, как однажды, когда ему было шесть, он съел весь хлеб, который мать дала ему для уток. Потом брат толкнул его в пруд, и парковому сторожу пришлось вытаскивать его за волосы, когда он начал тонуть.
Пока они ждали, когда принесут датский яблочный пирог, Артур Кэтнип заметил, что, если она когда-нибудь еще захочет примерить костюм Санты, лучше всего отправиться в Данию, поскольку каждое лето там проводится международный съезд Санта-Клаусов. Они пили десертное вино, и Валери Дженнингс сказала, что никогда не поедет в Данию, потому что эта страна сдалась фашистам всего через две минуты после начала войны.
Они вспомнили, что пора уходить, только когда официант сказал, что ресторан закрывается. Они вышли на безукоризненно чистое крыльцо и, не чувствуя ночного холода, ждали, пока ливрейный лакей поймает им два такси. Когда притормозила первая машина, Артур Кэтнип пожелал ей спокойной ночи, затем приподнялся на цыпочки и поцеловал в губы. Поцелуй привел ее в такой восторг, что она совершенно не заметила, как приехала домой.
Проклиная себя за то, что перепутала, сколько времени Дания сопротивлялась, прежде чем сдаться, Валери Дженнингс выбрала книгу, вернулась за свой стол и убрала томик в сумочку. Когда она села, зазвонил телефон.
— Бюро находок Лондонского метрополитена. Чем могу служить? — проговорила она голосом дикторши тридцатых годов.
Человек с сильным акцентом осведомился, говорит ли он с Валери Дженнингс.
— Да, это я.
Священник из датской церкви рассказал, что ему пришлось как следует потрудиться, но поиски человека по имени Нильс Рейнкинг завершились успехом.
— Я понятия не имею, тот ли это, кто вам нужен, но я добыл его адрес. Наверное, ему можно будет написать, — прибавил святой отец.
— Отличная мысль, — похвалила она. — Я всегда жалела, что эпистолярное искусство уже не ценится так, как раньше. Диктуйте адрес.
Валери Дженнингс не собиралась даром терять время, доверяясь капризам Королевской почтовой службы. Положив трубку на рычаг, она потянулась за справочником, а потом сняла с вешалки рядом с надувной куклой свое темно-синее пальто.
Не прошло и часа, как она уже стояла перед домом в эдвардианском стиле, который изящно возносился к небу, а по бокам от двери возвышались два лавровых куста. Она нажала на кнопку звонка и, дожидаясь, разглядывала окно-фонарь. Дверь открыл голубоглазый мужчина с подернутыми сединой волосами.
— Чем могу помочь? — спросил он, вытирая пальцы о тряпку, покрытую разноцветными пятнами краски.
— Вы Нильс Рейнкинг? — спросила она.
— Да.
— Валери Дженнингс из бюро находок Лондонского метрополитена. Хотела спросить, вы ничего не теряли?
Нильс Рейнкинг сложил на груди руки.
— Я постоянно что-нибудь теряю. Особенно часто очки, но жена всегда их находит у меня на лбу. Или, может быть, вы нашли мою чековую книжку? — с надеждой спросил он.
— На самом деле кое-что посущественнее чековой книжки. Нашли ваш сейф.
Онемев, он секунду глядел на нее.
— Наверное, вам лучше войти, — проговорил он наконец.
Валери Дженнингс села на кожаный диван в гостиной и принялась рассматривать странные картины на стенах, а Нильс Рейнкинг скрылся в кухне. Он вернулся с кофейником свежезаваренного кофе и разлил его по чашкам дрожащими руками, затем опустился в кожаное кресло. Несколько лет назад, начал он, их дом ограбили, и ворам тогда удалось скрыться вместе с сейфом. Конечно, ему бы следовало выполнить указания производителя и прикрепить сейф к стене, однако руки не дошли. Хотя он сообщил об ограблении в полицию, с тех пор о сейфе не было ни слуху ни духу, и он совершенно отчаялся когда-нибудь получить его обратно.
— Где, вы говорите, его нашли? — спросил он.
Валери Дженнингс передвинула очки к переносице.
— Сейф был оставлен в метро несколько лет назад, и нам только что удалось его открыть, — сказала она. — Но чтобы убедиться, что он действительно принадлежит вам, я обязана спросить, что в нем было.
Нильс Рейнкинг поглядел на кремовый ковер под ногами.
— Разумеется, прошло несколько лет, но, насколько я помню, там были документы, относящиеся к кораблестроительной компании, в которой я тогда работал. Я все гадал, куда они подевались. Еще там была кое-какая наличность, которую моя жена в шутку именовала своим капиталом на случай бегства. Нет нужды говорить, что мы до сих пор вместе. Однако все это не так уж важно для меня. Скажите лучше, в сейфе остался манускрипт?
— Да, что-то похожее там лежит, — ответила Валери Дженнингс.
От поцелуя, который хозяин в ответ запечатлел на ее щеке, она подпрыгнула так, что кофе из ее чашки выплеснулся на блюдце. Нильс Рейнкинг снова сел в кресло, после чего рассказал о манускрипте, представлявшем столь большую историческую ценность у него на родине, что он даже не смог его застраховать. Когда-то, еще в семнадцатом веке, один из его предков по имени Теодор Рейнкинг был настолько возмущен плачевным положением Дании после Тридцатилетней войны, что написал книгу под названием «Dania ad exteros de perfidia Suecorum» — «От данов миру о предательстве шведов». Опозоренная страна тут же арестовала его, и после многолетнего заключения ему предложили на выбор: или его обезглавят, или он съест свое сочинение. Он приготовил из книги соус, благополучно употребил его, и жизнь автора была спасена. Оказавшись на свободе, он вернулся домой. И хотя он исхудал, зарос бородой и от него отвратительно пахло, победа осталась за ним. Дома автор извлек из своих дырявых чулок самую важную часть сочинения, которую успел вырвать и спрятать под одеждой. Реликвию высоко ценили у него на родине не только как доказательство непревзойденного хитроумия датчан, но еще и как единственную книгу в мире, которая была приготовлена и съедена, что стало, как сказал Нильс Рейнкинг, источником великой национальной гордости.
Когда Геба Джонс пришла в кофейню, Том Коттон читал газету, на первой полосе которой была помещена зернистая фотография животного, предположительно бородатой свиньи, пойманной в Шотландии. Геба Джонс сняла бирюзовое пальто и села, спросив, как прошел у него день.
— Пришлось лететь в Бирмингем на вертолете, чтобы доставить сердце в одну из тамошних больниц, — сказал он, складывая газету.
Она вскрыла пакетик с сахаром и высыпала в кофе, который он заказал для нее.
— Чье это было сердце? — спросила она, глядя на него и размешивая сахар.
— Мужчины, который погиб в дорожной аварии.
Геба Джонс опустила глаза:
— По крайней мере, его родные знают, от чего он умер.
Повисла долгая пауза.
Наконец она снова заговорила. Геба Джонс вспоминала тот страшный, самый страшный в ее жизни день. Вечером, накануне того дня, когда мир кончился, она зашла в комнату Милона, чтобы, как всегда, пожелать ему спокойной ночи. Он лежал в постели и читал греческие мифы, книгу, которая принадлежала еще его деду. Положив книгу на его столик у кровати, она накрыла сына одеялом до подбородка и поцеловала в лоб. Когда она шла к двери, он спросил, кого из греческих богов она любит больше всего. Она обернулась, поглядела на сына и тут же ответила:
— Деметру, богиню плодородия.
— А папа? — спросил Милон.
Геба Джонс на минуту задумалась:
— Мне кажется, он любит Диониса, бога виноделия, радости и сумасбродства. А ты сам кого любишь?
— Гермеса.
— Почему?
— У него один из символов — черепаха, — ответил мальчик.
На следующее утро, когда Милон не вышел к завтраку, она спустилась по винтовой лестнице и открыла дверь.
— Голодный медведь не танцует, — сказала она.
Когда сын не шевельнулся, она подошла к кровати и легонько потрясла его за плечо. Но он не проснулся. Она встряхнула его посильнее, а потом закричала, зовя мужа. Когда уже приехала «скорая помощь» и сына собирались выносить, Бальтазар Джонс все еще пытался его оживить. Они поехали в больницу вслед за «скорой», и она впервые в жизни видела, как муж проскочил на красный свет.
О смерти сына им сообщил молодой врач, судя по лицу, индийского происхождения. Геба Джонс лишилась чувств и очнулась в одной из палат со стеклянными стенами, и врач сказал, что ей лучше полежать, пока она не придет в себя и сможет отправиться домой. А когда она вернулась в Соляную башню — уже не мать, — то легла на кровать сына и пролежала остаток дня, рыдая, и пепел ее прежней жизни хлопьями сыпался на нее.
Специалист-патологоанатом исследовал сердце Милона, чтобы установить причину смерти. Делая заключение перед комиссией, он сказал, что примерно в одном случае из двадцати внезапных смертей от остановки сердца установить точную причину невозможно, даже после специального исследования. Это называется синдромом внезапной смерти от аритмии. Он кашлянул и сказал, что остановка сердечной деятельности была вызвана перебоями в сердечном ритме. В некоторых случаях подобную смерть вызывает несколько весьма редких заболеваний, влияющих на функцию электромагнитного поля сердца, однако обнаружить их можно только при жизни, а не после смерти. Некоторые протекают совершенно бессимптомно, сказал он, тогда как некоторые вызывают потерю сознания. Некоторые дети умирают во сне, некоторые прямо на ходу, иногда это происходит во время физического усилия, иногда из-за эмоционального потрясения. Прежде чем сесть на место, он добавил, что каждую неделю от внезапной остановки сердца умирает двенадцать детей.
Когда следователь, расследовавший внезапную смерть ребенка, выслушал всех свидетелей, он оторвал взгляд от своих бумаг и объявил, что Милон Джонс умер естественной смертью. И Геба Джонс встала и крикнула: «Что же тут естественного, когда ребенок умирает раньше родителей?»
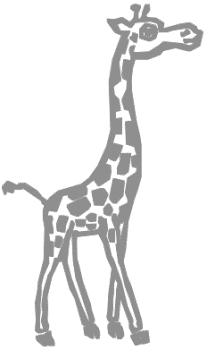
Назад: Глава пятнадцатая
Дальше: Глава семнадцатая

