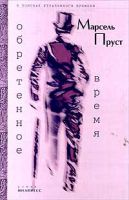Леонид Николаевич Андреев
Всероссийское вранье
Как это неправдоподобно ни покажется, но русский человек лгать не умеет.
Лганье есть искусство — и искусство трудное, требующее ума, таланта, характера и выдержки. Хорошо солгать так же трудно, как написать хорошую картину, и доступно далеко не всякому желающему. Обнаруженная, неудавшаяся ложь есть нечто позорное; лгать опасно — и лгущий должен быть смел, как всякий человек, рискующий собой и становящийся лицом к лицу с опасностью. Ложь должна быть правдоподобна — одно уже это в значительной мере затрудняет пользование ею для слабых и ненаходчивых умов. Сказать, что вчера под Кузнецким мостом я встретил плавающего кита и сильно испугался — не будет ложью, ибо наглядно противоречит как законам божеским, так и человеческим. Всякому известно, что под Кузнецким мостом не плавают, как известно и то, что никто еще не расшибал себе лба о Никитские ворота. Таким образом, для лжи, хотя бы посредственной, требуется некоторое знакомство с законами природы и логики, а для лжи высокопробной, напр., адвокатской, необходимо даже высшее образование. Тот адвокат, который на днях доказывал вред секты поморов, разрешенной правительством, несомненно, не мог бы этого сделать так хорошо, не посещай он в свое время лекций полицейского права.
Наконец, для лжи необходима строго сознанная, вполне определенная мысль: нельзя лгать так, здорово живешь. И это условие делает ложь мало доступной для большинства, у которого нет никаких строго сознанных целей, а существуют одни смутные стремления да беспредельные аппетиты. Яго лжет искусно и толково, так как знает, что хочет, и выполняет сложный, продуманный план. Ему нужно погубить Дездемону и Кассио, и он не только выдумывает небывальщину, но соответствующим образом комбинирует и самые обстоятельства, в чем заключается высшее искусство лганья. С этой стороны каждому приходится хоть раз в своей жизни побыть в шкуре лжеца, искусного или неискусного, так как у каждого время от времени вырастают на пути маленькие цели: обмануть жену, подставить ногу товарищу, надуть родителей и насолить наставникам.
Во всяком случае, эти эпизодически проявляющиеся наклонности ко лжи нисколько не нарушают и даже скорей подчеркивают общую неспособность русского человека к систематическому лганью.
Да, русский человек не умеет лгать, но, кажется, в такой же мере он лишен способности говорить и правду. То среднее, к чему он питает величайшую любовь и нежность, не похоже ни на правду, ни на ложь. Это — вранье. Как родная осина, оно появляется всюду, где его не звали, и заглушает другие породы; как осина, оно ни к чему не пригодно, ни для дров, ни для поделки, и как осина же — оно бывает порой красиво.
Хлестаков, а не Яго — вот кто истинный наш представитель, и, думается мне, как в литературе, так и в мире он представляет собой нечто единственное, вроде самовара: существуют на свете кофейники и тей-машины, а настоящий самовар есть только у нас. Знаменитый Тартарен — это вполне своеобразное порождение провансальского юга и, при некотором внешнем сходстве, ничего родственного с Хлестаковым не имеет. Тартарен насыщен солнечными лучами и чистым виноградным вином; его кровь и воображение кипят; его руки требуют работы, — и когда он торжественно идет на охоту за фуражками, он искренен и серьезен, как сам Дон-Кихот. Его слабость в том, что глаза его, как микроскопы, не видят ничего иначе, как увеличенным в тысячу раз, — но в основе преувеличения всегда лежит какой-нибудь факт.
Русское вранье прежде всего нелепо. Говорил человек долго и хорошо и вдруг соврал:
— А у меня тетка умерла.
Соврал и сам изумился: тетка мало того, что не умирала, а через полчаса придет сюда, и все это знают. И никаких выгод от теткиной смерти он получить не может, и зачем соврал — неизвестно. А то вдруг сообщит:
— А меня вчера здорово побили.
Тут уж совсем расчета не было врать: и не пожалеют, и еще, пожалуй, пользуясь предлогом, действительно побьют. Но он соврал и кажется даже довольным, что поверили. Я знал одного человека, который всю жизнь врал на себя; поверить ему, так большего негодяя не найти, а в действительности это был честной и добрейшей души человек. Врал он, не сообразуясь ни с временем, ни с пространством; врал даже тогда, когда истина сидела в соседней комнате и каждую минуту могла войти; врал, не щадя себя, жены, детей и друзей. Кто-то сказал раз, шутя, что он похож на бежавшего каторжника, и потом стоило большого труда удержать его от немедленной явки в полицию с повинной: так понравилась ему эта идея и так пылко он взялся за ее дальнейшую обработку. Мне он откровенно объяснял иногда причины своего вранья:
— А то уж очень пресно все, — говорил он. — Ну, что я? Банковский чиновник, так, чепуха какая-то. И жена — чепуха, и дети — чепуха, и все знакомые — такая кислятина. А когда соврешь, как будто интереснее станет.
— Да ведь уличат?
— Так что ж из этого? Пусть уличают, так и нужно, чтобы правда торжествовала. Я правду ценю и уважаю. А пока уличат, оно все-таки на минутку как будто и оживишься. Я вчера Кассову сказал, что его Петьке голову прошибли, — так вот Кассов-то бегал!
В провинции вранье вырождается, с одной стороны, в злостную сплетню, с другой — принимает умилительный и наивный характер. Врут солидно, зная, что врут, и, собравшись вместе и выпив оживляющей водки, производят друг друга в чины.
— Вы, Михаил Иванович, умница, философ. Вам бы не в здешней яме, а в столице проживать.
— А вы, Гавриил Петрович, герой и политик.
И когда таким образом посадят друг друга на забор, оно и приятно, и похоже, как будто настоящие люди собрались. Но и в столицах этими приемами не брезгают, хотя вранье здесь почище, не так отчаянно, нелепо и дико.
Всероссийское пустопорожнее вранье даже и праздники особые для себя учредило. Это — юбилеи. Ни одна из западноевропейских выдумок не привилась у нас так прочно, как эта, и ни одна не приняла столь специфически-русской окраски. Ко двору пришлась и в климатических условиях поощрение нашла. В настоящее время юбилейное дело поставлено так широко, что всякий обыватель уже по одному тому, что он обыватель, имеет право на юбилей. По достоверным слухам, в недалеком будущем имеется в виду приращение юбилеев: все, трижды и более того судившиеся в судебных установлениях, будут чествоваться друзьями, как косвенные проводники в русскую жизнь начал правосудия и справедливости. Для приглашенных арестантский халат не обязателен, ибо дам не будет. Вообще дамы, как существа слабые и после третьей рюмки хмелеющие, на юбилей не допускаются.
К юбилеям отношу я и различные товарищеские обеды: по случаю годовщины одновременного промокновения под дождем, по случаю десятилетия введения штрипок и упразднения высоких каблуков и т. д. К настоящим юбилеям эти юбилейчики относятся, как маленькие, местные праздники к годовым, хотя ни по качеству, ни по количеству обеденное вранье нисколько не уступает юбилейному. Благодаря отсутствию проклятых репортеров оно носит даже более семейный, т. е. гомерический характер.
Мне довелось быть участником многих юбилеев, и всякий раз я горько обижался на тех, кои барона Мюнхгаузена сделали будто бы недосягаемым идеалом вруна. Признавая за немцами всяческие достоинства, я должен, однако, во имя справедливости, сказать, что ихний барон — мальчишка и щенок в сравнении с любым нашим юбилейным оратором. Ни в отношении фантазии, ни в смысле беспрепятственного сокрушения логики русский юбилейный оратор не уступит своему немецкому противнику.
Избегая намека на личности, я возьму для характеристики юбилеев вообще такой случай: Помпоний Киста справляет десятилетие со дня получения им первой пощечины (в действительности такого празднования не было). Несомненно, повод разгуляться фантазии достаточный, и когда первый оратор красноречиво воспроизводит трогательную картину, как левая ланита Помпония оделась багрянцем под тяжкой десницей Северия, я плачу. Но когда второй оратор начинает уверять, что до Помпония самое понятие пощечины не существовало, я начинаю чувствовать преувеличение. Когда же последующие ораторы начинают божиться, что Помпоний ежедневно получал десяток оплеух, что все в мире пощечины получил он один, я вижу, как преснота жизни постепенно исчезает и пышным цветом распускается вранье.
Границ ему нет. Все великие люди древности и современности упраздняются, и если произносится какое-нибудь известное имя, вроде Александра Македонского, то только для того, чтобы его унизить и пожалеть, что он не был Помпонием и не получил ни одной пощечины. Ежели Помпоний тем знаменит, что против своего окна березку посадил, то в устах оратора березка эта разрастается в дремучий лес, покрывающий всю Россию. Ежели Помпоний тем славен, что однажды, по близорукости, нищему двугривенный вместо копейки бросил, то в речах хвалителей он превращается в неиссякаемый источник двугривенных, а естественная близорукость его переименовывается в «благородную слепоту чистого сердца». Если Помпоний тем популярность приобрел, что как-то в пьяной драке дворника одолел и наземь поверг, то оратор так и жарит:
— Выпьем за русского Наполеона Помпония Требухиевича Кисту.
Действительно заслуги Помпония, коли таковые имелись, бесследно утопают в потоке вранья и приобретают, благодаря усердию хвалителей, комический характер: соврав о насаждении Помпонием дремучего леса, оратор уничтожает и единственную, действительно посаженную березку.
Что самое характерное для юбилейно-обеденного вранья, так это его полная бесцельность. Когда юбилей Помпонию устраивают его служащие и лица, от него зависимые, тогда вранье имеет еще некоторую, хотя и не похвальную, но разумную цель. Но обычно происходит так, что самые отчаянные юбилейные вруны совершенно от Помпония независимы и никаких существенных благ ожидать от него не могут, да и не ожидают. И предложи им Помпоний по двугривенному на брата, они искренно обидятся, так как вранье их было в высшей степени бескорыстно.
Не руководит врунами и желание сделать Помпонию приятное. Для такого желания необходимо чувствовать к Помпонию приязнь и расположение, а ничего подобного оратор не ощущает. Запрятывая в карман фрака бумажку, на которой заслуги Помпония, после долгих усилий воображения, возведены в n-ю степень, будущий оратор сообщает жене и всем встречным:
— Иду скотину чествовать!
И добродушно смеется. И жена и знакомые так же добродушно смеются: они понимают не рассудком, но нутром, что хоть Помпоний и скотина, но чествовать его нужно.
Помпония возводят в перл создания и благодарят Провидение, что оно осчастливило мир Помпонием; Помпоний в свою очередь возводит в перлы создания ораторов и горячо благодарит Провидение за их ниспослание на землю. Атмосфера вранья густеет. Уже не один Наполеон сидит за столом, а целые десятки Наполеонов, и на что уже расторопный лакей привычен к великим людям, а и тот начинает удивляться: сколько господ собралось, и все до единого — великие.
Сам юбиляр проникается уверенностью, что он фигура. Его «скромная деятельность» всесторонне освещена и оценена, и он приятно удивлен ее неожиданно громадными размерами. В столь же приятных чувствах обретаются и ораторы: забыв, что они сами же произвели Помпония в перлы творения, они искренно гордятся его обществом. Помимо того, каждый из них самостоятельно произведен в перлы — удовольствие не малое. Сам перл — кругом перлы…
Особенный жар всему придает тот момент юбилейного торжества, который в репортерских отчетах именуется «дружеской беседой, затянувшейся далеко за полночь». Цицерон подходит к Катону и говорит:
— Я не хотел, Катон Катоныч, говорить за столом о ваших заслугах перед русским обществом, — это было бы слишком похоже на официальную ложь. Но теперь, когда мы здесь беседуем попросту, позвольте вас уверить, что если Карфаген еще не разрушен, то скоро обязательно разрушится, и только благодаря вам. Как попугай, в благородном, конечно, смысле, вы двадцать лет твердите о необходимости его разрушения, и, как я слышал, сторожа в строительном департаменте сильно заинтересованы вашими речами. Позвольте от души поздравить вас.
Катон Катоныч покачивается и говорит:
— Это ты, Цицерошка? То-то я смотрю, прохвост какой-то. Только ты не обижайся. Ты славный парень. Ты умный парень. Ты талантливый парень. Это ничего, что ты прохвост. Это у тебя пройдет.
— Уже проходит, Катон Катоныч.
— Проходит! Поцелуемся, Цицерошка. Господа, черти, глядите на моего друга, Цицерошку: вот кто истинный носитель заветов… заветов… Кто выпил мою рюмку?
Тут же вертится маленький человек, до того маленький, что даже похвалить не умеет, — а тоже хочется маслица хоть на самый крохотный душевный бутербродик. После долгих колебаний он разбегается, подпрыгивает и целует Катона в лысину. Катон удерживает равновесие и спрашивает:
— Кто это меня… мокрым по лысине?
— Это я-с. Поцелуй-с.
Катон соображает и аттестует:
— Симпатичный юноша.
Наступает момент, когда славословие по неизъяснимым законам русской души легко может перейти в драку, и торжественно заканчивается.
— Ах, пусто б тебе было, пустопорожнее российское вранье!
На главную: Предисловие