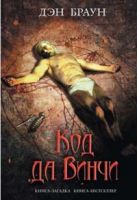ЭПИЛОГ
Близился Новый год. В туристической фирме «Столичный географический клуб» наступили самые горячие дни, Сергей Мещерский буквально разрывался на части: горнолыжные туры в Альпы для экстремалов, ралли на снегоходах, зимняя финская указка «В гостях у гномов».
Друг детства Вадим Кравченко изъявил желание на новогодние праздники проехаться с Катей «куда-нибудь». Мещерский предложил на выбор: Марокко, Словения, Финляндия. Катя захотела в гости к гномам — в Лапландию.
Они улетали в Рованиеми через три дня. Сам Мещерский с удовольствием тоже махнул бы вместе с ними любоваться на северное сияние, кататься на лыжах, на снегоходах, париться в сауне. Но в Москве его цепко держало важное дело. Точнее, даже два дела, тесно связанные друг с другом.
Во-первых, его продолжали вызывать в прокуратуру области в качестве одного из главных свидетелей по делу об убийствах в Лесном.
А во-вторых, вот уже почти месяц он был занят устройством дальнейшей судьбы своего родственника Ивана Лыкова.
Лыков подъехал в офис турфирмы к Мещерскому в обеденный перерыв.
— Все, документы готовы, — объявил ему Мещерский. — Они тебя берут, ты им вполне подходишь. Можно ехать получать снаряжение, оформляться. Ты сам-то не передумал, Ваня?
— Нет, не передумал, — Лыков прикурил сигарету, поискал глазами пепельницу. В офисе «Столичного географического клуба» пепельницами обычно служили половинки расколотых кокосовых орехов или морские ракушки. — Сколько, ты говоришь, там полярная ночь длится?
Мещерский вздохнул. Иван Лыков покидал Москву, станцию «Автозаводскую», Тюфелеву Рощу, Южный порт, трибуны стадиона «Торпедо» и свою сестру Анну — уезжал далеко и надолго. То, что ехать следовало непременно, посоветовал ему по-дружески, по-родственному сам Мещерский. Они возвращались вместе после одного из допросов в прокуратуре. Говорили о случившемся. Но об Анне Мещерский не спрашивал, язык как-то не поворачивался. Лыков сам начал: мол, живу сейчас один — снимаю комнату в коммуналке в Кожухове. Коммуналка — сплошной зоопарк, кого только нет: и алкаш Витя, и два малолетки-близнеца — нацбол со скинхедом, и некто по имени Филипп — теневой дилер по подержанным японским тачкам.
— А как Аня? — не выдержал Мещерский.
— Ничего. Наверное. Живет, работает.
— Салтыков уезжает, Ваня, — Мещерский делал вид, что целиком поглощен поисками ключей от машины в карманах собственного пальто. — Мы с ним разговаривали недавно. Он уже билеты на рейс в Париж заказал. Он берет с собой Изумрудова. Они с ним теперь стали просто неразлучны… Может, они когда-нибудь и вернутся в Лесное, но это будет точно не в этом году. Ты слышишь, что я говорю?
— Слышу. — Лыков кивнул.
— Мне кажется, тебе тоже лучше уехать. Ненадолго. На время.
— Куда?
— Мало ли мест?
— Ну если только на другой конец земного шарика. Я только на такое путешествие, Сергун, согласен. А иначе, — Лыков усмехнулся, — ничего из этого не выйдет.
Мещерский эти невеселые слова Лыкова запомнил. И вплотную занялся «вентилированием» внезапно осенившей его идеи. Идеи свои он обожал претворять в жизнь. И вот вскоре все справки были наведены, вопросы прояснены, согласие Лыкова — принципиальное — получено, анкеты заполнены, документы оформлены.
Из надежных дружеских источников Мещерский знал: на постоянно действующей научно-исследовательской станции «Восток» в Антарктиде предстоит кардинальная ротация кадров. Полярники набирали новую экспедицию, новую команду — научный и, что самое главное, обслуживающий персонал. Охотников торчать два контрактных года на Южном полюсе по нынешним неромантическим временам находилось не так уж много. Мещерский предложил этот вариант Лыкову: не слабо? И тот согласился. В полку полярников прибыло.
— Так сколько там длится полярная ночь? — переспросил Лыков.
— Полгода, — ответил Мещерский.
— А день?
— Тоже полгода. Тебя это не устраивает?
Лыков хмыкнул. Забрал папку с документами.
— Ну что, теперь на вокзал ехать, билеты до Питера брать, а там и на корабль, — он посмотрел на Мещерского. — Ты скажи ей, когда я уеду. Пожелай ей от меня счастья.
— Сам даже не позвонишь, не простишься? — спросил Мещерский. — Иван, ну как же так? Это же самый родной тебе человек, твоя сестра!
Лыков снова усмехнулся — как-то виновато.
— В том-то и беда, Сергун, что она моя сестра. Была б… Эх, ладно. Проехали. Забили.
— Я тебя все спросить хотел, да не решался, — Мещерский даже вспотел от волнения. — В ту ночь, когда мы этого гаденыша поймали, Вальку Журавлева, — ты ехал в Лесное. К ней, к Ане?
— Пьяный я был в дым. Вышел из бара, сел в тачку. Бах — смотрю, уже пилю куда-то на всех парах. Дорога сама ведет, стелется, стерва, — Лыков пожал плечами. — Может, и к ней я ехал, к Аньке, а может, и… Не хочу тебе врать, Сережа. Ненавижу врать тем, кого люблю. Одно скажу — то, что менты меня там, у деревни, тормознули, это к лучшему. Я бы вам там не помощник был в ваших ментовских хитрых делах, а наоборот. Ну что таращишься на меня так печально?
— Ничего. Так. Все утрясется. Я верю — все образуется. Удачи тебе, Иван.
— Где, среди пингвинов? — усмехнулся Лыков. Мещерский смотрел из окна офиса, как он садится в свой раздолбанный «Форд».
Гуд бай…
От Лесного, от которого за эти месяцы отслаивалось, отпочковывалось, отрывалось с мясом и кровью немало составляющих, отделилась еще одна частица — гуд бай…
* * *
Из всего происшедшего Катя решила извлечь для себя максимальную пользу. Как только расследование по убийствам было закончено, она тут же засела за масштабный репортаж для «Вестника Подмосковья».
Никита Колосов зашел в пресс-центр в конце рабочего дня. Катю он застал наедине с компьютером. Вид у нее был ужасно сосредоточенный и забавный — она писала. Пальцы так и прыгали по клавиатуре. На столе царил невообразимый хаос: дискеты, компакт-диски, блокноты, разноцветные листки-памятки, пачка фотоснимков.
— Ты мне звонила? — спросил Никита.
— Где тебя носило? — Катя не отрывалась от текста.
— В Пушкино выезжали. Там убийство — бытовуха банальная, ничего интересного для тебя. По пьянке один другого ножом пырнул. Пишешь? Много уже написала? Говорят — ты в отпуск собираешься?
— Да, — Катя с гордостью посмотрела куда-то мимо него — на календарь, где были красными кружками обведены последние дни декабря. — С Вадиком. К северным оленям, в Лапландию.
— А что твой Вадик — выпить не дурак?
— Почему это? — Катя нахмурила брови. — С чего ты это взял?
— Ну раз в Финляндию едете, да еще под Новый год. Там на это время у финнов сухой закон отменяется. Пьют все поголовно. И местные, и туристы. А потом в бане отмокают, детоксикацию проходят. Так что гляди в оба там за своим… Вадиком.
— Спасибо за совет, — Катя покачала головой: ну надо же, а? И это называется — товарищ, напарник, единственный и неповторимый Фокс Малдер для Даны Скалли! Нет чтобы пожелать счастливого пути, приятного отдыха — не дождешься ведь. — А ты где Новый год собираешься встречать?
Никита пожал плечами: а вам-то что? Раз уезжаете со своим драгоценным Вадиком, ну и уезжайте. Скатертью дорога.
— Так чего ты мне звонила? — спросил он.
— Видишь, я статью готовлю. Мне надо кое-что уточнить у тебя, — Катя решила про себя: говорить исключительно на профессиональные темы. Пользы больше будет. — Где сейчас Журавлева содержат?
— В Волоколамске. В изоляторе, — Никита присел на угол стола,
— А где вы нашли орудие убийства?
— Ты имеешь в виду железку, которой он орудовал? Мы выходы на место с ним проводили и следственные эксперименты. Он показал в деталях, как и где убил отца Дмитрия, где прикончил Филологову, где Марину Ткач. Выдал в ходе эксперимента добровольно вещдоки: отрезок металлической трубы, которым наносил своим жертвам удары, а также мобильный телефон, украденный им из сумки Ткач. Железку эту он на стройке нашел, а прятал в нежилой части дома, под лестницей. А телефон сразу после убийства закопал в парке. Откопал уже при нас и при понятых.
— Значит, это он звонил в то утро Марине Ткач? — спросила Катя, делая заметки на мониторе.
— Да, он. Сказал, что Салтыков уезжает в Москву и хочет ее немедленно видеть, что он, мол, поручил разыскать ее и попросить немедленно прийти в Лесное. Смекалки и наблюдательности этому Журавлеву, как видишь, было не занимать. Разобрался, на что Марина быстро, без оглядки купится.
— Да, он с самого начала понял, что Марина добивается Салтыкова. Мы правильно предполагали, что кто-то мог этим воспользоваться. Он что, ждал ее в парке, да?
— Он позвонил ей утром, в восемь часов. И вышел ей навстречу. Там ведь всего одна короткая дорога из Воздвиженского — мимо пруда.
— А если бы Ткач не пошла тогда пешком, а поймала машину на шоссе?
— Тогда она бы осталась жива. Ненадолго, правда. Он бы ждал другого случая. Но убил бы ее непременно — признался, он долго выбирал между ею, Анной Лык вой и…
— Кем? — тихо спросила Катя.
— Ну ты ведь тоже приезжала туда с Мещерским, Никита помолчал. — Журавлев признался мне на дога се: он выбирал, сравнивал. Ведь на этот раз он искал Красавицу. И остановился на Ткач. Он встретил ее в парке. Ударил железной трубой. Потом сбросил труп в овраг. Но перед этим взял из сумки мобильник. Ведь там на определителе остался его номер — он звонил с телефона Изумрудова. Мы его не изъяли, когда самого Изумрудова забрали. В принципе, Катя, он каждый раз действовал по одной и той же схеме. Убийство отца Дмитрия, убийство Филологовой — все это один почерк.
— А откуда он узнал, что отец Дмитрий в тот день едет в город, в банк?
— Да ему Изумрудов об этом проболтался. Он же священника до самой остановки проводил. Отец Дмитрий говорил, что вернется вечером, часов в шесть, автобусом. Журавлев узнал все это и решил, что момент, которого он так долго ждал, наконец-то настал. А ждал он действительно долго. Эпизод с петухом шестого июня произошел, первое убийство во исполнение условий заклятья он совершил лишь через четыре месяца. Вон сколько времени ему потребовалось на то, чтобы решиться и подготовиться. А тут выпал удачный момент — отец Дмитрий один возвращается с автобусной остановки вечером, в сумерках, ну и… Вот так и бывает. Нужен лишь толчок.
— Он сказал что-нибудь про деньги в портфеле? — спросила Катя.
— Он сказал, что тогда, в первый раз, так… разнервничался. — Никита зло прищурился, — убив человека впервые, что про все на свете забыл. На портфель он и не взглянул даже, не поднял его, не открыл. Дал оттуда деру. Когда он стал на Филологову охотиться, видя в ней Мастера, он уже несколько осмелел. Безнаказанность, она всегда наглости придает. В то утро, когда она шла на станцию, он просто незаметно последовал за ней. Догнал на дороге и убил. Как видишь, почти со всеми своими жертвами он намеренно старался расправиться вне дома — ему казалось, что так он будет вне подозрений…
— А ведь ты чуть-чуть не поймал его с поличным, Никита, — сказала Катя. — В тот день, когда вы с Кулешовым приехали в Лесное. Ведь Филологова в то время была уже мертва, и Журавлев как раз возвращался после того, как…
— Он в туалете кровь с кроссовок отмывал, переодевался в чистое. Мне б тогда на этот санузел ихний глянуть — там не только унитаз был, там и раковина, и биде. Мылся он там, в порядок себя приводил, щенок. Но понос, извини за грубость, его точно тогда прохватил со страха. Как от матери про милицию услышал, так и подумал — за ним…
— Обидно, прискорбно, но бывает. В нашей работе все бывает, даже такое, — Катя вздохнула. — Я эти подробности в репортаже опущу.
— Слушай, ты вот все меня спрашиваешь… А я вот тоже давно спросить тебя хочу кое о чем, — Никита наклонился к Катиному лицу. — Ты ведь догадывалась, что это он, Журавлев?
— Правду тебе сказать?
— Конечно.
— Знаешь, как я рассуждала? У нас ведь долго не было вообще никакого мотива. И я искала, прикидывала и так, и этак. Но все не подходило. Отправной точкой, стал для меня дневник этой девочки — Милочки Салтыковой. То, что легенда о бестужевском кладе может быть и мотивом, и источником всех бед, я поняла поздно. Я стала выбирать для себя среди обитателей Лесного того, кто способен принять эту легенду на веру. И не находила такого человека — это было слишком нереально. Они все были такие прагматики… И тут мне снова помог дневник этой шестнадцатилетней девочки. И дело не только в описанных ею условиях легендарного заговора на кровь. Я читала ее дневник и словно слышала ее, видела — вот она сидит и пишет то, что ей интересно, что ее волнует, то, во что она верит. Я впервые тогда задумалась о соотношении веры и возраста, понимаешь?
— Короче ты подумала, что в такие истории могут верить только зеленые пацаны?
— Я стала присматриваться к Журавлеву и к Изумрудову тоже. Помнишь, Мещерский меня спрашивал — догадываюсь ли я? В тот момент я, Никита, еще думала, что они действуют заодно, на пару. Изумрудов ведь не мог убить Марину Ткач, он был на момент убийства в камере. А вот об отце Дмитрии он, как мне казалось, знал больше всех. И я думала, что он лжет тебе, не говорит всей правды о том, что произошло там, на дороге. Я думала, что они заодно — Журавлев и Изумрудов. Я даже провела небольшой эксперимент. Мне хотелось посмотреть, насколько они подвержены…
— Чему? — спросил Никита.
— Легковерию, внушаемости, алчности. Это было что-то вроде теста— мы вместе заполняли «купон счастья». Тогда я была почти уверена, что они оба нам нужны, но… Как видишь, я ошиблась. Журавлев действовал в одиночку. И в последний момент не остановился даже перед убийством приятеля. Скажи, ему провели судебно-психиатрическую экспертизу?
— Да, я с результатами знакомился в прокуратуре. Он признан вменяемым, дееспособным. Но отклонения некоторые у него налицо: например, повышенная возбудимость, склонность к психопатии. Потом еще установлено, что у него в семье по материнской линии имелись душевнобольные — родной брат матери страдал острой формой шизофрении. Кое о чем это говорит.
— А с Долорес Дмитриевной ты беседовал?
Никита кивнул.
— Мать есть мать. Никуда не денешься. Плачет, не верит, истерики закатывает, адвоката уже третьего по счету меняет, нас сволочит. Он был ее единственным сыном, растила она его одна, без отца. Ради него и согласилась в Лесное переехать. Все для него — и вот получила подарочек на старости лет. В общем, то, что он малость того, тронутый, мне и без экспертизы ясно. Одна дата чего стоит, когда он петуха-то казнил на крыльце церкви, — шестое июня. Тот еще денек себе выбрал для начала преступного пути.
— А где он взял этого петуха? Он тебе сказал?
— На рынке купил в Бронницах. Специально ездил — матери сказал, что в Москву, в институт, конспекты брать, а сам на сельхозрынок. Лучше б она его в армию, что ли, сдала, придурка…
— Ты ему сказал, что там никакого золота нет? — спросила Катя.
Никита молчал. Перед его глазами всплыла картина: выход на место происшествия. Следователь прокуратуры, понятые, Валя Журавлев и конвоирующие его оперативники. Журавлев показывает на видеокамере место, где напал на Марину Ткач. Показывает, как тащил ее труп к оврагу-свалке. Напряженные лица понятых, следователь, комментирующий происходящее для видеозаписи. Сам Никита тут же, рядом. Шорох палой листвы, земля, тронутая первыми заморозками, потрескавшиеся от времени стволы деревьев, голый парк…
Обратно к машинам возвращались как раз парком, по берегу пруда. Неожиданно Валя Журавлев остановился. Смотрел, не отрываясь, на заброшенный раскоп.
— Понимаешь, я хотел ему сказать, — Никита взглянул на Катю и…
Это был еще один эпизод, о котором не хотелось вспоминать, — там, на берегу пруда Валя Журавлев внезапно рванулся вперед: оперативники едва его удержали. Он упал как подкошенный на промерзшую землю, потрясая скованными наручниками руками.
— Ну что, что вы все пялитесь? — крикнул он отчаянно. — Думаете, я идиот, псих ненормальный? Дураки! Клад — вон он, там! Я видел его, я знаю, понятно вам? Он там, внизу! Зачем вы помешали мне? Кому был нужен этот педик?! Кому нужны были они все? Никому! А деньги, золото нужны всем. Слышите, всем. Я же почти держал его в руках, он был мой — этот клад. Мой, слышите вы? А вы все погубили! Вы не видите дальше своего носа. Не верите ни во что… Дураки, дубье, тупицы проклятые!
Оперативники подняли его под мышки и поволокли к машине. А он все кричал что-то бессвязно, вырывался, оглядывался на раскоп, а затем начал истерически рыдать.
— Я хотел ему сказать, но не сказал. Он бы мне все равно не поверил, — Никита вздохнул. — Для него в его состоянии это все равно как услышать: земля плоская, а солнце — желтая тарелка, повешенная на гвоздь. О том, что никакого золота там нет, я сказал Салтыкову. Мол, не трудитесь, дорогой; копать, искать свой фамильный клад — это был наш оперативный трюк, не более того. И знаешь, он мне тоже сначала не поверил. Поверил лишь, когда я детально рассказал, как мы перенастроили его металлоискатель. Он страшно расстроился. Правда, не только из-за этого облома. Надо отдать ему должное — он говорил, что глубоко сожалеет о случившемся. Что во всем этом есть и его доля вины. Он хозяин, он отвечает. Ведь вся эта канитель с легендой о заклятом на кровь кладе Бестужевой завертелась в Лесном с его легкой руки — он рассказал эту историю. Они все ее частенько обсуждали за ужином, за бокалом, вина, лясы точили. Все вроде в шутку, не всерьез, а получилось, что Журавлев поверил… В общем, в этом Салтыков прав. Он виноват.
— Он в Париж возвращается, мне Сережа сказал, — Катя снова вернулась к статье. — Мне жаль, что он все вот так поспешно бросил на самотек в Лесном. Все-таки это очень красивое место, несмотря ни на что, овеянное такими легендами… И потом, он сам так хотел вернуться, а теперь уезжает.
— Да вернется, никуда не денется, — усмехнулся Никита. — Ты о нем не горюй. Прогуляется с Изумрудовым своим по Европам, соскучится, забудет о плохом и весной заявится назад. Поспорить могу на что хочешь. Он ведь денег уже потратил на эту усадьбу прорву. А в этом отношении он не мы, он — чистый европеец. Они деньги вот так в землю заколачивать бездарно не привыкли. Вот поедешь в свою Финляндию — сама в этом убедишься. Ладно, все вопросы ко мне? Тогда я пошел, мне еще в Пушкино звонить — ситуацию прояснять.
— После праздников увидимся, — пообещала Катя. Он ушел, а она закончила статью к семи вечера. Позвонила «драгоценному В.А»: спешу, лечу, мчусь домой. Буду раньше тебя, что приготовить на ужин?
Особых препятствий на пути для возвращения домой на этот раз ей не встретилось. Вечер был морозный и ясный, самый предновогодний. Снега вот только в Москве было маловато — гораздо больше его было в Лесном. В пустынном парке в темноте белели сугробы. Пруды замерзли. Дом, флигель, павильон «Зима» — все было заперто, заколочено, недостроено, недоделано, брошено. На обледенелых дорожках не было видно ничьих следов. После всего происшедшего местные жители обходили парк стороной.
Однако не все.
По аллее среди сугробов к скованному льдом Царскому пруду шествовала осторожно, с опаской маленькая сгорбленная фигурка в овчинном полушубке и валенках. — Ничего не видать, хоть глаз коли… Выходил — месяц был, а тут провалился куда-то, — бормотала фигурка старческим скрипучим фальцетом.
Это был не кто иной, как Алексей Тимофеевич Захаров, о важных показаниях которого Катя столько всего написала в своем репортаже.
Но Захаров этого не знал. Ему вообще было не до таких пустяков. Он пустился в путь из родных Тутышей в Лесное по нехоженой зимней тропе совсем не ради уголовного дела. Он с усилием волочил за собой санки, а на них притороченный тяжелый сверток в брезенте. В нем время от времени что-то глухо многозначительно звякало.
Достигнув берега пруда, Захаров остановился, сдвинул на затылок старую кроличью шапку, вытер взмокший, лоб. Прямо перед ним белел в темноте заснеженный провал — яма с обмерзшими неровными краями.
Захаров нагнулся к санкам, раскрыл брезент — там были лом и лопата. Он взял то и другое в охапку, засеменил к раскопу, примерился, прыгнул вниз. Охнул — попал прямо в сугроб. В яме было полно снега.
— Ничего, снежок не вода, легкий снежок. Сухой, — шепнул сам себе Захаров. Закинул голову, посмотрел вверх — темное ночное небо, на его фоне сплелись черные голые сучья, как паутина. И вроде месяц являет свои серебряные рога из-за тучи. — Ничего, ничего, как кому, а нам снежок не помеха, — Захаров взял лопату, ковырнул ею сугроб. — Нам ничего не помещает. Слава тебе господи, утихло все, схлынуло… Убрались все восвояси. Они уехали, мы остались. Сорок лет тут живем, кой-что знаем-понимаем. — Он копал уже рьяно, с усилием, расшвыривая снег. — А то как же? Так все и бросить? Столько жертв, столько крови пролито… И все зря? А мы поглядим, проверим, зря ли… А то и сами не ищут, и нам воспрещают… Михала Платоновича Волкова вон тогда в воры записали, опозорили — воруешь, мол, тайком… А у кого воруешь? Чье оно все тут? — он топнул валенком. — Ничего, ничего, ещё поглядим, проверим: В старину-то люди тоже умные были, чай, не врали… Надо только за такие дела умеючи браться, не бросать на полдороге. Ну, — он широко перекрестился, — бог свидетель, не из алчности, не по стяжательству стараюсь, а просто…
Он конфузливо вздохнул, покачал головой и, взяв в руки лом, тюкнул им в смерзшуюся землю. Начал с азартом кладоискателя долбить, добираясь до скрытой снегом и льдом кирпичной кладки.
Стук лома разбудил ворон, дремавших в гнездах на верхушках старых лип. Вороны завозились, закаркали… Все давным-давно знакомо. Сколько помнили себя птицы, люди вечно, во все времена что-то искали в старом парке. А что они искали и зачем им это нужно — воронам было непонятно.
Назад: Глава 30 РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
На главную: Предисловие