7
Но оставим в стороне все мысли о далеком будущем и о возможном перевороте в деле воспитания; спрашивается, что нужно в настоящее время желать и, в случае надобности, доставлять тому, кто готовится быть философом, чтобы он вообще мог передохнуть и чтобы ему было обеспечено, конечно, не легкое, но все же возможное существование Шопенгауэра? Что, кроме того, нужно было бы изобрести, чтобы сделать более вероятным его воздействие на современников? И какие препятствия должны быть устранены, чтобы прежде всего сделать действительно влиятельным его пример, чтобы философ мог воспитывать философов? Здесь наши размышления входят в область практического и щекотливого.
Природа всегда хочет быть общеполезной, но она не всегда умеет найти для этой цели лучшие и удобнейшие средства и приемы; в этом – ее великое страдание, поэтому она грустна. Что созданием философа и художника она хотела сделать человеку бытие понятным и значительным – это ясно из ее собственного влечения к искуплению; но как неверно, как слабо и бледно действие, которое она в большинстве случаев достигает с помощью философов и художников! Как редко это действие вообще имеет место! Особенно большие затруднения доставляет ей общеполезное применение философа; она подвигается здесь как бы на ощупь и с помощью случайных догадок, так что ее намерения бесчисленное множество раз не удаются и большинство философов не становятся общеполезными. Поведение природы кажется расточительностью, но это – расточительность не от буйной роскоши, а от неопытности; можно предполагать, что, будь она человеком, ее досада на себя и на свою неумелость была бы безгранична. Природа пускает философа, как стрелу, в людей; она не целится, но надеется, что стрела куда-нибудь попадет. При этом она множество раз ошибается и испытывает огорчение. В области культуры она столь же расточительна, как когда сажает и сеет. Своих целей она достигает на один общий и тяжеловесный лад; и при этом она растрачивает слишком много сил. Отношение между художником, с одной стороны, и знатоками и любителями его искусства – с другой, таково же, как отношение между тяжелой артиллерией и несколькими воробьями. Это есть образ действия, свойственный наивному усердию: катить лавину, чтобы сдвинуть немного снегу, убить человека, чтобы согнать муху с его носа. Художник и философ свидетельствуют против целесообразности средств природы, хотя они представляют блестящее доказательство мудрости ее целей. Они действуют лишь на немногих, а должны действовать на всех; и даже в этих немногих философ и художник попадают не с той силой, с какой они посылают свой заряд. Печально, что приходится столь различно оценивать искусство как причину и искусство как действие! Сколь грандиозно оно как причина и сколь слабо, наподобие тихого отголоска, в своем действии! Нет сомнения, художник созидает свое творение согласно воле природы, для блага других людей; и тем не менее он знает, что никогда уже никто из этих других людей не будет понимать и любить его творение так, как он сам понимает и любит его. Итак, эта высокая и единственная степень любви и понимания, в силу неумелого распоряжения природы, необходима для того, чтобы возникла низшая степень того и другого; более высокое и благородное употреблено как средство для возникновения более ничтожного и низменного. Природа хозяйствует неразумно, ее расходы значительно превышают достигаемый ею доход; при всем своем богатстве она когда-нибудь должна разориться. Она устроилась бы разумнее, если бы руководилась хозяйственным правилом: мало издержек и стократный доход; если бы, например, существовало лишь немного художников, и притом сравнительно несильных, но зато множество воспринимающих и наслаждающихся искусством, и если бы последние имели более сильную и могущественную натуру, чем сами художники, – так, чтобы действие художественного произведения было в сто раз сильнее его самого. Или, по меньшей мере, можно было бы ожидать, что причина и действие будут равносильными; но как мало природа удовлетворяет это ожидание! Часто похоже, что художник, а тем более философ, случай для своей эпохи, что они – отшельники или заблудившиеся путники в чужом обществе. Попробуйте только прочувствовать всей душой, всецело и до конца, как велик Шопенгауэр и как мало, как бессмысленно его влияние! Ничто не может быть постыднее именно для честных людей нашей эпохи, чем видеть, сколь случайным является в ней Шопенгауэр и какие силы и препятствия ослабили его влияние. Сначала и долго ему препятствовало отсутствие читателей – к вечному позору для нашего литературного периода; затем, когда читатели пришли, – неумеренность его первых публичных свидетелей; еще более, мне кажется, отупение всех современных людей в отношении книг, которые они решительно отказываются брать всерьез: постепенно сюда присоединилась еще одна опасность, возникшая из многочисленных попыток приспособить Шопенгауэра к слабосильной эпохе или потреблять его как чужеродную и заманчивую пряность, как своего рода метафизический перец. Правда, он постепенно стал известен и знаменит, и я думаю, что уже теперь его имя знает большее число людей, чем имя Гегеля; и все же он еще отшельник, все же его действие еще не обнаружилось! Менее всего честь противодействия ему принадлежит его литературным противникам и хулителям, во-первых, потому, что каждого, кто на это способен, они непосредственно приводят к Шопенгауэру, ибо кого же может убедить погонщик ослов не ездить на прекрасном коне, как бы он ни расхваливал своего осла за счет коня?
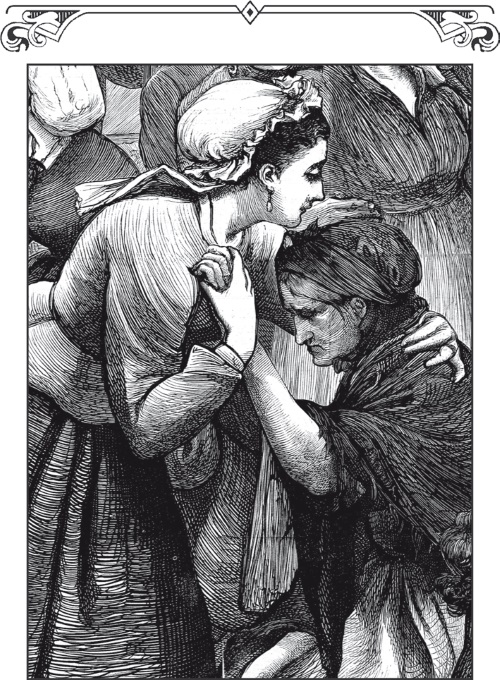
Но кто понял неразумие в природе нашего времени, тот будет искать средства против него: его задачей будет ознакомить с Шопенгауэром свободные умы и всех, кто глубоко страдает от нашего времени, собрать их, создать из них течение, чтобы с помощью его преодолеть ту неумелость, которую природа обнаружила здесь, как и обычно, при употреблении философа. Такие люди усмотрят, что одни и те же препятствия мешают действию великой философии и преграждают путь созданию великого философа; поэтому они могут определить свою задачу как подготовку воссоздания Шопенгауэра, т. е. философского гения. Но то, что сопротивлялось с самого начала действию и распространению его учения и что стремится также всеми средствами загубить и это возрождение философа, есть, коротко говоря, вычурность современной человеческой натуры; поэтому все, кто на пути стать великими людьми, должны растратить невероятную силу, чтобы только спасти себя самих от этой вычурности. Мир, в который они теперь вступают, опутан сетью уловок; это – отнюдь не обязательно религиозные догматы, но и такие скользкие понятия, как «прогресс», «общее образование», «национальность», «современное государство», «борьба за культуру»; можно даже сказать, что все общие слова носят теперь на себе искусственное и неестественное одеяние, и поэтому более светлая позднейшая эпоха признает наше время в высшей степени уродливым и искаженным, как бы громко мы ни кичились нашим «здоровьем». Красота античных сосудов, говорит Шопенгауэр, лежит в том, что они так наивно выражают то, для чего они предназначены; и то же применимо ко всей остальной утвари древних: чувствуешь, что если бы природа сама создала вазы, амфоры, лампы, столы, стулья, шлемы, щиты, панцири и прочее, они имели бы именно такой вид. Напротив: кто теперь смотрит, как почти каждый возится с искусством, государством, религией, культурой, – по многим основаниям мы умалчиваем о наших «сосудах», – тот находит у людей некоторую варварскую произвольность и чрезмерность выражений, и развивающемуся гению более всего мешает то, что в его время в ходу такие чудные понятия и такие капризные потребности; это – та свинцовая тяжесть, которая столь часто незаметно и необъяснимо лежит на его руке, когда он ведет свой плуг: и даже величайшие его произведения, насильственно освобождаясь от этого давления, должны до известной степени нести на себе признаки этой насильственности.
Отыскивая условия, с помощью которых в счастливейшем случае прирожденный философ не будет по крайней мере задавлен этой современной вычурностью, я замечаю нечто знаменательное: это – отчасти именно те условия, в которых, в общем и целом, вырос сам Шопенгауэр. Правда, не было недостатка и в противодействующих условиях: так, в лице его тщеславной и изысканной матери ему угрожала близость этой вычурности нашего времени. Но гордый и республикански свободный характер его отца как бы спас его от матери и дал ему первое, что необходимо философу: непоколебимую и суровую мужественность. Отец его не был ни чиновником, ни ученым: он часто путешествовал с юношей по чужим странам – условие, благоприятствующее тому, кто хочет знать не книги, а людей, и почитать не правительство, а истину. Своевременно он стал нечувствительным к национальным ограниченностям или научился остро сознавать их; он жил в Англии, Франции и Италии, как на родине, и чувствовал немалую симпатию к испанскому духу. В общем он не почитал за особую честь быть рожденным именно среди немцев; и я даже не знаю, переменил ли бы он свое мнение при новых политических условиях. О государстве он, как известно, полагал, что его единственная цель – давать охрану внешнюю, охрану внутреннюю и охрану против охранителей, и что, когда ему приписывают еще иные цели, помимо охраны, это легко может угрожать его истинной цели: поэтому он, к ужасу так называемых либералов, завещал свое имущество вдовам и сиротам тех прусских солдат, которые в 1848 году пали в борьбе за порядок. Вероятно, отныне все более будет признаком духовного превосходства, если кто умеет просто смотреть на государство и его обязанности: ибо у кого есть в душе furor philosophicus, у того уже не будет времени для furor politicus; и такой человек мудро остережется читать каждый день газеты, а тем более служить какой-либо партии; хотя он ни на мгновение не поколеблется в случае действительной нужды своего отечества быть на своем посту. Все государства, в которых о политике должны заботиться, кроме государственных деятелей, еще другие люди, плохо устроены и заслуживают того, чтобы погибнуть от этого множества политиков.
Другое весьма благоприятное для Шопенгауэра условие состояло в том, что он не сразу был предназначен и воспитан для ученой карьеры, но некоторое время, хотя и с отвращением, работал в купеческой конторе и во всяком случае всю свою юность вдыхал более свежую атмосферу крупного торгового дома. Ученый никогда не может стать философом; даже Кант не смог стать им, а, несмотря на врожденное влечение своего гения, до конца оставался как бы в состоянии неразвернувшейся куколки. Кто думает, что в этих словах я несправедлив к Канту, тот не знает, что такое философ: ибо философ – не только великий мыслитель, но и настоящий человек; а когда же ученый мог стать настоящим человеком? Кто между собою и вещами ставит понятия, мнения, прошедшие времена и книги, т. е. кто в широчайшем смысле слова рожден для истории, тот никогда не увидит вещи впервые и никогда не будет сам такой впервые виданной вещью; у философа же то и другое стоит в связи, так как наибольшее поучение он приобретает из себя самого и так как он служит самому себе копией и сокращенным выражением всего мира. Если же кто созерцает себя в свете чужих мнений, то не удивительно, что он и в себе не видит ничего, кроме – чужих мнений! И таковы ученые, так они живут и созерцают. Напротив, Шопенгауэр имел неописуемое счастье видеть гения вблизи – не только в себе, но и вне себя, в Гёте; это двойное отражение основательно научило и умудрило его относительно всех ученых целей и культур. Благодаря этому опыту он знал, каким должен быть свободный и сильный человек, к которому стремится всякая художественная культура; мог ли он после того, что он видел, иметь много охоты заниматься так называемым «искусством» по ученой или сверхкритической манере современных людей? Ведь он видел даже нечто еще более высокое: страшную небесную картину суда, в которой вся жизнь, даже высшая и совершенная, была взвешена и найдена слишком легкой; он видел святого, как судью бытия. Невозможно определить, как рано Шопенгауэр узрел эту картину жизни, и притом именно в той форме, в какой он позднее пытался передать ее во всех своих произведениях; можно доказать, что уже юноша – и хотелось бы верить, что уже ребенок – имел это страшное видение. Все, что он позднее усваивал из жизни и книг, из всех областей науки, служило ему почти лишь краской и средством изображения; даже философией Канта он воспользовался прежде всего как исключительным риторическим орудием, с помощью которого, как ему казалось, он мог еще отчетливее высказаться об этой картине; и той же цели у него по временам служила буддистская и христианская мифология. Для него существовала только одна задача и сотни тысяч средств, чтобы разрешить ее; один смысл и бесчисленные иероглифы, чтобы его выразить.
К прекрасным условиям его существования принадлежало то, что он действительно мог жить для такой задачи, согласно его девизу: vitam impendere vero, и что его не пригибала никакая подлость, связанная с жизненной нуждой; известно, как горячо он благодарил своего отца именно за это; тогда как в Германии теоретический человек по большей части осуществляет свое научное назначение за счет чистоты своего характера, как «бесцеремонный пройдоха», ищущий мест и почестей, осторожный, гибкий и льстивый в отношении влиятельных лиц и начальников. К сожалению, Шопенгауэр ничем не обидел многочисленных ученых более, чем своим несходством с ними.

