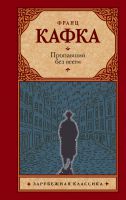22
Время, не отданное любви, потеряно зря
Если я стар, это еще не значит, будто я забыл, что такое любовь. Нечто наподобие этого говорил Леандро; только я забыл, где именно. Проклятье. Память у меня уже не такая ясная. А ведь всегда все помнил. Знал, что хорошо, что плохо, помнил собаку у дверей клуба «Белладонна». Как обдумывали, рассчитывали, строили планы, как лязгали цепи в подземной темнице.
Леандро вел беседы со мной в сумерках, когда вокруг прогуливались отдыхающие. Наверное, где-то на водах. Так нежно журчали фонтаны.
Здесь, во Флоренции, где я сейчас живу, в саду Боболи тоже есть очень красивый фонтан. Он называется «Океанус», окружен рвом и обсажен цветами. Вокруг него, смеясь, бегала маленькая девочка с рыжеватыми соломенными кудряшками. Она искала свою звезду желаний.
«Закрой глаза и загадай желание», — сказал однажды Хогарт Белладонне, а потом обманул ее.
Я закрываю глаза, но желаний больше не осталось. Вспоминать становится все труднее. Она здесь, но ее здесь нет. Живой призрак — так назвал ее однажды Притч. Он тоже ушел. Вышел однажды из дверей пивной «Ведьмино зелье», поскользнулся и разбил себе голову. Чудесную лысеющую голову, полную гениальных идей, планов и расчетов. Она разбилась и истекает кровью.
Или это был Хогарт? Его голова тоже раскололась. Так ему и надо, правда? Растерял волосы, а потом потерял и голову. Но получил по заслугам, ни больше ни меньше. Хогарт и все остальные. Члены Клуба.
Будь внимательнее, Томазино, ты стал старым дураком. Проворство покинуло меня. У меня много лет была цель в жизни. У нас у всех была цель. Мы действовали, обдумывали, строили планы, а потом нашли его, и все окончилось.
Секрет вечной молодости — в вечном движении.
Мне кажется, эти слова тоже принадлежали Леандро, но он умер, покинул нас, потому что мы уже были готовы действовать без него. Мне пришлось покинуть Белладонну. Она нарочно обвинила меня. Я был ей больше не нужен. Я, ее верный Томазино. Я побоялся, что она никогда не простит меня. А тогда у меня не будет причины оставаться в живых.
Я сжимаю тросточку Леандро с золотой львиной головой на рукоятке. Она поддерживает меня, когда я выхожу на прогулку. Я часто гулял с Маттео по саду Боболи. Он долго жил с семьей в Ла Фениче, пока дети не выросли и не разлетелись по свету. Когда Аннабет внезапно заболела и умерла, Маттео послал мне письмо через контору Притча. Через некоторое время я разрешил ему отыскать меня в Италии. Он тоже чувствовал себя неважно, поэтому мы не обсуждали ни его больные темы, ни мои. Я сказал ему только одно: нам нельзя ехать в Ка-д-Оро — там живет слишком много воспоминаний, которые мне хочется забыть. Мы поселились в просторной квартире с широкой террасой на крыше, где выращивали в горшках базилик и сидели в мягких креслах, любуясь закатом. Именно в Италии все это и началось. Закончилась наша прежняя жизнь, началась новая.
* * *
В ту ночь я разбудил привратника Тибо, рассказал, что меня призывают безотлагательные семейные дела, и попросил подвезти в аэропорт. Дескать, я не хочу будить Белладонну. Я взял с собой всего пару чемоданов с вещами, небольшую стопку книг из библиотеки Помпадур, лаковую автоматическую ручку, тросточку и «кошачий глаз» — подарки Леандро, да несколько фотографий. Я не мог взять больше — иначе Тибо заподозрил бы неладное. К тому же мне не хотелось обременять себя багажом, особенно той коллекцией блестящей мишуры, которая скопилась у меня за долгие годы. И уж тем более нельзя было брать с собой заснеженный пейзаж Утрилло. Денег у меня хватало — точнее говоря, я был несметно богат. Я мог купить себе все необходимое там, где пожелаю остановиться.
Я вылетел в Нью-Йорк и позвонил Джеку. Он встретил меня в аэропорту Айдлуайлд. Мы сидели в зале ожидания, глядели, как спешат мимо нас усталые путешественники, и рассказы лились рекой. Джек слушал без улыбки, изредка кивая, и мне почему-то вспомнился наш давний разговор в «Уолдорфе», когда мне не терпелось поделиться с ним замыслами относительно клуба «Белладонна». Потом он сказал, что хотел бы в трудную минуту оказаться рядом с нами, чтобы помочь, и мне стало немного легче. Он позвал меня к себе на Горацио-стрит поздороваться с Элисон — та носила под сердцем их первого ребенка, пригласил пожить, сколько мне захочется, но я отказался. Этот дом больше не был моим. Коридор, ведущий в клуб «Белладонна», был давно перекрыт, интерьеры изменены. От былого величия не осталось и следа, пурпурную дверь заложили кирпичом. Об этом клубе говорили вполголоса, будто о призраке. Словно он существовал только в сказочных снах.
Мне это зрелище было невыносимо.
Джек бросил на меня проницательный взгляд и спросил, не хочу ли я передать кому-нибудь письмо. Я отрицательно покачал головой.
— Рано или поздно она позвонит, станет меня искать, — сказал я. — Но я не скажу, куда направляюсь, ни тебе, ни даже моему брату — никому. Я знаю все ваши уловки, мистер Уинслоу, и уловки Притча тоже. Я не допущу, чтобы меня нашли.
— Томазино, не делай этого, пожалуйста, — сказал он.
— Так надо, — ответил я. — Просто скажи ей, что я не хочу, чтобы меня нашли. Она поймет.
Джек не стал спорить. Он слишком хорошо знает меня. Приподняв шляпу, он зашагал прочь и вскоре растворился среди толпы пассажиров так виртуозно, что я мысленно поаплодировал ему. Я сел на самолет, потом пересел на другой и только затем улетел. Осторожность никогда не помешает.
Время от времени я давал о себе знать в контору Притча — просто затем, чтобы они знали, что я еще жив и мой брат не слишком волновался. Изредка я звонил ему, но всегда — заранее договорившись о времени, и никогда не звонил в дом на плантации. Однажды он стал уговаривать меня вернуться; мол, он объяснил Белладонне, что на нем вина лежит не меньше, чем на близнеце, и она нас простила, но я, не дослушав, повесил трубку.
Много лет я прожил на Мадагаскаре, в Тунисе, на Тасмании, в Чили, в Ириан-Джайе. Иногда просил туристов отправить мои нечастые письма из того места, куда они направляются, чтобы меня не выследили. Я прекрасно научился обдумывать, строить планы, держаться впереди них всех на один шаг. В конце концов я привык путешествовать по свету, прикрываясь бесчисленными поддельными паспортами. Я менял имена так часто, что почти забыл свое прежнее имя. Когда-то меня звали Томазино.
Секрет вечной жизни…
Проклятье. Я начинаю повторяться.
Трудно вспомнить подробности. Предпочитаю смотреть, как люди приходят и уходят, вышагивают с чувством собственного превосходства, как я ходил когда-то. Болтовня туристов иногда страшно раздражает. Особенно не люблю американцев в коротеньких юбочках или уродливых синих джинсах, с длинными сальными волосами. Ужасные неряхи и болтуны. При виде их Хогарт брезгливо поднес бы платочек к носу. Но Хогарт мертв, не так ли? Его идеально круглая лысеющая голова раскололась, как вареное яйцо, стукнувшееся о тарелку.
Говорил ли я уже об этом? Иногда на прогулках я разговариваю со встречными. Мне нравится гулять по музею Барджелло, а больше всего я люблю зал делла Роббиа. Я втискиваю свое могучее тело в одно из деревянных кресел в коридоре, потому что я устал, а день такой жаркий, потом выглядываю во двор. Когда-то здесь стоял эшафот. Интересно, есть ли в Барджелло подземные темницы? Двор наполняют шумом громкоголосые американцы в грязных джинсах, с путеводителями в руках. Если тот, кого бросили в темницу, на съедение крысам, начнет просить о помощи, его криков не услышат за этой суетой. Я мимолетно улыбаюсь, и один из туристов с интересом смотрит на меня. Я тоже американец, но не чувствую никакой общности с этими деловитыми пустозвонами. Я становлюсь забывчив.
Потертый ногами рисунок на каменных плитах дарит странное успокоение.
Маттео тоже любил заходить в этот музей. Когда у него было настроение поболтать, я оставлял его посидеть возле привратников, и он, стыдливо шепелявя, беседовал с ними, как со старыми друзьями. А я отправлялся навестить одну из моих любимых церквей — Санта-Мария-де-Черки, или Сан-Лоренцо, или Санта-Кроче. Под плитами из выщербленного серого мрамора похоронено множество знаменитых итальянцев. Я смеюсь, глядя на восторженных туристов, которые дома даже под страхом смерти не зайдут в церковь поставить свечку. Когда человек путешествует, для него все меняется. В обычных кирпичах и камнях под ногами таится волшебство.
Если, конечно, этими камнями и кирпичами не выложены стены темницы.
Туристы в церкви исчезают, скрытые дымкой моего безразличия. Меня больше ничто не интересует. Бог, какой бы он ни был на небесах, давно забыл про нас.
Я ставлю свечку в Санта-Кроче. Я всегда вычисляю точную сумму, какую попросят служки, а если не угадал — плохая примета. Боги признают только ритуалы. Катерина разбиралась в ритуалах, но она тоже ушла. Все ушли.
Я опускаюсь на колени перед трепещущим пламенем свечей и сцепляю ладони, глядя в побитые мраморные плиты у подножия алтаря. У меня под коленями — могила. От нее остались только едва заметные очертания; под шагами сотен и тысяч ног буквы потускнели, черты покойного на портрете расплылись. Остались лишь тонкие линии на мраморном полу.
Я выхожу из церковных теней на яркий солнечный свет, в нос мне ударяет прокисший запах дешевой кожи, разогретой на солнце, — привычная вонь городского рынка.
Погодите-ка — я ошибся. Я по-прежнему в музее, жду Маттео. Звенит колокольчик — музей закрывается, нам пора идти. Захлопываются двери, в темных коридорах шелестят торопливые шаги. Хнычет малыш, но ворчливые родители обещают ему мороженое, и плач сменяется писклявым смехом.
Мы с Маттео идем к садам Боболи, мимо витрин с перчатками, бумажниками и вручную расписанными блюдами, с красивыми лаковыми авторучками и туфельками на высоких каблуках. Привратники хорошо знают нас и не спрашивают пропусков. Они думают, что нас зовут Тонио и Марчелло.
Хотя Маттео и рассказал мне, что Белладонна, узнав, что я не хочу показываться на глаза, перестала искать меня, все равно нелегко избавиться от старых привычек.
Я угощаю привратников приторно-розовыми марципановыми свинками и ангелочками из ближайшей кондитерской, и они смеются.
— Чао, Тонио, чао, Марчелло, — окликают бакалейщики, когда мы проходим мимо их лавочек шириной чуть больше меня самого. Я приветственно приподнимаю трость.
— Чао, Тонио, чао, Марчелло, — говорит владелец табачной лавки.
Иногда в Боболи, если покрепче зажмурить глаза и как следует сосредоточиться, мне удается представить, будто я сижу на веранде огромного дома в Виргинии, у моих ног расстилаются бескрайние плантации. Вдалеке лают собаки, ржут лошади, мелодично клацают колокольчики на шеях у коров. На полях зреет зерно. Солнце садится, поднимается легкий ветерок, я прижимаю к запястью серебряный бокал с мятным джулепом, чтобы остудить пульс.
Старый прием южных красавиц.
Я открываю глаза. Я по-прежнему во Флоренции, сижу с моим дорогим страшим братом на скамье, в кружевной тени переплетающихся ветвей, протянувшихся над аллеей, как жадные, цепкие руки. Хочу пересчитать бабочек, но их слишком много. Ползут по своим делам ящерки и жуки. Но, заслышав тяжелые шаги старого дряхлого евнуха, в страхе разбегаются.
В самые жаркие дни мы никого не видим в саду целыми часами. Я сижу со своими тетрадями и термосом холодного чая, сдобренного виски. Маттео читает или дремлет. Говорить нам не о чем. Я почти закончил свой рассказ. Работа оказалась тяжелее, чем я предполагал. Нелегко пересказать все, что было, по порядку.
Я рассказал вам все. Как и обещал.
Старался не лгать, но иногда не мог не прихвастнуть, самую капельку. Вы, наверное, уже и сами об этом догадались?
И не приставайте ко мне с настырными расспросами, мои уста на замке. Мы умеем хранить тайны. Все мы.
Я и так рассказал достаточно.
* * *
В конце кипарисовой аллеи, у фонтана, есть звезда желаний. Так ее прозвала Брайони. Девочка увидела ее и радостно подбежала, таща за собой Маттео, ее белокурые локоны развевались на ветру.
Смотри, Маттео, это наша звезда. Встань посередине, вот сюда. Встань и загадай желание.
Потом Брайони отскочила и побежала к воде, к саду на острове посреди фонтана «Океанус». Там в терракотовых горшках, расписанных рисунками, которые ни разу не повторялись, росли ароматные лимонные деревья. Uno, due, tre, — считала Брайони и бежала наперегонки с Маттео вокруг пруда, смеялась от чистой, детской радости. Брайони назначила меня арбитром, велела засекать время. Но я ей был не нужен, потому что Маттео всегда поддавался.
Загадайте желание, — говорила она ветру и бабочкам.
Загадай желание.
Однажды зимним днем я хочу прогуляться к фонтану «Океанус», но Маттео говорит, что очень устал. Дует пронизывающий ветер, от холода завяли все цветы на берегах пруда. Мы садимся на нашу привычную скамью, Маттео опирается на мое плечо и погружается в дрему. Я покрепче обвиваю его рукой и укладываю голову к себе на грудь, чтобы он получше поспал. Вокруг его шеи обмотан поношенный светло-серый ангорский шарф, который когда-то связала Брайони. Его чудесные волосы, густые и вьющиеся, почти не поредели, хотя и стали совсем седыми. У нас остались волосы — и больше ничего.
Мне нравится чувствовать возле себя теплую тяжесть брата. Во сне он вздыхает — и вдруг вес его куда-то уходит. Нет, нет, нет. Не может быть. Если я не шелохнусь, не посмотрю на него, то ничего этого не было.
Маленький немецкий мальчик смахивает со скамейки напротив сухие листья и пыль. Аккуратный малыш. Он смотрит на меня и робко улыбается, и эта улыбка чуть-чуть утешает меня. Потом он убегает к родителям.
Да, я всегда был чересчур сентиментален.
Я сижу и глажу волосы Маттео. Они все еще шевелятся под легким дуновением ветерка, тихо шелестят в холодном воздухе, они еще живы. Он немного побледнел, но кожа еще теплая. Он долго останется теплым.
Если я просижу здесь до темноты, нас будут искать. Все забеспокоятся, когда не увидят, что мы, как обычно, ровно в 6:37 вечера направляемся в тратторию на углу съесть вечернюю порцию спагетти, завершая трапезу легким вином и бисквитами.
Мимо плетется, закинув грабли на плечо, старый садовник. Увидев нас издалека, он приветственно кивает. Но, приглядевшись к моему лицу и заметив неподвижного Маттео, в ужасе останавливается.
— Per favore, — еле слышно говорю я. — Per favore.
Он роняет грабли — те падают на гравий с кощунственно громким стуком — и убегает, поспешно крестясь. Через миг он исчезает в сумерках.
Больше никогда я не видел того садовника. Интересно, что с ним стало. Мне хотелось подарить ему что-нибудь на память. Может, он решил, что встреча с нами — дурной знак, а может, одна из племянниц наконец уговорила его удалиться на покой, найти уютный домик на юге, где можно погреть ревматические косточки на теплом солнце и без помех возделывать помидоры.
Не знаю. И никогда не узнаю. Но это не имеет значения, говорю я себе, сидя на скамейке в саду и любуясь на бабочек. Покоя все равно нет.
Иногда я пытаюсь писать в тетради. Сжимаю в руке красивую лаковую авторучку, но слова не приходят. Я закончил начатый труд, верно? Прошел весь путь от начала до горького конца. Знаю, прошел. Проклятье. Вспоминать становится все труднее. Какой жаркий день.
Я почти закончил. А что потом?
Потом я буду грезить наяву.
* * *
Я сижу на моей скамье, погрузившись в дремоту. Перебираю пальцами светло-серый ангорский шарф, тот самый, который был на Маттео, когда он умер. Он любил этот шарф, его связала Брайони много-много лет назад. Петли наползают одна на другую, бахрома неровная. Потом я убираю шарф обратно в карман. Погода слишком жаркая. Я слышу шаги, но от усталости нет сил открыть глаза.
Кто-то трогает меня за рукав, осторожно, как призрак. Мои глаза все еще закрыты. Вот, значит, каким бывает конец? Я не хочу смотреть.
— Томазино, — слышу я свое имя. — Томазино, проснись. — Я, наверное, умер, и меня зовет мой брат. Ради него я готов открыть глаза. Но потом чувствую легкое прикосновение пальцев к руке.
Она терпеть не могла прикосновений.
Ветер шелестит в опавшей листве, до меня доносится едва уловимый аромат. Ее — и в то же время не ее. Наверное, я сплю. И мне приснились мои былые желания, звезда желаний, которая исполняла их для меня. Я всегда желал услышать этот знакомый, любимый голос.
— Томазино, — слышу я опять. Голос не ее. И не Брайони. Голос принадлежит призраку, он пришел дразнить меня.
Белладонна — сладкий звук.
На краткий миг я вернулся в молодость. Снова стал хитрым, самовлюбленным охотником строить козни. Я — шедевр разрушенной цивилизации, так она называла меня, когда я сидел под маской рядом с ней, всемогущий властелин клуба «Белладонна».
О, как я был счастлив тогда! Продумывать, строить планы, наслаждаться их страданиями.
Я сделал это для тебя, Белладонна. И для себя. Если попросишь, я опять сделаю то же самое.
Мне кажется, я умер. Меня зовет Маттео. Я чувствую на руке щекочущее прикосновение его пальцев. Я ему нужен. Я жду его здесь. На этой скамье он меня оставил. Он вернулся; я знал, что он не оставит меня надолго. Однажды он уже оставил меня, женившись на Аннабет. Тогда я радовался за него, искренне радовался. Но, когда она умерла, он сказал, что никогда больше меня не покинет. Он вернется, мы пойдем гулять, как привыкли, я стану болтать, а мой любимый старший брат — молча слушать с восторженной улыбкой.
Я открываю глаза. Моложе я не стал, а мой брат по-прежнему мертв. Я похоронил его рядом с Леандро, на склоне холма в Тоскане. А возле меня стоит девочка. Она очень похожа на Брайони, у нее синие, как море, глаза, но волосы прямые, светло-каштановые. Это не Брайони. Всего лишь жестокий обман зрения в жаркой дымке полуденного солнца.
— Вы Томазино? Вы, наверное, Томазино. Вы очень похожи на Маттео, только толще, — говорит она, потом испуганно зажимает рот ладонью и оборачивается к кому-то позади. Я зажмуриваюсь, но ее тоненькие пальчики барабанят по моему колену, требуя внимания, и я снова открываю глаза. Мое колено больше не подергивается. Оно молчит, как молчу и я. — Томазино, Томазино, — щебечет малышка. — Я знаю, вы Томазино. А я Анжелика, — представляется она. — Мама послала меня поискать вас. У вас в самом деле на тросточке лев?
— Да, золотой лев, — с трудом произношу я, прочистив горло. Мне не хочется разочаровывать малышку, которая похожа на Брайони. — А кто твоя мама?
Она озадаченно смотрит на меня, потом весело смеется. Думает, я ее разыгрываю.
— Моя мама — миссис Гибсон. Ее зовут Брайони. Брайони Брайони Брайони Гибсон, — нараспев говорит она, как любила делать Брайони. — А я Анжелика, как цветок. Цветок Анжелика. А мой папа — мистер Гибсон. По-настоящему его зовут Арундел. Вы знаете, что это означает? Арундел — значит «орлиное ущелье». Арундел Арундел Арундел Сирил Сент-Джеймс Гибсон.
Анжелика — дочь Брайони, которая вышла замуж за Арундела Гибсона. Как я мог забыть о них, об этой парочке? Как они познакомились? Знает ли Брайони, кто отец Арундела? Кажется, Маттео рассказывал мне о них; наверняка рассказывал. Кто приложил к этому руку — Притч? Или Стрижи? Проклятье. Эта история такая сложная, что мне не под силу оказалось припомнить ее и записать. Я укоряю себя. Нет, дело не в этом. А в том, что они нашли свое счастье.
В моих тетрадях нет места счастью.
Я улыбаюсь Анжелике. Еще один прелестный цветочек, веселое бойкое дитя. И тогда я вижу саму Брайони. Анжелика подбегает к ней и жалуется, что я ее не узнал. Брайони сейчас в том же возрасте, в каком была когда-то Белладонна, намного старше, чем была ее мать, когда мы впервые встретились. Брайони очень похожа на мать, только глаза у нее яркие, сине-зеленые, и в лице нет ни жесткости, ни страха. А в сердце нет гнева. Брайони робко улыбается.
— Томазино, я так скучала по тебе. Все эти годы, — говорит она, садясь рядом со мной на скамью, туда, где всегда сидел Маттео, и ласково кладет руку мне на локоть. — Наконец-то мы нашли тебя. Нам позвонили из Ка-д-Оро после того, как твой брат… После похорон Маттео. Тогда мы узнали, что ты дозволишь нам найти тебя.
— В самом деле? — говорю я, делая вид, что очень удивлен. Мне не хочется говорить о брате. Лучше я буду любоваться Брайони. Она так похожа на мать. Кажется, я уже говорил это; простите, забыл. — Ты скучала по мне?
— Ах ты, милый мой сумасброд. — Брайони целует меня в щеку. Белладонна никогда не целовала меня. Она терпеть не могла прикосновений. И вдруг я вижу, что по щекам Брайони струятся слезы. Почему она плачет? Неужели я стал до того уродлив?
— Конечно, скучала, — говорит Брайони, утирая слезы. — Мы все страшно скучали. А больше всех — моя мама. Лопух ты, лопух. Как же ей не скучать? Я была уверена, что ты приедешь на свадьбу, и все утро плакала, потому что ты не видел меня в праздничном платье. А ведь я держала букет… И на фотографиях мое лицо получилось опухшим.
— Правда? — с восторгом спрашиваю я. — А что за свадьба такая?
— Мамина, — говорит она дрожащим голосом. — Мама вышла замуж за Гая. — Она достает из сумочки белый носовой платок и вытирает нос. — А потом я, вопреки всему, надеялась, что ты приедешь на мою свадьбу. Даже Маттео сказал, что, может быть, ты приедешь.
— Ты всегда больше любила Маттео, — возражаю я. Она горестно смеется.
— Томазино, ты нам нужен. Она не может без тебя; так и не привыкла, за все эти годы. Никто с тобой не сравнится, даже Гай. — Брайони вздыхает, потом печально смотрит на меня. Я рад, что она не называет Гая «мой отец». Интересно, много ли ей известно? Рассказали ли они ей правду?
Я никогда не задам ей этого вопроса.
— Томазино, пойдем со мной, — просит Брайони. — Я хочу загадать желание.
Я отрицательно качаю головой. Я слишком устал, нет сил встать. И боюсь, что я вижу сон; стоит мне пошевелиться — видение исчезнет, и я проснусь в одиночестве.
— Пожалуйста, — умоляет Брайони. — Прошу тебя. Пойдем к звезде желаний. Ты мне нужен.
Проклятье. Я никогда не мог отказать тому, кто нуждается во мне.
Брайони осторожно тянет меня за руку, и я встаю. Анжелика скачет на одной ножке впереди нас, отбрасывая ногами камушки с дороги, и распевает веселые песенки, которые так любила ее мама. Мы идем медленно, я стараюсь не слишком тяжело опираться на трость. Очень жарко, я страшно устал.
— Томазино, — слышен чей-то голос. Я закрываю глаза. Все-таки я умер, на сей раз по-настоящему. Мы все умерли и перенеслись на небеса. Здесь со мной — все, кого я любил, и в саду на ярком солнце весело журчит фонтан.
— Томазино, — повторяет она. Я знаю — она близко. Чувствую ее рядом, ощущаю аромат ее духов, такой утонченный, такой нежный, аромат растений, которые могут убить вас одной каплей своего сока.
Она всегда умела мгновенно появляться из ниоткуда, когда ее меньше всего ждешь. Никогда не мог понять, как ей это удается.
Я многого никогда не пойму.
Я открываю глаза, и она передо мной — отрада моего сердца, моя милая Белладонна, она стоит возле меня. В ярких зеленых глазах блестят слезы, и она тоже прикусывает губу. Она, неколебимая Белладонна, в слезах!
Наверное, стряслось что-то очень серьезное.
— Почему на твоих глазах слезы? — спрашиваю я, стараясь говорить легкомысленно. — Ты не из плаксивых.
Ее волосы собраны на затылке в совсем не модный в эти дни пучок, и на первый взгляд она совсем не постарела с того дня, как я в последний раз видел ее, с того дня, как я двадцать пять лет назад бежал из Ла Фениче. Нет, лицо у нее другое. Щеки округлились, стали мягче, женственнее. Печать ярости не искажает ее лицо, не сковывает его в непроницаемую, пугающую маску.
Но, хоть она и стала мягче, она не забыла. И никогда не забудет.
Мне надо идти, хочу сказать я ей сейчас, надо идти. У тебя есть Гай и мой брат, перед вами расстилается долгая жизнь, которую вы проведете вместе, и я тебе больше не нужен. Увидев меня, ты каждый раз будешь вспоминать…
— Я хотел найти покой, — говорю я ей.
— О, Томазино, — молит Белладонна. — Вернись ко мне, прошу. Умоляю. Я не могу без тебя. Честное слово, не могу. Ты мне нужен.
Три коротких слова.
Так мы просим друг у друга прощения. Слова остаются непроизнесенными, но отзвук их мерцает в солнечной дымке, будто крылья бабочки.
Будто эхо шагов, что замирают в коридоре темницы, навсегда исчезая в темноте.
Белладонны не существует; она никогда не была настоящей. И навеки останется недосягаемой, неумолимой, таинственной богиней темного подземного царства.
А я навсегда останусь ее верным Томазино.
Потом я вижу Гая — он прислонился к ограде фонтана. Он по-прежнему ослепительно красив, хотя лицо прорезано глубокими морщинами, а в волосах даже больше седины, чем у меня. Насчет Гая я был прав, самодовольно говорю я себе. Вокруг него тот же легкомысленный ореол, какой я заметил, когда впервые подслушал в клубе «Белладонна» его разговор — он со смехом рассказывал о социопатическом сквайре и прикуривал от зажигалки в дамском ожерелье. Гай машет рукой худощавому мужчине со светло-каштановыми волосами, ниспадающими на лоб. Взгляд у него хмурый. Он немного похож на Хью, решаю я. Наверное, таким был Хью в молодости. Он представляется: Арундел Гибсон. Муж Брайони, отец Анжелики.
Вот мы, наконец, и встретились. Когда-то, давным-давно, этот человек оказал нам неоценимую услугу.
Неужели Брайони уже выросла, у нее муж и ребенок? Не может быть. Ведь я уехал от них только вчера, разве не так?
— Томазино, пойдем с нами, — говорит Гай. — Пойдем домой. Ты нам нужен. Ты нужен мне. Горничная вынесла все книги из библиотеки Помпадур, чтобы стереть с них пыль, и оставила их в полнейшем беспорядке. Вернись, прошу тебя. Скоро приедут в гости Хью и Лора. Вернись, пожалуйста. Кроме того, — заговорщически подмигивает он, — никто не умеет готовить мятный джулеп так, как ты.
Книги Помпадур, Библия Помпадур. Тайна в…
Белладонна сквозь слезы улыбается мне. Ее ладони смыкаются на моих руках, лежащих поверх головы золотого льва на тросточке Леандро.
Анжелика бегает вокруг звезды желаний, ее волосы развеваются за спиной.
— Загадай желание, — со смехом кричит она.
Загадай желание!
Мы стоим в лучах солнца и смотрим, как она бегает наперегонки с отцом. Он всякий раз поддается ей. Как Маттео поддавался Брайони.
Порыв ветра доносит едва уловимый пряный аромат. Наверное, Nerium oleander. Цветки такие нежные, такие пахучие. Нет, нет, нет. Это Atropa belladonna. Цветки — прелестные красные колокольчики, ягоды черные и блестящие, как шерстка коккер-спаниеля.
Что же это, если не Белладонна?
О, сладкий, сладкий яд!