Книга: Собрание произведений в пяти томах. Том 4. Девяностые
Назад: Капитану-наставнику Петрову П. О.
Дальше: Эмигрант
Опять жалко нас
Жалко нас. Никто за нас не хочет пройти наш путь. Придется нам. Жалко нас. Жалко. Не надо впадать в отчаяние. Я думаю, что мы преодолеем. Мы – это, конечно, не мы теперешние, а все мы с последующими. Теперешних нас, конечно, жалко. Из того, что обещали, – ничего, ни они нам, ни мы им. Что умели – забыли. Что умеем – никому не нужно.
Живем меньше всех, болеем потому что!.. Производство потому что старое и грязное. И нам его надо выключить. Совсем… Оно нам ничего не дает, ни одежды, ни машин. А нельзя выключить, потому что мы тогда не будем похожи на державу. А сейчас похожи. И мы тогда не сумеем объяснить, чего добились за семьдесят лет. А сейчас мы говорим – посмотрите… И все, действительно, видят дымы, сполохи, составы…
– А почему же вы такие оборванные?
Этого мы объяснить не можем и тащимся на производство, а вечером домой. И не можем объяснить, почему мы утром тащимся на производство, а вечером домой?.. На производство, чтоб, значит… а домой, чтоб еще раз… Нет, наоборот.
Конечно, жалко нас, тем более что производство, обрывая старую одежду, не делает новой. А воздух отравляет… Также и хозяйство, почти не давая продуктов, здорово при этом отравляет воду навозом, то есть хозяйство практически проедает то, что производит, а производство то, что производит, тут же переплавляет, выделяя при этом газы в среду обитания, потому что им больше некуда… И было бы понятно: полно мяса и фруктов – жри, хотя там яд. Или масса авто – езжай, хоть там газ. Красивая смерть от переедания и путешествий. Но выделять яд вместо продуктов и газ вместо машин – нехорошо. И ходить на производство, чтоб там выделять еще больше яду и газу – еще больше нехорошо. Но многие ходят, чтоб не быть одному и спросить друг друга, отчего это так происходит и есть ли другой путь, кроме ранней смерти от пищевой недостаточности и воздушных отравлений? Очевидно есть, беседуют они, но как на него попасть? Чужих просить стыдно, чтоб казаться Державой, а свои могут и не понять.
Предлагают разные версии, так некому начинать. А если кто и начнет, все на него смотрят. Он силится казаться счастливым, а потом перестает и тихо подвывает, все громче переходя от рулады к руладе, чтоб привлечь к себе внимание. Но у нас несчастный внимания не привлекает, только счастливый и поющий бесплатно. Это в основном дети. Потом и они разбираются, затихают и уже живут так просто, без внимания и без видимых причин.
Конечно, сейчас жить стало гораздо интереснее, хотя и бессмысленно. Возникают довольно крупные конфликты на небольшой разнице в имуществе. Большой она быть не может. Семьдесят лет следили, старались стучать… Некоторые, потеряв интерес к замкнутому производству, догадываются, что их настоящие враги живут где-то в низине или за лесом. Они говорят, что именно эти люди мешают им жить, и на грузовиках едут их искать, и находят, и жгут их небольшое имущество, чтоб вернуться и вздохнуть свободно.
Однако ничего не скажешь, жить осталось гораздо интереснее. Только жаль, если недолго. Это будет жаль. Хотя недолго жить мы привыкли. Тем более сейчас, в переходный период от одной неясной жизни к другой…
На государство работать перестали, на себя еще не начали, поэтому много аварий. Провожая поезд с родственниками, мы уже не знаем, куда мы их провожаем.
Очень хочется подойти к образованному человеку и вежливо спросить, не знает ли он случайно, когда кончится переходный период и что для этого нужно, и нельзя ли эксперимент проводить в другом месте, где нет людей, и действительно ли нужно работать еще лучше, просто так, вдруг, с двадцатого числа, или, может быть, подождать.
Работать еще лучше – мы слышали всю свою жизнь. А так как никакого результата не было, то кажется, они хотели, чтоб мы не работали, а мучились – пришел к восьми и мучаешься до пяти; и все зрители радуются. Так что этот способ мы знаем. А нет ли другого, если поискать?
Мы бы могли забастовкой поддержать. Так вроде она уже давно идет. Осталось воду отключить. Хотя и от этого только здоровее будем…
В общем, мы можем потерпеть, но хорошо терпят, когда знают – для чего. Очень знать хочется. А не будем знать, то возникает неприятное ощущение, что на этом все кончится.
– Как? Только что было целое общество, огромное бурное с парламентом?!
– Все… Нет больше. Кончилось.
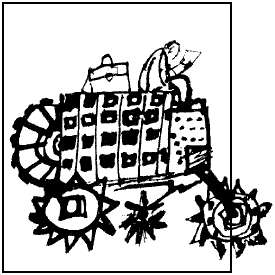
Эпицентр – это не сам центр, а наше отношение к нему.Он такой красивый. Его умыть, одеть и можно подавать к столу.Снова простая вещь. Гуляешь небрежно одетый по суровому морозу в окрестностях, где живешь. Гуляешь, гуляешь. Обратно нечем. Автобуса нет. Гуляешь назад до полного околения. Случайно попадаешь домой. Раз-деваешься в тепле, садишься к письменному столу. И пишешь, пишешь и получаешь наслаждение. Не от работы, конечно, от тепла.На дверях КГБ: «Прием граждан круглосуточно».– А выдача когда?

Вначале были правы те, кто уехал.Потом недолго были правы те, кто остался.Потом долго были правы те, кто уехал.И опять недолго правы те, кто остался.Сейчас снова правы те, кто уехал.Хотя когда-нибудь слова «уехать» и «возвратиться» будут значить одно и то же. Это будет зависеть от того, куда еврея поставишь лицом.Почему здесь так коротко живут друзья? Поживут, поживут, приучат к себе и исчезают. Ни один не остается с тобой. Умирают, уезжают, превращаются в других.Язык воспоминаний – на нем сегодня и не поговоришь.Очень коротко живут в этой стране люди, дома, могилы.Чуть-чуть – и не с кем, одни последние известия.

Мы жизнь не выбирали – мы в нее попали, как лисица в капкан. А будешь освобождать лисицу, она тебе лицо порвет.У человека, вычисляющего национальность, – жизнь язвенника. Все наслаждаются, а ему того нельзя, этого нельзя…Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз.Сам капризен и витиеват.Сути не имею. Любовью не болею.Слов не держу. Звоню когда хочу.Когда хочу немею.Когда хочу, когда могу,Когда могу – жалею.

Неудовлетворенными остались наши вертикальные потребности.Жизнь свелась к сбору горизонтальных благ.Да. Вся штука в том, что ты стремишься в институт, в консерваторию, в скрипку, в науку, в спорт, лезешь наверх, напрягая все силы, чтобы доказать, что ты не еврей.И наступает момент, когда ты становишься не евреем, а Ойстрахом, Гилельсом, Плисецкой или Пеле.Но всегда будут люди выше или наравне с тобой, и для них ты опять еврей.И что тебе тут посоветовать, кроме как принять, наконец, это звание и умереть среди своих.У нас в Приднестровье воевать труднее, чем в Афганистане.Форма одинаковая, лица одинаковые, язык одинаковый.– Так чего же вы воюете?– Чтоб ответить на этот вопрос.

– Папа, – сказал сын антисемиту. – Я еврей!– Как?– А вот так.Когда чувствуется, что весь мир лжет? Когда тебе в самолете объявляют, что разница во времени между Москвой и Нью-Йорком всего 8 часов.– Я впервые в вашей стране, – сказала американка.– Мы тоже, – сказали мы.– Не представляю, – сказала американка.– Вот, вот, вот, – сказали мы.– Вы знаете, я бы здесь, наверное… – сказала американка.– Вот, вот, вот, – сказали мы.– Как вы здесь живете?– Надо! Кому-то надо, – сказали мы.– И это вы?– И это мы, – сказали мы.И со всех сторон пошло уважение.

А иностранцы думают, что у нас видеомагнитофонов нет, за овощами очередь, вода с перебоями, мяса нет, купаться нельзя, надеть нечего. Ну и черт с ними.Чего их переубеждать.Я дошел до того, что могу позвонить в Америку, сказать, что у меня хорошее настроение, и положить трубку.Прогноз погоды: во второй половине дня кратко-временный дождь, гроза, ураган, град, катаклизм, ужас, конец света, спасайтесь!У нас с женой договор: поймаешь – стреляй!

Назад: Капитану-наставнику Петрову П. О.
Дальше: Эмигрант

