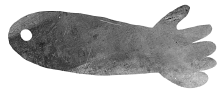Удар
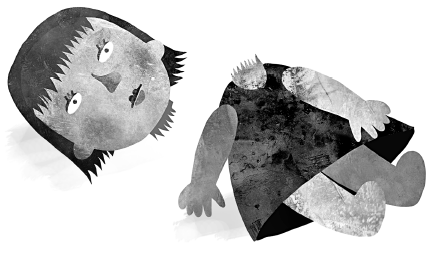
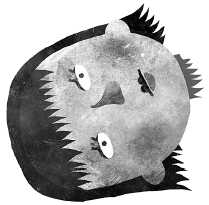
– Я прошу прощения за свою откровенность, но хочу, чтобы с самого начала нашего разговора была ясность. Так будет правильнее. Я, знаете ли, не люблю мужчин. И боюсь их сильнее, чем пауков, – добавляет она с улыбкой. – Так что, надеюсь, вы, пан, не будете слишком сильно над столиком наклоняться, ведь два метра расстояния между нами – самое оно. Да, и имейте в виду – если вы сожмете кулаки, то я… я тогда убегу или как минимум закрою лицо руками.
Вы когда-нибудь женщину били? Хотя нет, давайте поточнее: вы когда-нибудь били женщину кулаком в лицо? Так, чтобы ее голова, как мяч, отлетела от кухонной стены, а потом буквально на сантиметр разминулась с уголком стола? Чтобы потом женщина лежала, онемев и окаменев, на полу, а вы, сунув руку в карман, могли спокойно уйти?
А вот мой отец именно так и сделал. На кухне нашего дома, где я росла. Вернее, где меня растила мама. Мне тогда было одиннадцать лет, брату – шесть. Однажды вечером я вышла из своей комнаты и спустилась по лестнице вниз. Потому что он снова орал на маму. А я знала, что он перестанет орать, если увидит меня, – он всегда переставал, когда я или брат были близко. Но в тот вечер я, видимо, шла слишком медленно. Остановившись в дверях кухни, я увидела, как мой отец бьет кулаком в лицо моей матери. А потом мама упала, и ее волосы рассыпались по полу.
Я поступила тогда как последняя тварь: на коленях доползла до своей комнаты, спряталась под одеялом и плакала. И очень хотела умереть. От стыда за своего отца.
Я его любила. Тогда, на пороге нашей кухни, до этого удара я его все еще любила. А на следующее утро уже, наверно, нет. Только я не сразу это поняла. Я была еще слишком маленькая, чтобы задумываться над любовью к родителям и разделять их на мать и отца. Только через много лет я поняла, что мой собственный отец в тот раз в нашей кухне ударил кулаком меня. Прямо в лицо. И вдруг осознала, как права была моя мама, убегая от него. Она убегала три года. Убегала от его патологической ревности, от его примитивного понимания супружества, от его жестокости, которую сам он считал справедливостью.
Вы только представьте себе, мой отец мне – одиннадцатилетней девочке! – говорил, что любит маму, но если что – он ее в суде прикончит. Мне, своему одиннадцатилетнему ребенку! Я ведь даже не понимала тогда толком, что значит этот «суд» и это «прикончить», но за то, что я молча слушала его бредни, он покупал мне игрушки и разрешал засыпать за компьютером, приговаривая: «Небось у мамочки тебе такого не позволяют».
И чтобы вам было понятно: моя семья не была неблагополучной. Мама – учительница, умнейшая женщина из всех, кого я знаю. А отец вообще в министерстве работал, был чиновником. Так что речь не идет о телесериале «Отребье» с главным героем-алкоголиком, который в ободранной кухне, полной пустых бутылок и объедков, бьет кулаком в лицо свою зашуганную жену, потому что «суп пересолен!». Нет, наша история куда хуже.
Но одно должна, к сожалению, признать: мой отец был необыкновенно последователен. Он сделал все, чтобы «прикончить» мою маму в суде. Я это знаю от бабушки, мама же мне никогда ничего не рассказывала. А отец перед Высоким судом оценил меня в какие-то копеечные алименты – несколько сотен злотых, а потом яростно торговался за двести злотых. Как только я начну работать, я посчитаю все прошедшие с того дня месяцы, умножу их на эти отвратительные несколько сотен злотых, добавлю двести – и буду переводить ему на счет. Даже если мне придется голодать. А лучше всего – выплатить ему всю сумму разом. Чтобы избавиться от этого долга раз и навсегда.
Мама всегда говорила о нем только хорошее – или молчала. Чаще – молчала. Когда они наконец развелись, то она только плакала, а потом исхудала так, что ее положили в больницу. Я не слышала о нем от нее ни одного дурного слова. Никогда. И я думаю, это плохо, понимаете? Потому что против моей воли и вопреки всему тому, что я знала, она пыталась сотворить из моего биологического отца какого-то кумира, идола. Она оказалась лицемеркой. И что с того, что это желание объяснялось ее добротой. Она, вероятно, хотела, чтобы у нас – у меня и у моего брата – было как можно более счастливое детство. А ведь мой отец оказался законченным моральным уродом. Мне было почти семнадцать, когда я отдала себе в этом отчет. Тогда я стала вспоминать все те картины, которые видела ребенком и которых до конца не понимала. Спокойные, покорные, терпеливые объяснения матери, потом ее мольбы о праве на свободу, а в конце жалкие – по моему мнению – уверения в том, что она может быть хорошей женой, при этом «оставаясь собой». Я помню, как однажды мой отец после очередного скандала и ругани выкрутил ей руки, а потом выставил за дверь на мороз и снег, прямо в халате. Тогда я думала, что они просто так играют. Теперь-то я понимаю, что это был один из его первых ударов.
С тех пор как на кухне отец ударил мать кулаком в лицо, я не перестаю думать о кулаках мужчин. И эту кухню ненавижу. Когда навещаю маму – никогда не захожу на кухню. Мы не говорим об отце: я стараюсь забыть о нем, она старается о нем не упоминать. В моей квартире кухни вообще не будет. Для верности.
И еще я вам признаюсь, что моя мать меня чертовски разочаровала. Я не хочу быть такой, как она. И никогда не буду. В тот день, когда я, перепуганная насмерть, на коленях ползла по лестнице наверх, моя мама должна была собрать себя с пола, прийти ко мне и сказать, как ей больно и плохо, как она унижена и обижена, она должна была сказать, что папа причинил ей боль, но что не все мужчины такие, как мой отец, – бывают и хорошие.
А она не пришла…