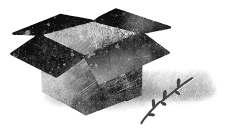Забывание
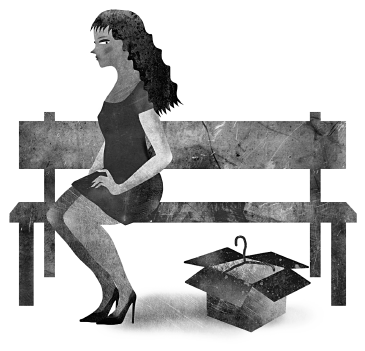
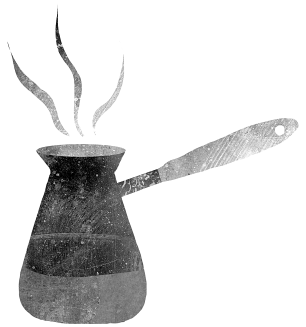
Сначала в картонных коробках, спущенных в подвал, сгинули его вещи, которые он не захотел или забыл забрать. Потом им перестала пахнуть ее одежда. Она целых пять месяцев училась обходить стороной парки, улицы, здания, кофейни, кинотеатры, театры, рестораны и книжные магазины, где они бывали вместе. Удивительно, но сложнее всего оказалось научиться называть пармезан снова пармезаном, а не «его любимый сыр».
Она забывала его долго и болезненно. Изо всех сил. Она выкашливала дым его сигарет. Она срывала пластырь с незажившей, кровоточащей раны своей души. Ее рвало водкой, выпитой из горла на пустой желудок под утро, когда отчаяние было настолько огромным, что его можно было только утопить в алкоголе. Она пыталась отключиться от него, в очередной раз меняя номер телефона. Она все время боролась с гробовой тишиной, которую он – ее это всегда удивляло – так ненавидел.
На этом пути ей пришлось преодолеть немало трудностей и препятствий. И поражений.
Она обвиняла себя и обвиняла его, прощала себя и умоляла о прощении его. Она ходила под окнами его офиса, высматривая с замирающим сердцем его тень в окне, и пряталась поспешно и постыдно, когда эта тень там появлялась. Она иногда чувствовала себя так, словно ее похоронили заживо в этом мире целующихся, обнимающихся, жаждущих прикосновений и близости пар.
Она убеждала себя, что есть ведь, черт возьми, это волшебное «время, которое лечит все раны». Но случались такие горькие минуты, когда она не могла понять, чего страшится больше: самой болезни – или излечения от нее.
Она забывала его терпеливо и покорно. Особенно ее мучило одно воспоминание – о том, как она уснула прямо в одежде на диване. Он тогда разбудил ее, войдя в комнату. В руках у него был оранжевый пластмассовый тазик. Она помнит, как он проливал воду на ковер, пока нес этот тазик к ней. Он сел перед ней, медленно снял с нее босоножки и начал обмывать ей стопы. Пальчик за пальчиком. А потом он их целовал – так же, пальчик за пальчиком. И что-то при этом рассказывал. Она точно не помнит – что именно. Она помнит только, что смеялась тогда и чувствовала себя очень счастливой и беспечной. Она так его тогда хотела! И они так прекрасно занимались любовью. А потом он так курил – она не могла глаз от него отвести…
Однажды вечером в пятницу она вернулась домой после тяжелой рабочей недели. Принесла на себе грязь утомленного, суетливого и потного города. Легла. Она помнит, что, задыхаясь от боли и тоски, вскочила с постели, вытащила из шкафа в ванной тот самый тазик и прямо в ночной рубашке, несмотря на темноту и зимний холод, побежала на улицу к мусорному баку и там колотила этим тазиком по краю бака так долго и так отчаянно, что в соседних окнах начали зажигаться огоньки и послышались чьи-то ругательства.
Она забывала его, уничтожая их общие вещи, которые хранились «на память».
Сломанный зонтик, который он сунул в закрывающиеся двери лифта, когда они неожиданно для самих себя оказались в подвале отеля в Сопоте и он начал ее раздевать прямо там, в лифте, весь дрожа от нетерпеливого желания (это там она пережила самый интимный опыт и переступила самую дальнюю границу стыда, когда он, не спрашивая, вытянул из нее тампон, потому что они «всё должны переживать вместе, даже “такие дни”»).
Приклеенные к дверце холодильника желтые листочки с именами их будущих детей.
Бутылка, полная окурков и пепла от сигарет, оставшихся после ночи, когда они до хрипоты спорили, может ли вечность иметь начало и конец. Она никогда ни с кем столько не разговаривала о литературе, а еще она никогда не подозревала, что когда начинается физика – литература теряет всякое значение. Она и сама толком не понимала, почему ей хотелось оставить «на память» окурки в этой предпоследней, заткнутой пробкой бутылке вина (последнюю они выпили вместе – в ванной, где физики было куда больше, чем литературы).
Она забывала его дни, недели, месяцы. Год. Два года.
Снова наступило лето. Она стояла на остановке и ждала автобус. Пила через соломинку апельсиновый сок из картонного пакетика. А когда подняла голову, оторвавшись от книжки, – увидела его. Да, это он – только его глаза так блестели на солнце. Это его шрам на щеке, который она кончиками пальцев выучила наизусть, это его «вечная студенческая сумка» с ремешком через плечо – всегда через левое.
Она выпрямилась, вскинула голову, машинально поправила волосы, выдавила из себя улыбку.
– Привет, сколько лет, сколько зим, как ты? – спросил он, вставая перед ней.
– Все хорошо. Вот еду с работы. Всего несколько остановок, – ответила она и тихо спросила: – А ты как?
– Через две недели в отпуск. Сначала сделаем ремонт, а потом поедем на море, – сказал он.
– Поедете? Ага. А куда? – это был глупый вопрос.
– Да пока точно не знаем. Слушай, мне пора – я опаздываю…
Она пропустила три автобуса. Стояла неподвижно с соломинкой между стиснутыми зубами и с пустым пакетиком в руке.
Она так и не забыла. У нее не получилось забыть.
Но там, на этой остановке, она поняла, что так и должно быть. Потому что не надо выбрасывать на помойку оранжевые пластиковые тазики. Эти тазики так же важны, как фотографии умерших родственников в семейном альбоме.
Завтра утром она проснется в объятиях другого мужчины. Без шрама на щеке. Красивого и умного мужчины. Он ее поцелует, а потом принесет ей кофе в постель и прижмется ухом к ее тугому животу, в котором будет пинаться их дочка…