Звездный отец
1
Норман Маршан сидел на кожаной подушечке, предложенной ему одним молодым человеком, за кулисами небольшой сцены концертного зала. Там, за занавесом, полторы тысячи человек дожидалось возможности поприветствовать его.
Маршан очень хорошо помнил этот зал. Когда-то он владел им. Сорок… нет, не сорок. И даже не пятьдесят. Шестьдесят лет назад это было, шестьдесят с лишним лет назад он и Джойс танцевали в этом зале. Отель только-только заработал, а сам он был сыном человека, который построил его, и это был прием по случаю его женитьбы на Джойс. Конечно, никто из этих людей об этом не знает. Но Маршан помнил… О Джойс, дорогая моя! Сколько лет уже прошло, как ты умерла…
Толпа шумела. Маршан выглянул из-за кулис и увидел, что места за главным столом начинают заполняться. Вице-президент Соединенных Штатов пожимал руки губернатору штата Онтарио с таким видом, словно они вдруг забыли, что принадлежат к различным партиям. Линфокс, сотрудник Института, услужливо помогал шимпанзе занять кресло, рядом с которым, судя по установленному там микрофону, и располагалось место для самого Маршана. Похоже, Линфокс испытывал некоторую неловкость, пытаясь успокоить шимпанзе.
Шимпанзе был, несомненно, смитованным, но наложение человеческого интеллекта не удлиняло его обезьяньего роста.
Затем появился Дан Флери, поднявшись по ступеням из зала, где на своих местах оставались остальные полторы тысячи участников банкета.
Маршан не без некоторого удовольствия подумал, что Флери выглядит не слишком хорошо — тот был на пятнадцать лет моложе его. И все же Маршан ни к кому не испытывал зависти. Даже к молодому посыльному, что принес ему подушку, — ему, самое большее, было двадцать лет, и сложен он был как футбольный защитник. Одной жизни человеку вполне достаточно. Особенно когда ты осуществил все свои мечты. Или почти все.
Конечно, пришлось потратить все состояние, оставленное ему отцом. Но для чего же еще нужны деньги?
— Пора выходить, сэр. Могу ли я чем-нибудь помочь вам? — Это был тот самый посыльный с грудью защитника, огромные сильные мускулы распирали его форму. Он был очень заботлив. Одной из самых приятных вещей в этом церемониальном банкете в отеле Маршана было то, что персонал относился к нему с таким почтением, словно он до сих пор владел этим отелем. «Вероятно, именно поэтому комитет и выбрал его, — подумал Маршан, — причудливый и старомодный, каким он сейчас должен казаться. Хотя когда-то…»
Он пришел в себя.
— Извините, молодой человек. Я… витал в облаках. Спасибо!
Он встал, неторопливо, но не слишком тяжело, понимая, что предстоит долгий день. Когда парень вышел вместе с ним на сцену, аплодисменты стали достаточно громкими, чтобы уровень громкости в его слуховом аппарате автоматически уменьшился.
Поэтому он и пропустил первые слова, произнесенные Даном Флери. Несомненно, они были очень лестными для него. Он очень осторожно опустился в кресло и, когда аплодисменты утихли, смог слышать все слова.
Дан Флери был все таким же высоким человеком, сложенным, как бочка, с густыми бровями и огромной копной волос. Он с самого начала стал помогать Маршану в его безумном проекте отправки человечества в космос. Об этом он сейчас и говорил:
— Самая величайшая мечта человечества! — ревел он. — Завоевать звезды! И вот перед нами человек, который научил нас мечтать об этом. Норман Маршан!
Тот поклонился, встреченный бурей аплодисментов.
И снова ему помог слуховой аппарат, но это стоило пропуском нескольких слов:
— …и теперь мы на пороге успеха, — сияя, возглашал Флери, — ради этого события мы собрались здесь сегодня вечером… чтобы соединиться в братстве и в великой надежду… посвятить себя ее осуществлению… и выразить наше уважение и нашу любовь к человеку, который первым показал нам то, о чем мы должны мечтать!
Пока Американский комитет ветеранов внимал ораторскому искусству Дана Флери, Маршан излучал улыбку туманному морю лиц. Почти жестоко, подумал он, для Флери представлять все таким образом. На пороге успеха, в самом деле! Сколько лет они терпеливо ждут этого?.. А дверь до сих пор заперта перед их носом. Конечно, он криво усмехнулся, наверное, они посчитали, что торжественный банкет нужно устроить поскорее, если они не хотят иметь в качестве гостя покойника И все-таки… Он медленно обернулся и посмотрел на Флери с некоторым недоумением. В том, как он говорил, что-то было.
Что-то… Возможно ли…
Конечно же, нет, твердо сказал он себе. Ведь ни с одного блуждающего корабля не дошло до них ни одного сообщения, никаких известий, никаких достижений, ни одна мечта еще не стала реальностью. «Я бы первым узнал об этом». Не было никаких оснований полагать, что они могли бы скрыть от него на некоторое время что-нибудь подобное. Уж он-то бы узнал об этом.
— …и теперь, — продолжал Флери, — я не буду отвлекать вас от обеда. Потом еще будет множество речей, долгих и страстных, которые помогут вам все понять, уж это я вам обещаю. А теперь давайте есть!
Послышался смех. Раздались аплодисменты. Потом — шум и звяканье вилок.
Приглашение заняться едой, конечно же, не относилось к Норману Маршану. Он сидел, сложив руки на коленях, наблюдая за тем, как посетители рьяно принялись за еду. Он улыбался и чувствовал себя слегка обделенным с мрачным старческим сожалением. Он, право же, нисколько не завидует молодым, говорил он себе. Ни их здоровью, ни их молодости, ни их жизнерадостности и оптимизму. Впрочем, какая-то зависть была — к их бокалам со льдом.
Он попытался сделать вид, что наслаждается своим вином и огромной розовой креветкой с крекерами и молоком. По словам Азы Черны (а он должен был знать, ибо только благодаря ему он еще был жив), он мог выбрать одно из двух. Либо есть все что угодно, либо продолжать жить. Еще некоторое время. И то ли из-за своей доброты, то ли из-за отчаяния Черны сообщил ему максимальный срок, какой он может протянуть, и Маршан порою от нечего делать пытался подсчитать, сколькими из этих оставшихся месяцев он может пожертвовать ради того, чтобы один раз наесться от души. Он верил, что, когда Черны посмотрит на него после еженедельного медицинского обследования и скажет, что остались считанные дни, он возьмет эти последние дни и обменяет их на кусок жареного мяса с жареным картофелем и кисло-сладкой капустой. Но это время еще не наступило. При удаче он мог рассчитывать еще на месяц. Возможно, на два…
— Прошу прощения? — произнес он, полуобернувшись к шимпанзе. Даже смитованное, животное говорило так плохо, что до Маршана не сразу дошло, что обращаются к нему.
Ему не следовало поворачиваться.
Его запястье онемело; ложка в руке закачалась; мокрые крекеры упали на пол. Он совершил ошибку, пытаясь отодвинуть колено. Старым выглядеть — приятного мало, не хватало еще оказаться на виду у всех заляпанным едой, так что он сделал слишком быстрое движение. Кресло стояло на самом краю небольшого возвышения. Он почувствовал, что опрокидывается.
«Девяносто шесть лет — это уже слишком много для того, чтобы удариться головой об пол, — мелькнула у него мысль. — И если сейчас это произойдет со мной, то, может быть, лучше бы мне было отведать этих креветок…» Но он не разбился.
Он только потерял сознание. И ненадолго: когда он пришел в себя, его еще несли обратно в гардеробную за сценой.
Когда-то Норман Маршан решил посвятить свою жизнь надежде.
Обладая богатством, умом, женатый на красивой и хрупкой девушке, он вложил все, что имел, в Институт колонизации внесистемных планет. Начал он с пожертвования нескольких миллионов долларов.
Это было все, что его отец оставил ему, и было далеко недостаточно для успешного осуществления проекта. Это был лишь катализатор. Он использовал деньги для того, чтобы нанять рекламных агентов, держателей ценных бумаг, консультантов по инвестициям и менеджеров. Он потратил их на съемку документальных фильмов и рекламу на телевидении. При помощи этих денег он финансировал коктейли для сенаторов и призы для общенациональных конкурсов учеников шестого класса. Он добился того, чего хотел.
Он добился денег. Очень больших денег. Он собрал все деньги, которые удалось выпросить и вымолить из карманов планеты, и вложил их в финансирование создания двадцати шести огромных кораблей, каждый размером с десяток океанских лайнеров, и отправил их в космос, как фермер, разбрасывающий пшеницу по ветру.
«Я пытался, — шепотом сказал он себе, возвращаясь из самой глубокой тьмы, в которой он когда-либо бывал. — Я хотел увидеть, как человечество протягивает руку и касается нового дома… и я хотел быть одним из тех, кто направит его туда».
Кто-то говорил:
— …он знал об этом, не так ли? Однако мы пытались сохранить это в тайне… — Кто-то приказал говорящему заткнуться. Маршан открыл глаза.
И увидел рядом Черны, мрачно наблюдавшего за ним. Заметив, что Маршан пришел в себя, он произнес:
— С тобой все в порядке. — И Маршан понял, что это так: Черны сердито бросил эту фразу. Если бы дела были совсем плохими, он бы улыбался. — Нет-нет! — закричал Черны, хватая его за плечо. — Ты не останешься здесь. Тебе нужно домой, в постель.
— Но ты же сказал, что со мной все в порядке.
— Я хотел сказать, что ты еще дышишь. Тебе нельзя перенапрягаться, Норм.
Маршан возразил:
— Но банкет… я должен быть там…
Аза Черны заботился о Маршане уже тридцать лет.
Они вместе рыбачили, а разок-другой даже напивались. Черны ни за что не даст себя уговорить. Он только покачал головой.
Маршан тяжело откинулся на спинку. Позади Черны на краю кресла, наблюдая за ними, молча сидел на задних лапах шимпанзе. «А ведь он встревожен, — подумал Маршан. — Встревожен, потому что ощущает за собой вину за происшедшее со мной».
Эта мысль придала ему сил и он произнес:
— Как глупо с моей стороны было падать таким образом, мистер… простите?
Черны представил его.
— Это Дуэйн Фергюсон, Норман. Он работал на Копернике вне штата. Смитованный. Он присутствует на банкете в костюме, как обычно.
Шимпанзе кивнул, но ничего не сказал. Он следил за красноречивым оратором Даном Флери, который казался чем-то расстроенным.
— Где же эта «Скорая помощь»? — спросил Черны с тем нетерпением, с каким доктор обращается к молодым врачам, и футболист в форме посыльного молча поспешил покинуть комнату, чтобы выяснить это.
Шимпанзе издал лающий звук, чтобы прочистить горло.
— Гчдо, — начал он (это прозвучало примерно так: немецкий звук «ich», и за ним слово «что»), — гчдо ви ибели в виду, миста Флери? Видеол?
Дан Флери повернулся и тупо посмотрел на шимпа. «Нет», — внезапно подумал Маршан так, словно не понимая, о чем говорит шимп. И словно не собираясь отвечать.
Маршан прохрипел:
— Что такое «видеол»?
— Посмотрите на меня. Послушайте, мистер Фергюсон, может, нам лучше уйти.
— Гчдо? — с трудом донесся резкий лающий звук, преодолевая сопротивление обезьяньего тела, в которое было заключено существо, а потом звуки стали раздаваться отчетливее: — Что вы ибели… вы имели в виду?
Маршан поморщился, и на секунду ему показалось, что его вот-вот вырвет. Но потом это ощущение прошло, оставив легкую слабость. «Не может быть, — сказал он себе, — чтобы я что-нибудь сломал себе. Черны не стал бы обманывать меня насчет этого». — Но он чувствовал себя так, будто и в самом деле что-то сломал.
Он утратил интерес к разумному шимпанзе и даже не повернул голову, когда Флери подбежал к нему и в возбуждении начал шептать что-то на ухо, эти звуки напоминали стрекотание сверчка.
Если человек хотел оставить свое человеческое тело, которое ему дал Господь Бог, и вложить свой разум, мысли и — да — душу в тело человекообразной обезьяны, это не давало ему права на какое-либо особенное уважение со стороны Нормана Маршана.
Конечно, нет! Маршан повторял привычный аргумент, дожидаясь приезда «Скорой помощи». Люди, добровольно отправлявшиеся в межзвездные путешествия, для осуществления которых он столько сделал, знали, на что вдут. И пока какой-нибудь супер-Бэтмэн не изобрел мифического сверхсветового двигателя, так всегда и будет. На доступных скоростях, меньших скорости света -186 000 миль в секунду, потребуются десятилетия, чтобы достигнуть почти любой из известных планет, заслуживающих интереса.
Процедура смитования позволяла этим людям использовать их разумы для контроля тел шимпанзе — легко размножающихся, достаточно недорогих, — в то время как их тела оставались в глубоком анабиозе все эти долгие годы путешествия среди звезд.
Естественно, на это шли храбрые люди. Они имели право на вежливое к ним обращение и уважение.
Hо и он этого заслуживал, и не уважительно говорить о каком-то «видеоле», что бы это ни значило, когда человек, благодаря которому стали возможны межзвездные путешествия, серьезно болен…
Если только…
Маршан снова открыл глаза.
— «Видеол». Если только «видеол» не было самым близким приближением того, что могли произнести голосовые связки шимпанзе, к… к… если только то, о чем они говорили, пока он был без сознания, не было той абсолютно невозможной, безнадежной и фантастической мечтой, которую он, Маршан, оставил, когда начал заниматься организацией кампании по колонизации планет.
Если только кто-то в самом деле не открыл способ путешествовать со сверхсветовой скоростью.
2
На следующий день, как только это стало возможно, Маршан взобрался в кресло на колесиках — самостоятельно (он не хотел, чтобы ему в этом помогали) — и направился в комнату-планетарий дома, который Институт предоставил ему бесплатно на всю жизнь. (Правда, до этого он посвятил всю свою жизнь Институту.)
На обустройство планетария Институт затратил 300 тысяч долларов. Закрепленные на растяжках звезды заполняли весь объем сорокафутового круглого зала, представляя в масштабе весь космос в радиусе пятидесяти пяти световых лет от Солнца. Каждая звезда была отмечена. Некоторые из них год назад слегка даже подвинули, чтобы скорректировать их движение. Все это было проделано очень тщательно.
Двадцать шесть огромных звездолетов, строительство и отправку в космос которых финансировал Институт, тоже были помечены — те из них, что были еще в пути. Разумеется, их изображения были увеличены и не в масштабе, но Маршан понимал, что они собой представляют. Он подкатил кресло к центру комнаты по обозначенной дорожке и остановился там, разглядывая все вокруг, прямо под желтым Солнцем.
Вверху над ним царил голубовато-белый Сириус. Чуть выше завис Процион. С их наложенным друг на друга сиянием свет ни одной другой звезды не мог быть сравним, хотя справа от Проциона еще ярче сверкал красный Альтаир. В центре комнаты Солнце и альфа Центавра составляли ослепительно сияющую пару.
Он посмотрел слезящимися глазами на самое большое разочарование в его жизни. Альфа Центавра В. Такая близкая. Такая подходящая. И такая стерильная. Это была насмешка мироздания: ближайшая звезда к Солнцу, имеющая самые благоприятные шансы стать новым домом для человечества, так и не обзавелась планетами… или, может, когда-то и имела их, но затем потеряла в ловушках, которые возникли в пространстве между нею и ее двумя спутниками.
Но оставались и другие звезды, сулившие надежду…
Маршан принялся искать и нашел тау Кита, желтовато-бледную звезду. Только одиннадцать световых лет до Солнца, и колонисты определенно должны уже ее достигнуть. Еще лет десять, а может, и меньше — и они получат ответ… если, конечно, там есть планеты, годные к существованию человека.
Это был тот вопрос, на который они уже так часто получали ответ «нет». «Но Тау Кита все еще остается хорошей ставкой», — твердо сказал себе Маршан. Это была менее яркая и более холодная, чем Солнце, звезда. Но она была того же типа — G - и если верить астрофизикам, то почти наверняка имеет планеты. Однако если она станет еще одним разочарованием…
Маршан обратил свой взгляд к 40 Эридана А — еще более блеклой, еще более далекой. К этой звезде направился, насколько он помнил, пятый построенный им корабль. И вскоре он должен достигнуть цели — в этом году или следующем. Точно время оценить было невозможно — ведь максимальная скорость корабля приближалась к скорости света…
И конечно, максимальная скорость могла к настоящему времени еще более возрасти.
Внезапно на него нахлынула волна разочарования от неудач, почти причинявшая ему физические страдания. Быстрее скорости света — да возможно ли такое!
Но у него не было времени на проявление каких-либо особых эмоций, да и вообще способен ли он еще что-либо чувствовать. Ему казалось, что времени у него остается все меньше и меньше, и он снова выпрямился, оглядываясь вокруг. В возрасте девяноста шести лет уже не хочется заниматься какими-то праздными делами, вроде грез наяву.
Он посмотрел на Процион и тут же отвел взгляд. Следующая экспедиция была отправлена к этой звезде — корабль, наверное, еще не преодолел и половины пути. Они испробовали все. Даже эпсилон Эридана и Грумбридж 1618, отправили даже экспедиции, несмотря на низкие шансы среды спектральных классов, к 61 Лебедя А и эпсилон Индейца; последняя отчаянная попытка на проксиму Центавра (хотя они уже почти наверняка были уверены, что она безнадежна — экспедиция к альфе Центавра не засекла ничего, что напоминало бы пригодную для жизни планету).
Всего их было двадцать шесть. С тремя кораблями была потеряна связь, они пропали, три возвратились назад, один все еще был на Земле. А девятнадцать по-прежнему находились там.
Маршан искал утешения в ярко-зеленой стреле, которая указывала путь «Тихо Браге» в пространстве, перемещавшемуся при помощи ионизированного газа. Ему показалось, что кто-то недавно что-то говорил о «Тихо Браге». Когда? И по какому поводу? Он не мог припомнить точно, но это название застряло у него в голове.
Дверь открылась, и в комнату вошел Дан Флери, и хотя он и видел разбросанные звезды и корабли, но не обращал на них никакого внимания. Эта комната никогда ничего не значила для Флери. Он мрачно проворчал:
— Проклятье, Норман, ты до смерти перепугал всех нас! Почему ты сейчас не в больнице…
— Я был в больнице, Дан. Но я не останусь там. В конце концов мне удалось вдолбить это в голову Азы Черны, так что он сказал, что я могу отправляться домой, если только буду вести себя спокойно и позволю ему осматривать себя. Что ж, как видишь, я веду себя спокойно. И я не против его осмотров. Меня беспокоит только одно: узнать правду о корабле со сверхсветовой скоростью.
— О, Норм, это просто чепуха! Честное слово, тебе не стоит так беспокоить себя…
— Дан, уж мне-то прекрасно известно, что за последние тридцать лет ты не говоришь мне «честное слово», если только не начинаешь врать. Так что давай выкладывай. Я послал за тобой сегодня утром, потому что ты знаешь ответ. И я хочу его тоже знать.
— О Господи, Дан!
Флери обвел взглядом комнату, словно впервые в своей жизни видел эти сверкающие точки света… «Возможно, так оно и есть», — подумал Маршан.
— Ну, что-то в самом деле имеется, — произнес он наконец.
Маршан ждал. Уж чему-чему, а уж этому он научился за долгие годы.
— Есть один паренек, — начал Флери, — по имени Эйзель, математик, так вот, у него есть одна идея.
Флери пододвинул кресло и сел.
— Она далека от совершенства, — добавил он.
— По правде говоря, — продолжал он, — многие считают, что она вообще не сработает. Конечно, ты слыхал об этой теории. Эйнштейн, Лоренц-Фитцджеральд, прочие — все они против этого. Это называется… как это?., полиномизация.
Он несколько секунд напрасно ждал усмешки. Потом продолжил:
— Хотя должен заметить, что у него, похоже, что-то имеется: последние опыты…
Маршан тихо и крайне сдержанно перебил его:
— Дан, прошу тебя, говори по существу. Итак, что же ты пока мне сообщил? Есть парень по имени Эйзель, у которого есть нечто безумное, но толковое…
— Ну… да.
Маршан медленно откинулся назад и закрыл глаза.
— И это означает, что мы все ошибались. Особенно я. И вся наша работа…
— Послушай, Норман! Никогда не думай так! Именно твоя работа все изменила. Если бы не ты, то у людей вроде Эйзеля не было даже шанса заявить о себе. Тебе ведь небось даже не ведомо, что он работал по одной из твоих стипендий?
— Да, я не знал. — Взгляд Маршана на секунду переместился на «Тихо Браге». — Но это мало чем поможет. Интересно, будут ли пятьдесят с лишним тысяч мужчин и женщин, которые большую часть своей жизни проведут в глубоком анабиозе из-за.;. моей работы… будут ли они чувствовать то же, что и ты. Но все равно, спасибо. Ты сказал мне то, что я хотел узнать.
Когда час спустя Черны вошел в планетарий, Маршан тут же поинтересовался:
— Ну как, я уже в достаточно хорошей форме, чтобы выдержать смитование?
Поставив чемоданчик, доктор, прежде чем ответить, взял стул:
— В нашем распоряжении никого нет, Норман. И добровольцев не стоит ждать еще несколько лет.
— Нет, вы не поняли: я имел в виду не пересадку в человеческое тело. Я не хочу никакого возможного самоубийства донора-добровольца — вы ведь сами сообщили мне, что иногда после пересадки люди кончают жизнь самоубийствам. Я имею в виду шимпа. Чем я хуже того молодого парня… как там его имя?
— Ты имеешь в виду Дуэйна Фергюсона?
— Конечно. Чем я хуже его?
— Выкинь это из головы, Норман. Ты слишком стар. Твои фосфолипиды…
— Иль я не слишком стар, чтобы помереть, да? А это самое худшее, что может произойти.
— Это будет неустойчиво! Не в твоем возрасте; ты просто не разбираешься в химии. Я не могу обещать тебе больше нескольких недель.
Маршан обрадованно воскликнул:
— В самом деле! Я и на столько не рассчитывал. Это больше, чем ты обещаешь мне сейчас.
Доктор попытался было спорить, но Маршан, бравший вверх во множестве самых тяжелых сражений за свои девяносто шесть лет, имел преимущество над Черны. Доктор даже лучше самого Маршана, знал, что, если он сильно разгневается, то это может убить его.
В тот момент, когда Черны пришел в выводу, что риск смитовой пересадки меньше, чем риск продолжать этот спор, он нахмурил брови, неохотно кивнул головой и вышел.
Маршан медленно покатился вслед за ним.
Ему не нужно было торопиться к тому, что, возможно, станет последним событием в его жизни. Времени было достаточно. В самом институте выращивались шимпанзе, но чтобы подготовить одного, требовалось несколько часов.
Одним разумом при смитовой пересадке приходилось жертвовать. Человек-то еще мог вернуться в собственное тело (риск неудачи составлял меньше двух процентов), но вот иначе дело обстояло с шимпанзе. Маршан послушно выполнял все процедуры, начавшиеся с облучения, осторожного взятия проб жидкости из его тела, за которыми последовали бесконечные ремни, электроды, зажимы. Раньше он уже видел, как это делается, и подобные процедуры не явились сюрпризом для него… Однако он и представить себе не мог, настолько они болезненны.
Стараясь не опираться на костяшки пальцев-(что было сложно: обезьянье тело было приспособлено к ходьбе полусогнувшись, руки были слишком длинными, чтобы удобно свисать по бокам), Маршан вперевалочку вышел на стартовую площадку и распрямил свой негнущийся позвоночник шимпанзе, чтобы поднять взгляд на ненавистную вещь. К нему подошел Дан Флери.
— Норм? — спросил он неуверенно.
Маршан попытался кивнуть, но ему это не удалось, однако Флери понял это.
— Норман, — повторил он, — это Сигмунд Эйзель. Изобретатель сверхсветового двигателя.
Маршан поднял длинную руку и протянул ладонь, которая не желала раскрываться — она была приспособлена к тому, чтобы быть все время сжатой в кулак.
— Пождравляю, — произнес он так отчетливо, как только мог. Проявляя милосердие, он не стал пожимать руку молодого темноглазого человека, с которым его знакомили. Его-то должны были предупредить, что сила шимпанзе может покалечить людей. Вряд ли он забыл об этом, но было соблазнительно представить себе это хоть на секунду.
Он опустил руку и поморщился от накатившей на него волны боли.
Черны предупреждал его об этом.
«Нестабильно, опасно, но ненадолго, — пророкотал он своим басом, — и не забывай, Норман, наше оборудование установлено на слишком высокую для тебя мощность — ты не привык отдавать сигналы вот такому объекту ввода, и поэтому будет больно».
Но Маршан уверил доктора, что это его не беспокоит, и действительно так оно и было. Он снова посмотрел на корабль.
— Жначид, вод он, — проворчал он, и снова отклонил назад спину и всю бочкообразную грудь животного, в теле которого он находился, желая внимательно рассмотреть стоявший на площадке корабль.
Наверное, в высоту он достигал ста футов.
— Немного, — презрительно заметил он. — «Зириуз», наш первый, был добрых девятьсот футов высотой, и на нем улетело дысяча человек к альфе Зендавра.
— И сто пятьдесят вернулись живыми, — заметил Эйзель. Он ни в коем случае не хотел подчеркнуть свои слова, но выразился достаточно ясно. — Я хочу признаться вам, что всегда восхищался вами, доктор Маршан. Надеюсь, вы не возражаете против моего общества. Как я понимаю, вы хотите отправиться вместо со мной к «Тихо Браге».
— А бочему я должен вожражать? — На самом же деле, он, конечно, был против этого. С самыми благими, намерениями этот молодой человек свел на нет семьдесят лет самоотверженного труда вместе с огромным состоянием — в него входили как его восемь миллионов долларов, так и бесчисленные сотни миллионов, которые были собраны Маршаном у миллионеров, у правительственных фондов, включая даже мелочь, жертвуемую школьниками из своих карманных расходов — все это было брошено в ночной горшок и спущено в сточные воды истории. Теперь будут говорить: «Одиозная личность начала двадцать первого столетия, Норман Маршан — или Маркан — пытался осуществить колонизацию звезд на примитивных ракетных кораблях, и, конечно, его проект ждала неудача, но заплатить пришлось человеческими жизнями и здоровьем тысяч. Однако после изобретения Эйзелем сверхсветового двигателя стало возможным…» — О да, будет написано, что его предприятие провалилось. И так оно и было.
Когда «Тихо Браге» начинал свой путь к звездам, огромный оркестр из пятисот инструментов играл во время стартового отсчета, и при помощи спутниковой связи телезрители всего мира следили за его отлетом. Присутствовали президент, губернатор и половина сената.
Когда Землю покидал маленький корабль Эйзеля, чтобы догнать «Тихо Браге» и сообщить его экипажу, что все их усилия оказались напрасными, это напоминало отправление рейсового самолета, вылетавшего в 7.17 в Нью-Джерси. «Вот до какой степени, — подумал Маршан, — Эйзель принизил величие межзвездного путешествия. И все же он ни за что на свете не пропустил бы его». Даже если бы это означало предложить себя в качестве суперкарго Эйзелю, хотя тот и уничтожил дело его жизни, и еще одному смитованному шимпанзе по имени Дуэйн Фергюсон, который по какой-то причине полагал, что у него есть особые привилегии в отношения «Браге».
Они установили на корабле дополнительный сверхсветовой модуль (Маршан слышал, как кто-то назвал его полифлектером), но он не позволил себе спросить у кого-нибудь, что это означает, — по ряду причин. Вероятно, в пути случится поломка. И Наверное, уж поэтому-то они взяли с собой запасную часть, правильно? Маршан решил не спрашивать, вдруг осознав, что это не страх, но надежда. Каковы бы ни были причины, это его не заботило; ему не хотелось даже быть здесь; он просто рассматривал это как свой неизбежный долг.
И он поднялся на борт корабля Эйзеля.
Внутри этот адский корабль был обустроен по человеческим меркам — девятифутовые потолки и широкие противоперегрузочные кресла-кушетки, но завезли также гамаки — для него самого и Дуэйна Фергюсона. Несомненно, гамаки взяли с последнего корабля. Того самого, что никогда уже не полетит — во всяком случае, не на потоках ионизированного газа. И наверное, в последний раз человеческий разум покидал Землю в теле обезьяны.
На чем летел к звездам адский звездолет Эйзеля, Маршан не знал, но только не на ионизированном газе. Как-там-его-флектор — как бы ни называлась эта проклятая штука, но она была такой крошечной. Да и весь корабль казался пигмейским.
Не было огромных топливных баков: топливо — только для того, чтобы взлететь с Земли. После этого небольшой черный ящичек — на самом деле вовсе не такой уж и маленький (он был размером с большое пианино) и не черный, а серый (но все равно это был ящичек) будет создавать свою магию. Они называли эту волшебную силу «полиномизацией». Что же такое представляет из себя полиномизация, Маршан и не пытался понять, даже не стараясь слушать объяснения или делать вид, что слушает, когда Эйзель безуспешно пытался в общих чертах кратко перевести язык математики на английский. Он улавливал только отдельные фразы: пространство, имеющее № измерений… ну что ж, это-то и служило ему объяснением того, что его интересовало, и он не вслушивался к мучительным попыткам Эйзеля объяснить, каким образом происходит выход в полиномиальное измерение — или нет, точнее говоря, перемещение обычного четырехпространственного предмета в измерения более высоких порядков, но он не слушал эти объяснения. Вообще ничего не слышал. Он прислушивался лишь к глубоким плавным ударам здорового сердца обезьяны, которое сейчас снабжало кровью его мозг.
Появился Фергюсон в теле обезьяны, которое он никогда уже не покинет. Это был еще один пункт самообвинения Маршана — он слышал, что тело Фергюсона погибло во время смитования.
Как только Маршан услышал, что Эйзель собирается сделать, он ухватился за это, как за шанс искупления вины. Проект был очень прост. Отличное испытание для двигателя Эйзеля, да к тому же и миссия милосердия. Они намеревались на огромной скорости отправиться вслед за медленно летящим, уже давно покинувшим Землю «Тихо Браге» и догнать его на полпути: даже к настоящему времени, когда минуло тридцать лет после взлета звездолета с космопорта Кеннеди, он все еще тормозил, чтобы выйти на подходящую орбиту вокруг Грумбриджа 1618. Когда Маршан привязался ремнями, Эйзель снова начал свои объяснения. Он говорил и одновременно занимался проверкой черного ящичка.
— Видите ли, сэр, мы попытаемся привести в соответствие курс и скорость, но, честно говоря, это будет непросто сделать. Догнать их не самое главное: мы должны иметь одну с ними скорость. И тогда мы переправим второй полифлектор на «Тихо Браге»…
— Да, спазибо, — вежливо поблагодарил Маршан, но он по-прежнему не прислушивался к словам относительно этой машины… Пока она существует, он будет использовать ее — его совесть не позволит ему отказаться от этого, но избавьте его от деталей.
Ведь из-за нее, этой штуковины, столько жизней были угроблены впустую!
Каждый год, проведенный в глубоком анабиозе «Тихо Браге» означает месяц, вычеркнутый из жизни людей, находящихся в нем. Дыхание замедлялось, но все же не останавливалось до конца. Сердце не билось, но кровь продолжала перекачиваться насосами; по трубкам в спящую кровь вводились сахар и минеральные вещества; катетеры удаляли продукты распада. А до Грумбриджа 1618 было еще девяносто лет пути.
Лучшее, на что мог надеяться сорокалетний человек, то, что по прибытии у него будет тело, имеющее биологический возраст около пятидесяти лет, в то время как там, на Земле, его семья уже давно умерла, все друзья обратились в прах.
Но путешествие стоило того. Или так думали колонисты. Червячок, что извивается в позвоночнике исследователя, непреодолимое стремление гнали их вперед — обнаружить богатство, мощь и свободу нового мира, занять место в исторических книгах — место не Вашингтона и даже не Христа. Они должны были занять место Адама и Евы.
«Это того стоит», — так думали все те тысячи добровольцев, отважившихся на это путешествие. Но что они будут думать, когда совершат посадку!
Если они высадятся, не зная всей правды, если какой-нибудь корабль, вроде эйзелевского, не перехватит их на полпути и не расскажет об этом, то их постигнет самое жестокое разочарование, которое когда-либо испытывал человек. Согласно их первоначальному плану полет «Тихо Браге» до Грумбриджа 1618 должен продлиться еще сорок лет. После появления эйзелевского сверхсветового двигателя перед ними предстанет планета, населенная сотнями тысяч людей, с работающими заводами и строящимися дорогами, где лучшие земли уже будут заняты и будет написано не менее пяти глав истории освоения планеты… И что же тогда подумают три тысячи стареющих искателей приключений?
Маршан простонал и покачал головой, но вовсе не потому, что корабль начал подъем и ускорение прижало его грудную клетку к позвоночнику.
Когда заработал полифлектер, он проплыл через пилотскую кабину и присоединился к остальным.
— Я никогда не был в козмозе, — произнес он.
Эйзель с большим уважением сказал:
— Ваша работа проходила на Земле.
— Да, проходила. — Маршан ничего больше не добавил.
Человек, чья вся жизнь оказалась ошибкой, был кое-чем обязан человечеству, в частности, на него была возложена обязанность сообщить им правду.
Он внимательно наблюдал за тем, как Эйзель с Фергюсоном прочитывали показания приборов и делали микрометрические установки на полифлектере. Он ничего не понимал в устройстве сверхсветового двигателя, но знал, что карта всегда остается картой. Здесь был изображен курс экспедиции к Грумбриджу. 1618. «Тихо Браге» был светящейся точкой, преодолевшей уже девять десятых расстояния, разделявшего Солнце и звезду системы Грумбридж, что означало примерно три четверти пути по времени.
— Масс-детекторы, доктор Маршан, — весело произнес Эйзель, указывая на карты. — Хорошо, что они не слишком близко, иначе их массы было бы недостаточно, чтобы мы могли засечь их. — Маршан понял: те же детекторы, что показывают звезду или планету, покажут также и единственный звездолет весом в миллион тонн, но только, если его скорость настолько огромна, что возможен эффект увеличения массы. — И хорошо также, — добавил Эйзель, выглядя встревоженно, — что они не слишком далеко. Похоже, у нас теперь будут проблемы с выравниваением скорости, даже если они они уже девять лет тормозят… Давайте привяжемся.
В гамаке Маршан всеми силами сражался с очередной волной ускорения. Но это было что-то иное и куда хуже.
Словно какая-то мясорубка перемалывала его сердце и сухожилия, а потом выплевывала их в виде странных изуродованных форм.
Словно давильный пресс сжимал его горло, сплющивал сердце.
Словно его прокатило по американским горкам или швыряло в маленьком суденышке во время тайфуна, и теперь он испытывал головокружение и тошноту. Но что бы это ни было, звезды на курсовых картах медленно скользили и перемещались в новое положение.
Маршан, чьи мысли полностью занимал самый жестокий из всех приступов мигрени за всю его почти столетнюю жизнь, с трудом воспринимал происходящее, но знал, что через несколько часов они обнаружат «Тихо Браге», уже тридцать лет как бороздивший звездное небо.
Капитан «Тихо Браге» оказался седеющим шимпанзе с желтыми клыками по имени Лафкадио, его карие глазки были прикрыты, а жилистые руки все еще дрожали от шока после внезапно появившегося звездолета — звездолета — и людей.
Маршан заметил, что он не может отвести взгляда от Эйзеля. Уже тридцать лет капитан пребывал в теле обезьяны. И теперь это была постаревшая обезьяна. Лафкадио, наверное, думает о себе больше как об обезьяне, человеческим остались только его воспоминания, которые становились все более и более смутными, когда на них ежедневно накладывались память о покрытых шерстью руках и цепких косолапых ногах. Маршан и сам уже ощущал, как разум обезьяны возвращает себе власть над телом, прокрадывается потихоньку, хотя и знал, что это просто ему кажется.
А может, и не кажется? Ведь Аза Черны говорил ему, что пересадка может оказаться неустойчивой — что-то, связанное с фосфолипидами, — он не мог сейчас вспомнить. По правде говоря, он не мог ясно и уверенно припомнить все, что хотел, и вовсе не потому, что у него был разум девяностошестилетнего старика.
Без всяких эмоций Маршан вдруг понял, что месяцы или недели путешествия сократились до несколько дней.
Конечно, могло быть так, что мешать ему здраво рассуждать мешала пульсирующая в висках боль. Но Маршана эта мысль только позабавила, а потом он ее отбросил: если у него хватило мужества согласиться с мыслью, что работа всей его жизни оказалась напрасной, то он может принять и то, что эта боль — всего-навсего производной второго порядка от убийцы, который подкрадывался к его обезьяньему телу. Но из-за этого ему было трудно сосредоточиться. Словно в тумане он слышал разговор капитана со своей командой — двадцатью двумя смитованными шимпанзе, которые управляли полетом «Тихо Браге» и следили за тремя тысячами замороженных тел, лежавших в анабиозе. Сквозь низкий, приводящий в замешательство рев он слышал, как Эйзель инструктировал их относительно переправки модуля со сверхсветовым двигателем с крошечного корабля в их огромный громоздкий ковчег, который благодаря этому ящичку сможет мчаться с такой огромной скоростью, что звездные путешествия станут однодневными.
И вдруг он заметил, что они время от времени бросают на него взгляды, полные жалости.
Ему было наплевать на это. Он просто попросил, чтобы они разрешили ему жить с ними, пока он не умрет — они, как и он сам, знали, что это случится вскоре, — и он погрузился в болезненные мечтания, забыв обо всем, и это продолжалось до тех пор (сколько именно, он не мог сказать)…до тех пор, пока он не обнаружил, что привязан в гамаке в рубке управления корабля, чувствуя новую жуткую боль, и понял, что корабль снова проникает в пространство иных измерений.
— С вами все в порядке? — спросил знакомый низкий невнятный голос.
Это была еще одна, последняя жертва его ошибки — по имени Фергюсон. Маршан еле-еле выговорил:
— Да.
— Почти прибыли, — сказал Фергюсон. — Я подумал, что вам хотелось бы узнать это. Здесь есть планета. Они считают, что необитаемая.
С поверхности Земли эта звезда, именуемая Грумбриджем 1618, даже не видима простым глазом. В бинокль она казалась бы лишь крошечной мигающей точкой света, почти затерянной среди бесчисленных тысяч более далеких, но и более ярких звезд. Да и с самого Грумбриджа Солнце выглядело точно так же.
Маршан вспомнил, как пытался выбраться из своего гамака, не обращая внимания на беспокойство на обезьяньем лице Фергюсона. Ему хотелось взглянуть на экран, который показывал Солнце. Фергюсон нашел его для него, и Маршан посмотрел на точку света, до которой было пятнадцать лет пути — его родину. Фотоны, которые сейчас попадали и в его глаза, окрашивали Землю в закатные цвета, когда ему было семьдесят, и прошло всего несколько лет, как умерла его жена. Он не помнил, как возвратился в гамак.
Не помнил он и того момента, когда кто-то сообщил ему о планете, которую они надеялись превратить в свой новый дом. Она кружилась на низкой орбите вокруг небольшого оранжевого диска Грумбриджа 1618 — по стандартам Солнечной системы, по крайней мере. По предварительной оценки капитана, ее орбита была несколько неправильной формы, но на самом минимальном расстоянии до этого сверкающего огненного уголька будет меньше десяти миллионов миль. Достаточно близко. Достаточно тепло. В телескопы на поверхности планеты были видны океаны и леса, рассеивая последние сомнения капитана: вода не застывала даже тогда, когда планета находилась на самом далеком расстоянии от звезды, а леса не сгорали и на минимальном удалении, иначе бы они не смогли снова вырасти. Спектрометр, термопары, филарометры показывали больше — приборы неслись впереди корабля, уже вращаясь на орбите, медленно проползая последний дюйм своего путешествия на ракетных двигателях. Дышать воздухом атмосферы оказалось возможным: папоротниковые леса поглотили яды и наполнили воздух кислородом. Сила тяжести превышала земную — что, несомненно, явится обузой для первого поколения, в ногах и пояснице появятся боли, от которой будут страдать и многие последующие, но все это можно было пережить — этот мир был прекрасен.
Маршан не помнил ни о том, как узнал об этом, ни о посадке, как и о том, как торопливо и радостно открывали анабиозные камеры, чтобы разбудить колонистов и начать новую жизнь на планете… он только и запомнил тот миг, когда обнаружил себя свернувшимся клубочком в мягком теплом гамаке, посмотрел вверх и увидел небо.
Над ним склонились вытянутые волосатые губы и нависающие надбровные дуги шимпанзе. Маршан узнал молодого паренька Фергюсона.
— Привет, — сказал он. — Сколько времени я пробыл в отключке?
Шимп смущенно ответил:
— Ну… вообще-то вы сознания и не теряли. Вы… — Его голос замолк.
— Понятно, — произнес Маршан и попытался приподняться. Он был благодарен своему короткорукому, телу, с его покатыми плечами и короткими ногами: мир, в котором он оказался, имел слишком сильное тяготение. От этих усилий закружилась голова. Бледное небо и легкие облака завертелись вокруг него; он почувствовал странные вспышки боли и удовольствия, вспомнил вкус, которого никогда прежде не испытывал, почувствовал радость, никогда до этого не ведомую ему… С трудом ему удалось подавить в себе остатки обезьяны.
— Ты хочешь сказать, я был… — начал он, — как это называется? Нестабильным? Смитованная пересадка не до конца удалась. — Впрочем, ему не требовалось подтверждение Фергюсона. Он знал… и знал, что в следующий раз, когда случится подобный провал в сознании, это произойдет в последний раз. Черны предупреждал его. Фосфолипиды, правильно? Пора уж возвращаться домой…
Неподалеку он увидел мужчин и женщин, человеческих мужчин и женщин, занимающихся различными делами, и тогда он спросил:
— Ты все еще остаешься обезьяной?
— И пробуду ещё некоторое время, доктор Маршан. Ведь мое тело погибло, как вам это известно.
Маршан некоторое время поломал голову над этим. Его мысли блуждали. Он вдруг поймал себя на том, что облизывает предплечье и чистит свой круглый живот.
— Нет! — закричал он и попытался встать.
Фергюсон помог ему, и Маршан с благодарностью ухватился за сильную обезьянью руку. Он вспомнил, что беспокоило его.
— Почему? — спросил он.
— Что «почему», доктор Маршан?
— Почему ты отправился сюда?
Фергюсон с беспокойством ответил:
— Я хочу, чтобы вы посидели здесь до прихода доктора. Я отправился сюда потому, что на «Тихо Браге» был кое-кто, кого я хотел увидеть.
«Девушка?» — удивленно подумал Маршан.
— И ты увиделся с нею?
— Не с нею — ними. Да, я встретился с ними. Моими родителями. Понимаете, мне было два года, когда отправился в полет «Тихо Браге». Мои родители происходили из хороших крепких семей (добровольцев тогда было немного)…да вам, конечно, лучше меня это известно. Как бы то ни было, они… я воспитывался теткой. Они оставили мне письмо, которое я прочитал, когда стал достаточно взрослым… Доктор Маршан! Что с вами?
Маршан зашатался и упал; он не мог ничего с собой поделать; он знал, что ведет себя театрально, неуместные слезы текут из его звериных глаз, но этот последний удар оказался таким резким и неожиданным. Он оказался перед фактом пятидесяти тысяч разрушенных жизней и принял на себя вину за них, но один оставленный на попечение тетки ребенок и письмо с извинениями нанесли удар в самое его сердце.
— Интересно, почему вы не убили меня? — произнес он.
— Доктор Маршан! Не понимаю, о чем вы говорите.
— Если бы только… — начал осторожно Маршан. — Я не жду ни от кого снисхождения, но если бы только был способ, чтобы заплатить за это. Но я не могу. У меня нет ничего, нет даже жизни: Но я крайне сожалею, мистер Фергюсон, и это должно помочь.
— Доктор Маршан, — произнес тот, — если я не ошибаюсь, вы приносите извинения от лица института. — Маршан кивнул. — Но… — он. вздохнул, мне вовсе не нужно говорить это, да и вообще никому другому. Послушайте. Позвольте мне попытаться прояснить этот вопрос. Первым делом, что сделали колонисты вчера, так это выбрали имя для этой планеты. Все проголосовали единогласно. Не хотите узнать, какое это имя?
Маршан лишь тупо смотрел на него.
— Пожалуйста, послушайте, доктор Маршан. Они назвали ее в честь человека, который вдохновил их на подвиг. В честь самого великого из героев. Они дали планете имя Маршан.
Тот уставился на собеседника не сводил с него глаз, а потом, не меняя выражение на лице, закрыл глаза;
— Доктор Маршан! — неуверенно произнес Фергюсон, после чего, уже серьезно обеспокоенный, повернулся и быстро побежал на своих обезьяньих ногах, опираясь о костяшки пальцев, по земле, к корабельному доктору, который приказал ему в случае, если пациент придет в себя, немедленно позвать его.
Когда они вернулись, шимпанзе не было. Они посмотрели на ветвистый лес, а потом друг на друга.
— По всей видимости, ушел, — сказал доктор. — Может, это и к лучшему.
— Но ведь ночью холодно! Он простудится. И умрет.
— Уже нет, — сказал доктор, вкладывая в эти слова столько мягкости, сколько мог. — Он уже мертв — мертв в том смысле, который только и имеет значение.
Потом он наклонился и потер заболевшие бедра, которые уже устали сражаться с гравитацией этого нового Эдема, после чего распрямился и посмотрел на звезды в темнеющем западном небе. Ярко-зеленая звездочка была еще одной планетой Грумбриджа 1618, расположенная чуть дальше, вся покрытая льдом и солями меди. И наверное, одной из самых тусклых точек на небе было Солнце.
— Он дал нам эти планеты, — сказал доктор и повернулся в сторону города. — Ты знаешь, Фергюсон, что означает быть хорошим человеком? Это означает быть лучше, чем ты являешься на самом деле — и поэтому даже твои ошибки для кого-то оборачиваются успехом — и именно это он и сделал для нас. Надеюсь, что он слышал то, что ты пытался рассказать ему. Надеюсь, он будет помнить об этом в момент смерти, — добавил доктор.
— Если и нет, — очень отчетливо произнес Фергюсон, — то мы-то точно никогда не забудем.
На следующий день они обнаружили скорчившееся тело.
Это были первые похороны на этой планете, и в анналах истории это так и было записано. Вот почему на планете Маршан на постаменте в космопорте есть небольшой барельеф над табличкой:
«ЗВЕЗДНЫЙ ОТЕЦ»
Барельеф имеет форму шимпанзе, который лежит скорчившись и смотрит невидящим испуганным взглядом на мир — именно таким и было найдено тело шимпанзе, которое они захоронили под этим памятником. И тело, и барельеф — обезьяньи. Но над ними возвышается статуя Бога.
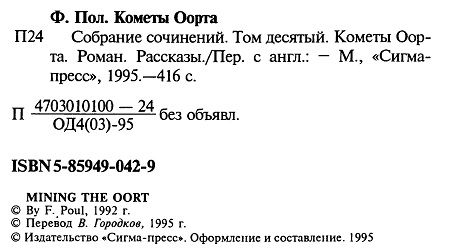
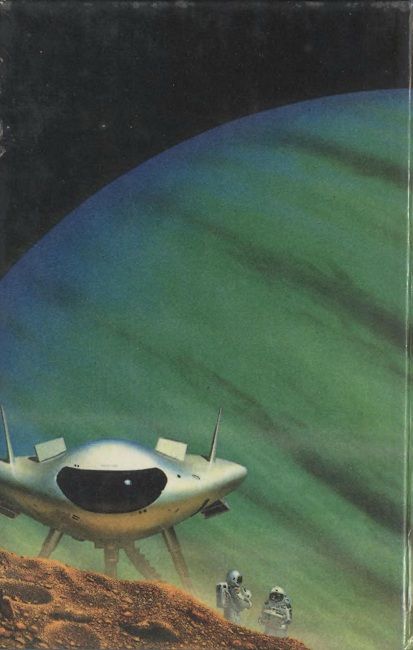
notes
Назад: Панч
Дальше: Примечания

