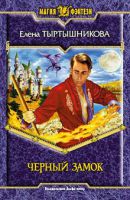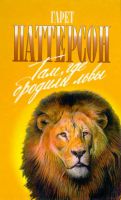31
Новый день распался для меня на четыре неравнозначных отрезка.
Первый, видимо, походил на эстрадную сценку, когда муж объясняет жене, где провел ночь. Блудному мужу легче хотя бы потому, что страдает он за дело; да и причины его гульбы известны и стары – вино и женщины. Свою же причину членораздельно обозначить я не сумел. Бормотал то-то насчет гражданского долга, коварства злых духов и холодного подоконника.
Второй кусок дня я спал. Тяжело и беспокойно, как это всегда бывает днем. Сперва там, во сне, что-то бессмысленно давило; потом возникли – вроде бы и прошли сквозь стены – какие-то бескостные дымчатые люди. Они окружили меня, начав нервный и тягучий спор о боге. Я кричал, дымчатые кричали… Мне хотелось прекратить тяжкое ристалище, но они продолжали кричать, что бог есть, а я рьяно доказывал обратное. И тогда там, во сне, мне как бы увиделась интересная мысль. И я проснулся, чтобы ее записать.
За окнами уже потемнело. Я поднял тяжелую голову, встал и прошлепал к столу ради этой мысли…
Бога нет, но божья искра в каждом.
Настал третий кусок дня. Сперва я принял душ, чтобы смыть сонную тяжесть. Потом брился, долго и не спеша, с одеколоном. Кстати, в молодости пользовался лишь водой из-под крана, а теперь пристрастился к одеколону; может быть, его запах говорил мне об иной жизни, романтичной и упущенной; о каком-нибудь лазурном побережье; в конце концов, о фешенебельных курортах и домах отдыха, где никогда мне не довелось бывать.
Благоухая одеколоном, я заварил крепкий чай, и в Лидиных кастрюлях обнаружил множество еды. Жевал и пил, разглядывая хохлатого петуха, сидевшего на чайнике. Желтое дерево кухни, золотистый торшер, хохлатый петух, запах чая и того же одеколона размягчили мою волю, а ей следовало твердеть и готовиться. Родной дом, жизнь, смерть…
В конце концов, как я понимаю свою смерть? Нет, не жар крематория и не осыпь могилы, не слияние с природой и не приобщение к планетарному духу… Для меня смерть – это прежде всего уход из дому. И нет ничего страшней.
Я отмахнулся от ненужных сейчас переживаний и, кажется, переполз в четвертый отрезок дня – стал обдумывать нашу ночную неудачу.
В сущности, было два вопроса. Первый: приходил ли старик? Исходя из здравого смысла, приходить он не мог. Но его жена вела себя так, как ведет человек, встречавшийся с другим человеком: ждала, знала точное время, угощала вином, готовила деньги… Вопрос второй: если приходил, то как? Окна заклеены на зиму. Дверь мы караулили. Печек и труб в квартире нет. Стены толстые, царские. И почему старик приходит один, без Смиритского?
Впрочем, ответы были – ровно два, как и вопроса. Кожеваткина психически больна, отчего излагает нам свои фантазии. И второй ответ: ее погибший супруг стал духом, для которого царские стены не помеха. Но тогда как объяснить свиную кровь, пропавший из морга труп, рану на голове от крупного предмета, могущего быть автомобильным бампером; как объяснить желание духа получить материальные денежные знаки; в конце концов, как быть с моей догадкой?… Бога нет, но божья искра в каждом.
Лида осталась на какой-то симпозиум по кристаллическим решеткам и придет часов в девять. Я счел за благо уйти до нес: иначе вцепится и, чего доброго, не пустит в еще одну ночную засаду.
Выпавшее свободное время я употребил на пешую прогулку. Разглядывал дома и улочки, точно видел впервые. За спешкой, за автомобильными гонками я стал город забывать. Вот этот фонарь-гроздь, походивший на лопнувшие коробочки хлопчатника, новый или стоит здесь со дня основания города? Так я и добрел до райотдела, где Леденцов сунул меня в машину, и мы понеслись, опять не замечая города…
По двору, под окнами интересующей нас квартиры, слонялся тусклый молодой человек; такой же тусклый молодой человек сидел на нашем подоконнике. Леденцов подстраховался.
Кожеваткина встретила с обычной неприязнью. Отстраненный взгляд, ничего не выражающее лицо, белая и слегка влажная кожа, как на срезе свежей брынзы… Правда, сегодня она выглядела прибраннее: седые жесткие волосы причесаны и вместо фартуков и каких-то роб надето широкое платье. Она ждала.
– Клавдия Ивановна, деньги получили? – начал я разговор.
– Сотенными бумажками.
– Мы присланы вас охранять.
– Еще чего!
– Клавдия Ивановна, деньги большие, обстановка в городе неспокойная…
– Деньги-то отдам.
– Вот мы и проследим, чтобы все было хорошо.
– Чего следить, когда после двенадцати Матвей придет…
– Ну а мы сразу уйдем.
И тогда Леденцов нашел нужные слова:
– Мамаша, мы ведь власть, а всякая власть от бога.
– Истинно так, – подтвердила Кожсваткина.
– Клавдия Ивановна, посидим в передней, – закреплял я успех.
– Господи, послал в наказание, – пробубнила она, взяла по очереди два стула, швырнула их в переднюю и прикрыла за собой дверь.
Мы разделись, погасили свет и сели.
В переднюю впадал коридорчик, ведущий на кухню. И было две двери. Одна, высокая и вроде бы из дуба, выходила на лестницу. Вторая вела в большую комнату и, к нашей удаче, оказалась застекленной матовым стеклом. За ним мы видели плавающий силуэт Кожеваткиной.
Тут, конечно, было теплее, чем на лестнице. Но темно и не поговорить. Утешало, что засада продлится недолго, до часу ночи. Впрочем, уютно. Не знаю, есть ли в современных домах такие места, куда не проникают звуки телевизора, приемника или улицы. Сюда не проникали. Лишь урчал электросчетчик.
Время потекло. Стрелок часов было нс разглядеть, потому что в большой комнате Кожеваткина лампы погасила – теперь туда падал свет из спальни. Обычно мои биологические часы тикали исправно: плюс минус пятнадцать минут. В темноте они почему-то отказали, словно подзаряжались от света. Впрочем, где ничего не происходит, там и нет времени. В передней ничего не происходило, если не считать урчания счетчика да осторожного сопения Леденцова.
Кожеваткина изредка выходила из спальни и проплывала по большой комнате. Моим зрением она воспринималась уже не как силуэт, а как некий сгусток светлой материи, который вот-вот растворится в воздухе. Возможно, Леденцов видел ее отчетливее.
Интересно, что она делала? Налаживала графинчик с наливкой? Какое странное время – духи пьют. Я раньше обратил внимание, что в графинчике убывает. Ну а если прикладывается сама Кожеваткина? Не похоже.
Когда по моим биологическим подсчетам натикало полночь, Леденцов долго смотрел на часы, после чего сделал перед моим носом несколько странных знаков. Однако я их расшифровал – половина первого. Мое воображение уже спрогнозировало: в час ночи Клавдия Ивановна выпьет рюмочку наливки и объявит, что ее Матвей побывал. А деньги куда?
Я уселся поосновательней, решив пробыть здесь еще полчаса и ни минутой больше…
Мне показалось, что правая нога попала в какую-то хитрую крысоловку – ее прижало к паркету с нешуточной силой. Моя рука полезла вниз и нащупала ботинок Леденцова – он жал им оголтело. Я вскинул голову…
За матовым стеклом колыхался не один сгусток, а два. Два туманных силуэта… Знобливый холодок побежал по моей коже – в большой комнате стояли два человека.
Не в силах удержаться, я начал приоткрывать дверь. Она скрипнула. Силуэты, которые я все еще видел сквозь матовое стекло, заколебались. Тогда я распахнул дверь, но для моего зрения и этого света, набегавшего из спальни, оказалось мало. Стояла Кожеваткина… От нее отделилась вторая светлая фигура, как мне показалось, без головы. Или голова была слишком вобрана в плечи. Фигура коротко пометалась по комнате, подбежала к широкому старинному шкафу, распахнула дверцы и залезла в него.
Я оказался там в три прыжка. Запустив руки в нутро шкафа, я шарил, путаясь в рукавах, полах и брючинах. Но, кроме одежды, в шкафу ничего не было. Тогда я тоже залез…
Шкаф такой, что внутри можно ходить. Одежды, узлы, чемодан… Человека там не оказалось. Я тронул заднюю стенку. Она вдруг легко подалась, точно стала проваливаться. Я шагнул туда, в четвертое измерение…
Мне показалось, что я попал в пещеру, в другом конце которой красно тлел то ли фонарь, то ли огромный глаз. Стон человека…
Сильный удар пришелся ровно в переносицу, чуть повыше очковой перемычки. Меня отбросило на пол, на какое-то тряпье. Но сознание я не потерял. Поэтому успел подхватить свои очки и увидеть в собственных глазах зеленый красивый сполох, успел ощутить глубокую саднящую боль и теплую струю из носа…
Тут же пещеру залил свет. Высокий усатый парень отошел от выключателя навстречу Леденцову, прыгнувшему сюда вслед за мной. В руке у усатого темнел кусок ржавой трубы. Я хотел было крикнуть Леденцову, но кровь заливала мой рот. И тогда я увидел, что капитан улыбается – подсечку он сделал так стремительно, что труба усатому просто не пригодилась.
Платком я зажал нос, приостанавливая кровотечение. Леденцов поднял меня:
– На кой черт вы полезли?
Я осмотрелся. В двенадцатиметровой комнате был один стул и один ящик. На стуле сидел Смиритский, на ящике – старик, а на полу лежал усатый, недоуменно потирая затылок. Я подошел к лазу в стене: содрана штукатурка и выпилена дыра. Вот оно что…
Видимо, в старину весь бельэтаж занимала одна квартира, которую разгородили. Эта комната, покинутая жильцами, имела отдельный выход в другой двор. Смиритский се тайно занял, а может быть, даже и снял. Когда-то комнаната соединялась дверью с квартирой Кожеваткиных. Строители ее оставили, заделав досками и штукатуркой. Наверное, усатый лично проделал лаз в шкаф Кожеваткиных, поэтому духу не требовалось ни двери, ни окна.
В этот самый лаз протиснулись еще двое – тусклые парни, дежурившие на улице.
– Товарищи дружинники, вы будете понятыми.
– Боря, вызови следователя, – посоветовал я.
– Уже.
Сперва я подошел к Кожеваткину – он уставился на меня как младенец. Очевидно, что напичкан препаратами до умопомрачения. Усатого я миновал, ибо это всего лишь исполнитель для пробивания лаза да хищения трупа. Возле Смиритского я оказался в тот момент, когда Леденцов отбирал у него сумку с деньгами.
– Думаете, поймали? – он жутко повернул орбиты глаз.
– Думаю, – подтвердил я.
– Изучать планетарный дух старик согласился добровольно, деньги старуха отдала добровольно, а за хищение трупов статьи нет. Вы не победитель. Вы в крови, а не я. Вам никогда не одержать победу.
– Да, потому что победа зависит от первого удара, а я, Мирон Яковлевич, никогда первым человека не ударю.
– Потому что в вас нет силы. Люди уважают силу, Рябинин.
– Нет, Смиритский. Силу уважают не люди, а рабы.
Я подошел к Леденцову.
– Боря, мне лучше уйти, как лицу постороннему.
– У вас же вся рожа, то есть физиономия, в кровище!
– Машина есть?
– Стоит на перекрестке.
Я протиснулся сквозь лаз, вышел из шкафа, кивнул Кожеваткиной, миновал двор и оказался на улице. До перекрестка топать чуть ли не квартал… Но за углом, у второго входа со двора, стоял «Москвич» желтого цвета. За рулем сидела красивая женщина в желтой куртке – «чайная роза» ждала Смиритского с деньгами.
Подлецов мне жалко. Какую непосильную ношу взваливают они на свою совесть? Как будут жить дальше? Подлецов жалко. Впрочем, подлецов в мире нет, а есть дураки. Каждая подлость – это прежде всего глупость: не подлости люди делают, а глупости. Разве это не дурь – считать, что заживешь припеваючи на чужие шестьдесят тысяч?…
Назад: 30
На главную: Предисловие