ЧАСТЬ ВТОРАЯ
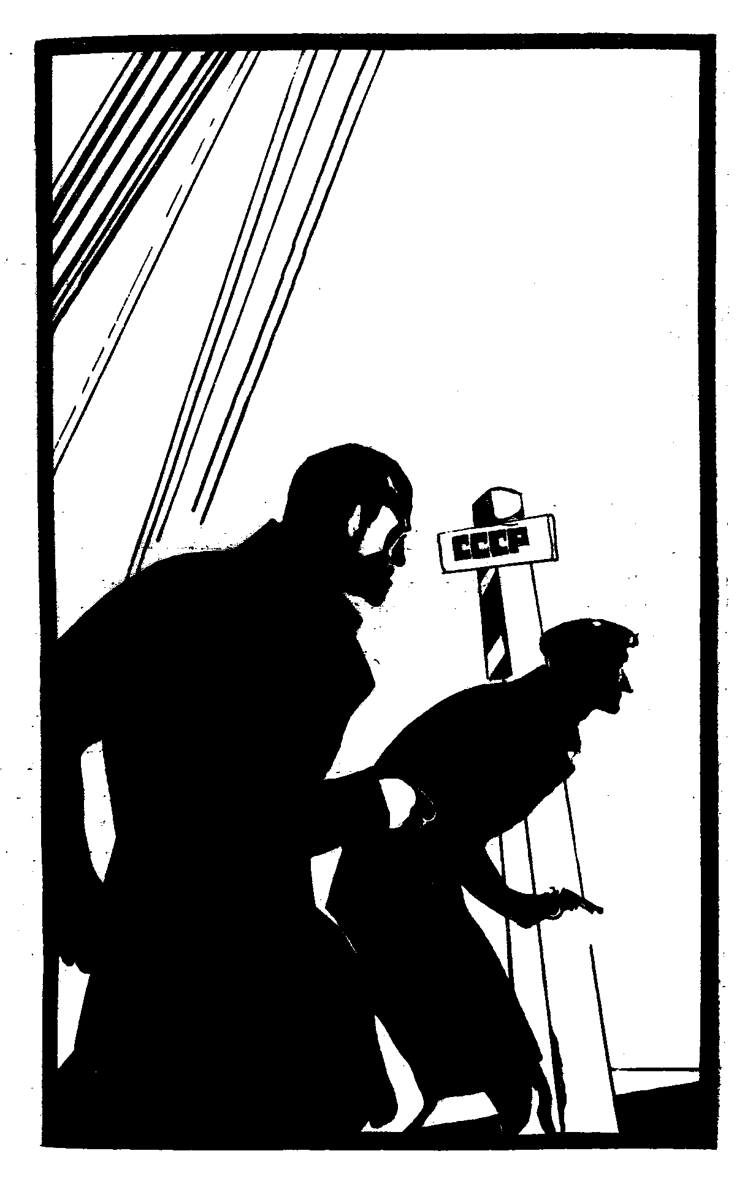
Глава седьмая
«Россия № 2»
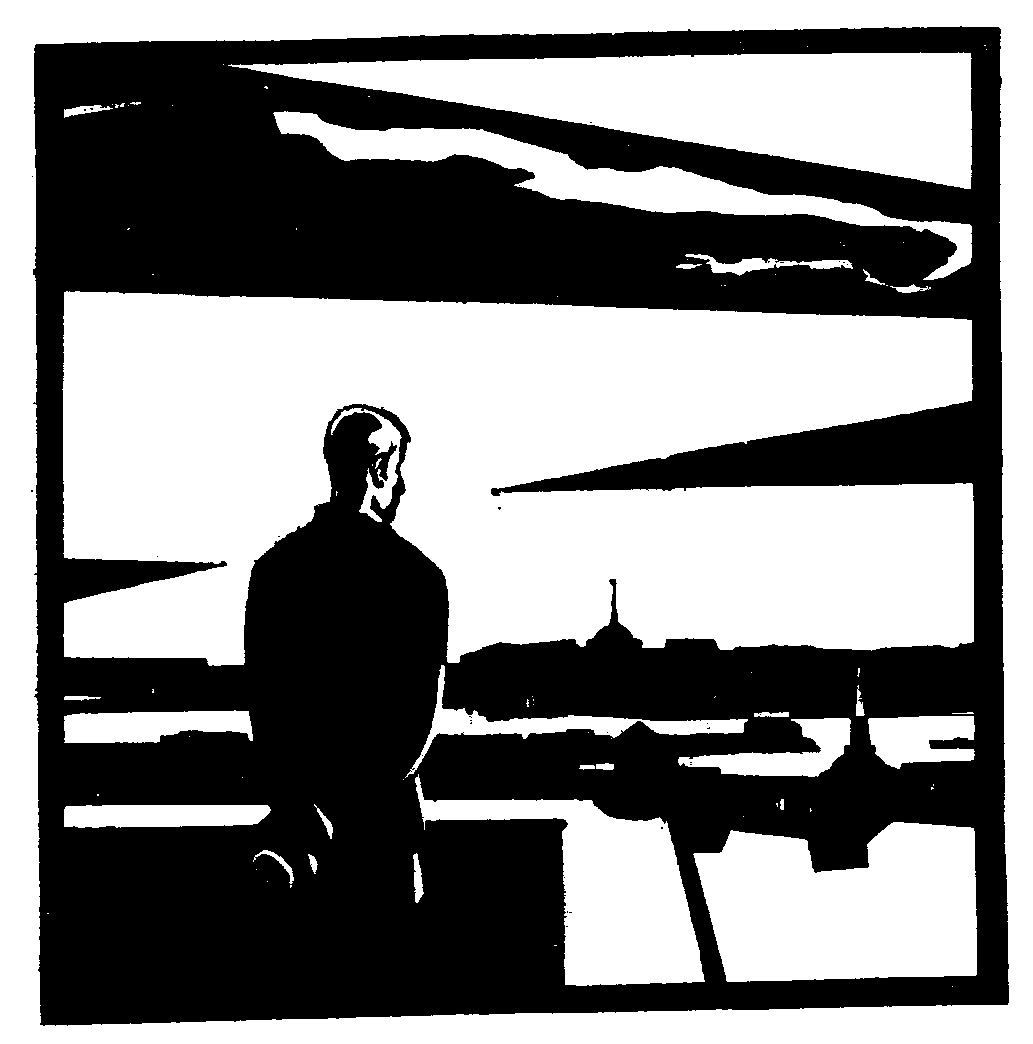
1
В 1929 году кадетский корпус был переведен из Билечи в небольшой городок Горажде, и Алексей остался не у дел. Но уезжал он со спокойной совестью. За три года ему удалось сколотить крепкое ядро и заставить многих кадет посмотреть действительности в глаза. Медленно, исподволь у некоторых началась переоценка ценностей. Одни, усомнившись в правильности пути, на который их толкали, безвольно отошли в сторону и занялись устройством личной жизни; другие принялись прокладывать собственные пути, искать свою правду; третьи — у третьих пробудилось желание поближе узнать родину; четвертые... пятые... Всех ждала за стенами корпуса новая жизнь. Каждому предстояло избрать в ней свой путь.
Алексей уехал в Белград, и Абросимович вскоре устроил его в английскую фирму электроприборов Сименса.
— Покажи себя, сумей понравиться директору, и он назначит тебя своим помощником по технической части, будешь ездить по стране и за границу. Нам это нужно дозарез! Связь — первое дело для разведчика, — говорил Абросимович.
Он же снял для него небольшую, но удобную квартиру недалеко от службы. Дом был старый и напоминал скорее башню, втиснутую между двумя огромными зданиями. На каждом этаже этой башни было по две квартиры. Одна выходила на улицу, другая во двор.
Алексей с удовольствием осмотрел две большие комнаты, кухню, ванную и чулан. Не видя запасного выхода, он недоуменно посмотрел на Абросимовича.
— А это маленький сюрприз! — посмеиваясь, сказал Иван Абросимович. — И распахнул в чулане дверцы шкафа. — Смотри!
Алексей ничего, кроме бутылок и банок на полках, не увидел.
— Вот, гляди, берешься за эту ручку и тянешь к себе. — Абросимович потянул за ручку. Все три полки отошли в сторону.
— Потайная дверь? Как здорово!
— Как в средневековом замке. Не хватает только привидений. Белой дамы... впрочем, об этом ты уж сам позаботься, — хохотнул Абросимович и, отворив маленькую дверцу, подтолкнул Алексея в проем. — Иди, не бойся!
Протиснувшись, он очутился на нависшем над самой крышей соседнего дома крохотном железном балкончике, уставленном цветочными горшками. С него можно было спрыгнуть на крышу, пройти мимо дымовых труб и спуститься на соседнюю улочку.
— В этой квартире, рассказывал хозяин, лет сто тому назад скрывались контрабандисты. Тут ведь до Дуная рукой подать. Так с тех пор все и осталось. Что, понравился мой сюрприз?
— Мечтать только о таком можно! Кто знает, может быть, когда-нибудь и выручит!
Алексей не ошибся — «сюрприз» спустя десять с лишним лет выручал не его одного!
Царила сытая, пьяная осень урожайного предательствами, чреватого последствиями 1938 года. Европа справляла тризну по очередной жертве нацизма — Чехословакии. «Мир спасен, подписано Мюнхенское соглашение. Да здравствует Чемберлен и его зонтик!» — кричали буржуазные газеты. Впрочем, торг западных держав с Германией, на каких условиях она бросит свой военный потенциал на Восток, длился уже годы. Еще со времен Рапальского договора и пресловутого плана Гофмана. Генерала Гофмана, идейного и духовного предтечи гитлеровских генералов. Свидетеля разгрома японцами русской армии в Маньчжурии и армии Самсонова и Ренненкампфа под Танненбергом. Гофмана, возглавлявшего немецкую делегацию на переговорах в Брест-Литовске.
«План Гофмана» увлек в Германии могучих рурских баронов из коронованных особ; во Франции — маршала Фоша, Бриана, Мильерана, Вейгана; в Англии — нефтяного короля «Роял Датч Шелл» сэра Генри Детердинга. Увлек немало и шавок-подвывал вроде редактора малоизвестной захудалой газетенки «Фолькишер беобахтер» Альфреда Розенберга, уроженца Таллина, начавшего свою карьеру агентом РОВСа.
Отпечаток идей Гофмана и его могучего покровителя, генерала-промышленника Арнольда Рехбера, лежал и на «основополагающем» сочинении Гитлера «Майн кампф», и на программном трактате Розенберга «Будущий путь немецкой внешней политики».
Все понимали, что близится война. Идет группировка сил. Антанта в смятении, она все больше убеждалась, что взлелеянный и отогретый на ее груди нацизм оказался гигантским удавом!
В смятении и белые офицеры, не говоря уже о рядовых белоказаках и солдатах. Они все чаще задумывались над тем, на чью сторону им встать, когда боевая машина Германии двинется на когда-то враждебную им Совдепию. И где-то глубоко под спудом зрела затаенная мысль, не сместилось ли у них, выброшенных за борт, что-то в психике, не сдвинулся ли стержень смысла их борьбы... Они чужаки из другого, умирающего мира, с иной логикой, образом мышления, моралью, и не было им больше места там, на Родине, в огромной российской кузне, где в дыму и огне выковывался иной, неведомый им мир.
В смятении и белоэмигрантские вожди. Они подлаживались к политике тех стран, от правительств которых получали деньги. Но как объяснить их «ориентацию» тающим кадрам?
За кадры боролись и разведки, каждая по-своему.
Алексей Хованский поднялся на западную стену белградской крепости Калемегдан: Сюда редко кто заглядывал, особенно вечером. Разве что влюбленные пары. Вот уже скоро десять лет, как он приходит время от времени сюда, чтобы условиться о встрече с «хозяином», все тем же старым другом Иваном Абросимовичем, дом которого виден сверху как на ладони.
Здесь, вдали от городской суеты, Алексей любит посидеть в одиночестве, отдохнуть, унестись мечтами далеко, бездумно полюбоваться величавой панорамой слияния двух могучих рек: быстротекущей желтовато-зеленой Савой и ленивым иссиня-голубым красавцем Дунаем.
Он любит смотреть, как медленно гаснут, словно тонут в водной пучине кроваво-красные отблески догорающей зари, окрашивая стремнины в цвет персидской сирени, потом кобальта и, наконец, вороненой стали.
Темнеет. Проясниваются августовские звезды. На другом берегу зажигаются огни далекого Земуна. А по воде уже пляшут другие, желтые отблески редких фонарей набережной и порта. И переброшенный через Саву ярко освещенный мост, чудо французской техники, кажется, повис в воздухе.
Кто не любовался августовским небом? Кто не загадывал самые безумные желания, торопливо, пока падает звезда? Алексей тоже смотрит на звезды и что-то перешедшее ему из глубины веков нашептывает: «Спеши, загадывай!» Его давно уж точит тоска по родине. Не по той России, что воспета в кабаках Парижа, Берлина или Белграда, не по тройке с бубенцами, сусально расписанной церквушке с покосившимися на погосте крестами; не по стерлядке, икорке, квасу и антоновке, — нет, тянет его к раздольному русскому простору, к близким по духу, по общности взглядов советским людям.
Нарастающий грохот отвлекает Алексея, и он поворачивает голову направо: по стальной громаде железнодорожного моста через Дунай мчится из Стамбула экспресс «Ориент». Алексей смотрит на часы, потом вниз, на трехэтажный дом; на правое верхнее окно — его «окно в Россию». В окне загорается свет. Проходит минута, и окно погружается в темноту. Это подает знак Иван Абросимович.
«Если неторопливым шагом идти в сторону улицы Князя Михаила, на это уйдет четверть часа и еще четверть часа, пока дойдешь до ювелирного магазина, где назначена сегодня встреча», — подумал Алексей, поднимаясь со скамьи и медленно направляясь мимо фортов Калемегдана в город.
2
На улице Князя Михаила гулянье было еще в полном разгаре, когда Алексей двинулся с людским потоком в сторону Теразии. После изнуряющей летней жары ранняя осень в Белграде почти всегда хороша. Деревья стоят зеленые, небо поражает синевой, солнце греет ласково, ночи теплые, звездные, лунные. Весь город на улицах, народ не расходится допоздна. За расставленными на тротуарах и в садиках столами, у многочисленных ресторанов, кафе, погребков, кабачков, баров и кондитерских полно людей.
Иван Абросимович стоит неподалеку от большой сверкающей витрины ювелирного магазина. Смуглый, жилистый, с вьющимися, почти черными волосами, тронутыми сединой, с орлиным носом, красиво очерченным овалом лица и черными пушистыми бровями, он похож на серба. И неудивительно: его далекие предки переселились при императрице Елизавете Петровне в Россию из Баната.
Они молча пожимают друг другу руки и не спеша идут мимо гостиницы «Эксельциор». Окна ресторана освещены не ярко. Там все чопорно, туда нет доступа всякой мелюзге.
Сюда приходят посидеть вечером начальник генштаба Югославии генерал Петар Костич, начальник спецразведывательного отдела при генштабе полковник Углеша Попович, начальник полиции Белграда Драгомир Йованович, и потому здесь можно встретить майора Ханау, фактического резидента английской разведки в Белграде, и его коллегу из Баната Джона Вильсона, и представителей международного бюро бойскаутов, а в действительности матерых разведчиков Джона Сейя и Гарри Роса, и Веру Пешич — красивую сербку, английскую шпионку, которую вербуют немцы. Бывает тут и сам Роберт Летробич — шеф Интеллидженс сервис на Балканах.
Все это Алексею известно.
Работа в английской фирме электроприборов дает ему возможность свободно располагать временем, разъезжать по стране и бывать за границей. За девять лет, прожитых здесь, в Белграде, он много сделал. Сейчас все его внимание сосредоточено на одной из самых деятельных белоэмигрантских организаций под названием НТСНП — Национально-трудовой союз нового поколения, так называемых «нацмальчиков».
— Знаешь, кто сейчас самый здесь почетный гость? — спрашивает Абросимович, кивая в сторону «Эксельциора». — Ганс Гелм, комиссар гестапо при немецком посольстве. Баварец, сын мюнхенского извозчика, недоучившийся студент, земляк и любимец шефа гестапо Генриха Миллера.
Алексей кивает головой.
— Не исключено, что послезавтра явится к «нацмальчикам» на съезд или пошлет свою красавицу Лину Габель. А? — спрашивает Хованский.
— Кстати, послезавтра по этому случаю перейдут из Польши нашу границу шесть членов НТСНП. Околову и Колкову руководство поставило задачу — непредвзято ознакомиться с советской действительностью, узнать отношение народа к власти и партии, дать правдивую оценку. И вернутся обратно. Что скажешь?
— Такова официальная версия и таково мнение «посвященных» членов союза. Околов идет по стопам отца — жандармского офицера, — тут сомнений нет. Что касается Колкова, то, по сведениям Чегодова и Бережного, он «правдолюб»! Черт его знает! Судьба его сложна. Отца, командира казачьего полка, зарубили наши... Сам понимаешь... Надо, по-моему, их брать, — сказал Алексей.
— Чего тебя так волнует, к каким выводам придут эти недоучки? Ведь тот и другой даже не закончили кадетского корпуса, напичканы антисоветчиной, политически незрелые парни!
— Беспокоит меня Околов. Он весьма прилично зарабатывал, но жил скромно и даже не баловал любимицу дочь, а почти все деньги отдавал на нужды «союза». Это человек действия, он для нас опасен.
— Политическая ограниченность привела его к «закрытой работе». Он начал свою карьеру осведомителем начальника русского отдела тайной полиции Югославии Николая Губарева, не так ли? — И Абросимович вспомнил свою последнюю встречу с Губаревым, когда менял паспорт. — Какие страшные у него глаза!
— У Околова? — не понял Алексей.
— Нет, у Губарева.
— Этот самый Губарев и посоветовал председателю НТСНП, Байдалакову, взять к себе в «союз» Околова, чтобы основать в НТСНП разведку и контрразведку, — сказал Хованский. — Околов крепко сшитый, чуть сутуловатый шатен, ниже среднего роста. У него заостренное лицо, нос с небольшой горбинкой, холодный, оценивающий взгляд, чуть прищуренный из-за близорукости. Ну что еще? Глаза зеленовато-карие, неторопливая, но вовсе не ленивая походка. Он на ходу не размахивает руками. Когда сцепляет пальцы, правый большой неизменно оказывается наверху. Носит очки-пенсне — чтоб не слетели с носа...
— Одним словом, волевой, скрытный, организованный и опасный человек? — заключил Абросимович.
— Да, — согласился Хованский. — Его мнимое бескорыстие, прямота и хитрая игра — это его сильные стороны. Мы присутствуем при рождении крупного обер-шпиона и врага Советского Союза. Через годик-другой он оперится. Хорошо бы их взять уже на границе...
— Это не так просто. Мы поздно узнали об этом. Впрочем, в Варшаве к ним приставлена польская разведчица, болтливая, Зося, кажется... Она постарается об Околове и Колкове узнать все, что надо. Если им удастся перейти границу незамеченными, то взять в Советском Союзе, пожалуй, чекистам все равно будет трудно.
— Околов служит не только в разведке НТСНП, но и связан с англичанами. А те наверняка подошлют его к Блаудису, своим разведчиком они не рискнут, — произнес Хованский.
— Ну что ж, так и передадим в Москву, — согласился Иван Абросимович.
— Вы, наверное, не знаете, что Блаудис, резидент Интеллидженс сервис, тот самый Блаудис, у которого была табакерка со списками шпионской английской сети в России. Он был арестован в 1922 году чекистами в Краснодаре. Сидел в тюрьме, раскололся, но не до конца. Ведь по спискам Кучерова было обнаружено еще немало английских шпионов на юге России. И сейчас Блаудис живет в том же Краснодаре, работает пекарем на хлебозаводе. Его адрес скорее всего известен Околову. Вот если они заглянут к нему, то поймаются...
— А если не поймаются? — встревоженно сказал Иван Абросимович. — Могут чего-нибудь и натворить...
— Я думаю, Чегодову их письма из Советского Союза удастся прочитать, — засмеялся Алексей. — Только бы эта Зося сумела узнать шифр переписки. — И вдруг Хованский грустно добавил: — Сколько лет я отдаю все силы, чтобы открыть молодым людям глаза! И что же? — Алексей досадливо махнул рукой.
— Поменьше эмоций, мой дорогой! Сделал ты много, каких ребят подобрал?! Один Аркашка Попов чего стоит! С такими горы ворочать можно! Я хотел поговорить о другом. Тебе известно, как активизировалась до сих пор идущая с переменным успехом борьба РСХА с Интеллидженс сервис. Действует и разведка Риббентропа, и АПА Розенберга, незаметно лишь людей Канариса. Вряд ли он предоставил вершить югославские дела майору гестапо Карлу Краусу Лоту... — улыбнулся Абросимович, заметив, как насторожился Алексей.
— Карл Краус — это шеф заграничного отдела немецкой контрразведки. Не правда ли? Он однажды уже приезжал сюда. Я его видел. И что?
— Весьма вероятно, что он явится на съезд «нацмальчиков». Хорошо было бы установить, где он живет. И скомпрометировать его! Надеюсь, он-то и выведет нас на людей хитроумного Канариса. — Абросимович вытащил пачку «Неретвы» и закурил.
Они вышли на улицу Краля Милана. Толпа была здесь уже не такая густая.
— Может, придет и Лина Габель! Никогда ее не видел. А Гелм вряд ли. Он официальное лицо, комиссар гестапо при посольстве! И еще: постарайся раздобыть списки делегатов съезда и приглашенных. — И, взяв Алексея под руку, пошел еще медленнее.
— Придется, — сказал Алексей. — Что касается людей Канариса, то к ним надо подбирать особый ключ. Адмирал придерживается оригинальных принципов.
— Знаю. Адмирал считает, что математика, сиречь логика, разведке вредит. Она воплощение прокрустова ложа разума! А разведка гуманитарная наука. Взывать к низменным страстям — в этом ее высший смысл. Ты об этом хотел сказать? — Абросимович засмеялся, остановился и, протягивая Алексею руку, продолжал: — У фашиста ставка на подлецов! Но это невысокий класс для разведки. До свидания! Увидимся после съезда. Ни пуха ни пера!
— Гав! Гав! Гав! — Алексей крепко пожал Абросимовичу руку и зашагал дальше.
Неторопливо прошел мимо русского посольства. В глубине сада белел большой «Русский дом» — дар белоэмигрантам убитого в Марселе югославского короля Александра. В нем разместилась русская гимназия, учреждения «По делам русских беженцев» и русский театр — большой зал с просторными холлами, раздевалками, курительными комнатами и подсобными помещениями.
«Здесь через два дня, — думал Алексей, — откроется съезд НТСНП, четвертый съезд «нацмальчиков». Широкие слои белой эмиграции относятся к ним иронически. Как отцы к своим несколько заблудшим, своенравным детям. Платформу их считают бездарным плагиаторством, смесью эсеровщины с фашизмом, приправленную идеями евразийцев, оснащенную «критикой» марксизма «величайшего русского философа» Льва Тихомирова и сдобренную «диалектиками духа» — Владимиром Соловьевым, Николаем Бердяевым и Сергеем Булгаковым, и все-таки находят «в общем и целом» достойной внимания, учитывая нищету и убожество буржуазной философии тридцатых годов.
Желая придать антисоветской деятельности характер политической борьбы за создание «русского национального государства», НТСНП пытается выработать «новую идеологию», базирующуюся на идеалистическом понимании развития исторических событий; непризнании первенствующего значения экономических условий жизни общества и в связи с этим выдвигает на первый план «идеи» и «личности» и воспевание национализма.
В своей газетенке они с пеной у рта отрицают существование классов, а следовательно, и классовой борьбы и утверждают, что общество развивается в результате стремления различных трудовых групп.
На съезде руководство НТСНП намеревается произвести смотр своим «офицерам революции», показать эмигрантской общественности свою мощь, обратить на себя внимание разведок, особенно немецкой, и, наконец, выставить себя единственной организацией, не только теоретически обосновывающей задачи эмиграции и будущее родины, но и ведущей непосредственную борьбу против Советской власти. Мало того, они хотят убедить широкие круги русской эмиграции в том, что НТСНП уже «приобщился» к России, что союз может уже гордиться своими борцами за идею на той стороне, как павшими, так и живыми».
Алексей неторопливо прошел мимо ярко освещенного русского ночного ресторана «Казбек». У двери в погребок стоял молодой парень в черкеске — швейцар «Казбека». Он разговаривал с мужчиной в сером костюме, который, видимо, был пьян. Заметив Хованского, он быстро отвернулся.
«Какой отвратительный тип!» — подумал Алексей, глядя на его руки, напоминающие клешни, птичью грудь, приплюснутую щучью голову. И даже вздрогнул от отвращения, услышав его блеющий смех: «Не он ли следил за мной? Не молодчик ли Берендса?»
3
Михаил Александрович Георгиевский, генсек НТСНП, ушел из клуба около десяти часов вечера, условился встретиться с начальником русского отдела югославской полиции Губаревым в ресторане «Казбек».
— Опять бессонная ночь! И трата денег! Но без этого нельзя! — выходя из кабинета Байдалакова и щуря подслеповато глаза, с огорченным видом сказал генсек.
Виктор Михайлович Байдалаков хмыкнул, широко улыбнулся, показав два ряда великолепных зубов, и что-то невнятно пробормотал. Он знал, что Георгиевский врет, что любит пображничать в хорошем ресторане на «казенный счет». Генсек НТСНП, в свою очередь, знал, что Губарев матерый волк и с ним ухо нужно держать востро, тем более что через два дня открывается съезд, а разговор пойдет о японцах, немцах, польской разведке и кто знает еще о чем.
— Выкручивайся, Михаил Александрович. Это твоя сфера, — заключил Байдалаков.
...У русских эмигрантов свои рестораны и кабаки, начиная с претенциозного «Мон Репо», где всю ночь ноет с оркестром и хором некогда популярный в России цыганский певец Морфеси, и кончая стилизованным, душным, увешанным текинскими коврами погребком «Казбек», где до утра поет грузинский хор, бешено пляшут танцоры наурскую, размахивая шашками, каждый с семью кинжалами во рту, где льется рекой кахетинское, жарят шашлыки, носятся, размахивая салфетками, стройные юноши, затянутые в черкески, а хозяин погребка, грузинский армянин Рубен, встречает гостей и по-кунацки усаживает их за столы на бочонки. Совсем как в старом Тифлисе!
Рубен пригласил Георгиевского в отдельный кабинет.
— А мы тут с Николаем Николаевичем меню обсуждали. Прошу! — Он поднял полог тяжелого текинского ковра и поклонился в сторону Губарева.
Николай Николаевич Губарев сделал вид, что хочет встать, его мокрый плотоядный рот растянулся в улыбке, но, так и не поднявшись, сунул короткую пухлую руку Георгиевскому:
— Мое почтение, профессор! Извините, устал дьявольски...
— Здравствуйте! Я, кажется, опоздал? — Георгиевский, ощерясь, протянул руку и подумал: «Какой тяжелый, свинцовый взгляд, глаза палача!»
— Нисколько! Это я пришел раньше. Заходил в офицерское собрание, в прибежище старых генералов, которые никак не могут расстаться с формой, и «юных» облыселых корнетов несуществующих полков. Кунсткамера какая-то! По субботам у них вечера. Танцуют краковяк, падепатинер, гавот, падекатр... Справляют полковые праздники, напиваются до потери сознания... Щелкают каблуками и вытягиваются перед старшими офицерами, а генералов величают не иначе как «ваше превосходительство». Смешно!
Губарев прикрыл глаза и умолк.
В кабинет неслышными шагами вошли два официанта в белых черкесках с большими, заставленными закусками и напитками подносами и принялись расставлять их на столе.
«К чему клонит?» — насторожился генсек НТСНП, глядя, как Губарев наливает себе большую рюмку и опрокидывает ее в рот. И вдруг Георгиевскому припомнился разговор с советским журналистом, работающим корреспондентом в Варшаве. Встреча была случайная, на улице, но запомнилась крепко. «Вы, эмигранты, саки не знаете, с кем и ради чего идти. Никто из вас не верит ни РОВСу, ни претендентам на царский престол, не верит ни старшему, ни младшему поколениям! Увы! Немало среди вас и таких, чьи взоры обращены к Гитлеру! Таким импонирует основанный на социальной демагогии новый союз архангела Михаила. Таким по вкусу и диктатура мещанства, и культ силы «белокурой бестии», и древние мифы, пропитанные ядом расизма, и бешеная ненависть к коммунизму...» — так говорил ему, глядя прямо в глаза, советский журналист. И тогда Михаил Александрович, генсек НТСНП, растерялся.
Начальник русского отдела полиции снова налил большую рюмку водки и опрокинул в рот. Глаза его оживились, он заговорил:
— Сколько провалов, измен, мистификаций, предательств и глупости! Кому прикажете верить? Врангеля извели, Кутепов и Миллер как сквозь землю провалились, «Внутренняя линия» РОВСа, как вы утверждаете, в руках ГПУ! Ха-ха-ха! Ну ладно, ладно, профессор, скажите лучше, как Околов? Уже на той стороне?
— Они перейдут границу двадцать третьего августа. В день открытия нашего съезда. Их шесть человек... — Георгиевский умолк, увидев, что Губарев подносит указательный палец ко рту.
— Вот и выпьем за их успех! — И опрокинул содержимое рюмки в рот. Потом вонзил вилку в красиво разукрашенный салат, положил себе в тарелку изрядную порцию, но вдруг проговорил: — Не ешьте! Чего доброго, отравитесь! Каналья Рубен!
Но, подмигнув, протянул блюдо с салатом профессору.
Не прошло и минуты, как колыхнулся ковер и вошел Рубен.
— Господа довольны? Прикажете еще что-нибудь? Ах! Вам подали не тот салат? — заговорил он, увидев, что Георгиевский не прикасается к еде.
— Рубен Николаевич! Все в порядке. Салат хорош. Но пусть ваши молодцы запомнят: у меня с профессором деловой разговор! Ясно? — успокоил Губарев и вдруг, наливаясь кровью, прошипел на Рубена и на официанта:
— И если еще раз просунете свои уши, я выкручу их с корнем!
Рубен и официант, бледнея, попятились к выходу.
— Ясно-с! Слушаю-с! — кланялись оба, опуская за собой тяжелый полог текинского ковра.
Георгиевский вертел пальцами стоявшую перед ним рюмку.
— А теперь, Михаил Александрович, можете спокойно рассказать о своей поездке в Германию и Польшу. А еще лучше, начните с японцев. Они ведь субсидируют союз! Не правда? Хе-хе-хе!
«Эх ты, полицейская шкура. Работаешь ты не только на Гитлера», — зло подумал генсек, глядя на перстень с большим брильянтом на мизинце полицейского.
— Да, японцы нас субсидируют, — начал, щуря глаза, Георгиевский. — Герцог Лейхтенбергский после разгрома Врангеля бежал в Рим, к своей тетушке, королеве Италии.
— Он же художник, он же морской офицер и авантюрист, — заметил Губарев.
— Да, он самый... в Вечном городе герцогу не повезло: его обвинили в педерастии и выслали из страны, поэтому ему пришлось ютиться сперва у своего родича Сергея Лейхтенбергского в Париже, потом в Берлине и в Варшаве.
— Но Сергея Лейхтенбергского, бывшего председателя вашего союза, сместили.
— Именно! За денежные махинации! — согласился Георгиевский. — Герцогу Лейхтенбергскому все-таки каким-то образом удалось убедить японского военного атташе в Варшаве, чтобы он помог выдвинуть его кандидатуру на пост председателя антисоветского блока и претендента на российский престол. Конечно, богатые, сильные державы всегда держали и держат про запас царей, королей, президентов и даже целые правительства. Так, Америка имеет наготове Габсбурга. Франция — великого князя Николая Николаевича, блюстителя российского престола. Германия — великого князя Кирилла Владимировича — российского императора (ни больше и ни меньше!). Впрочем, у возглавлявшего делегацию на переговорах в Брест-Литовске генерала-«победителя» Гофмана уже был наготове глава «нового правительства» — великий князь Павел Александрович. Вот и японцы сделали ставку на этого герцога Лейхтенбергского. Я был приглашен на совещание лидеров некоторых наших эмигрантских организаций и...
— И вам удалось провалить кандидатуру герцога и дать японцам понять, на кого следует делать ставку? Так?
— Так, именно так, Николай Николаевич. В какой-то мере. Вскоре, это было в марте или апреле прошлого года, японцы приняли референтом по печати нашего председателя польского отдела Вюрглера. А вслед за этим, как я уже вам докладывал, начались мои переговоры с шефом японских атташе в Европе генерал-лейтенантом Савада о совместном налаживании работы по переброске и обучению членов НТСНП. Было решено под руководством генералов Савада и Кавэбэ и при содействии польской Двуйки создать в Варшаве школу разведчиков. Я приехал в Варшаву и встретился с начальником отдела польского генштаба «Восток» капитаном Незбржицким...
Губарев слушал внимательно. Всю эту историю он уже знал от приехавшего на съезд председателя польского отдела НТСНП Вюрглера, а теперь хотел на чем-нибудь поймать генсека. Впрочем, Георгиевский и Вюрглер заранее договорились, о чем они будут рассказывать Губареву.
Оба они, например, скрыли, что капитан Незбржицкий согласился субсидировать НТСНП и дать указания постам на границе о пропуске через границу агентов, взамен за это переброшенные агенты будут давать сведения политического, экономического и военного характера: белоэмигрантские агенты будут снабжены ядом и оружием, но легенды их будут разработаны так, чтобы не касаться польской разведки. Это для того, чтобы избежать дипломатического скандала.
Начальник русского отдела белградской полиции и генсек НТСНП засиделись до глубокой ночи.
4
Никто не мог себе представить, во что выльется нацизм. Никто еще не принимал всерьез «сверхчеловека чистой арийской расы», установление мистического культа «расовой крови», культа личности фюрера, «гиполитику». «Перемелется — мука будет», — повторяли вслед за чемберленами и лавалями русские эмигранты. И смотрели нацистские фильмы вроде «Африки», где хитроумно было собрано все самое уродливое, самое дикое. Страшные племена широкоротых карликов-брахицефалов чередовались с их антиподами, великанами долихоцефалами. Обезьяноподобные люди издавали свистящие звуки, делали несуразные жесты и видевшие этот фильм, невольно говорили: «А ведь и в самом деле есть «неполноценные люди», «низшие расы»!»
В то время как бойкие репортеры Большой и Малой Антанты, всегда падкие на дешевую сенсацию, который раз уже за последние пятнадцать лет заполняли страницы газет и журналов самыми нелепыми репортажами об открытой археологами гробнице египетского фараона Тутанхамона близ Древних Фив и, наперебой комментируя гибель знаменитого английского археолога Говарда Картера, писали: «Вспомните высеченные над входом в гробницу слова: «Перешагнувшего этот порог ждет смерть!»; вспомните, как погиб первый вошедший в гробницу; вспомните, как спустя год при странных обстоятельствах попал в автомобильную катастрофу друг Картера, а теперь пришел черед Картеру; мистика! Сбывается угроза фараона! Месть Амон-Ра, царя богов!..», в то же время национал-социалистская печать использовала это по-своему:
«Никакой мистики! В смерти археологов виноваты сионисты! В гробнице найдены папирусы, рассказывающие всю правду об изгнании евреев из Египта». Запестрели над статьями шапки: «Международное еврейство боится разоблачений!», «Ритуальные убийства в XIV веке до н. э». «Похищение папирусов, найденных в гробнице Тутанхамона!», «Иудо-масонство убирает свидетелей!» и т. д.
Одни белоэмигранты этому верили, другие не верили, но «нацмальчики» были в восторге. Разрабатывался новый конспект в программе союза — «еврейский вопрос». А исполнительное бюро белоэмигрантского союза все больше склонялось к тому, чтобы ближе связаться с немцами, прежде всего с немецкой разведкой.
Немцы были хорошо осведомлены о деятельности всех белоэмигрантских организаций и знали им цену. Белоэмигранты русского толка ратовали за Великую Россию, монархическую, республиканскую, националистическую, с царем и советами; казаки — за Казакию; грузины — за самостоятельную Грузию; украинцы — за «самостийную», гетманскую, петлюровскую, махновскую Украину; белорусы — за самостоятельную Белоруссию. В то же время англичане и французы помышляли о самостоятельных, зависимых от Англии и Франции, особых государствах из казаков и народов Кавказа. Берлин в противовес Советскому Союзу хотел создать несколько вассальных славянских государств — Чехию, Словакию, Польшу, Белоруссию и Украину. Больше всего импонировали немцам идеи украинских националистов. В седую старину, как утверждали немецкие этнографы, где-то неподалеку от Киева, на днепровских островах, обитало немецкое племя, оставившее якобы глубокий след в характере, обычаях и языке украинцев (цыбуля, берлога, зилля и т. д.); не случайно, мол, шло долгое онемечивание Галиции, Буковины, Прикарпатской Руси. Не случайно, дескать, искал «дружбы» с Германией «всевеликий гетман Украины» Павел Петрович Скоропадский, а теперь, когда он состарился, на союз с немцами пошли его, правда, глуповатый отпрыск Стецько Скоропадский, а также другие «верные» немцам «сильные люди» — Коновалец, Мельник, Бандера.
Однако немцы мало верят русским белоэмигрантам. Чисто русским!
Не очень доверяет им и один из нацистских главарей, ведущий теоретик и идеолог фашизма, прибалтийский немец и белогвардеец в годы гражданской войны Адольф Розенберг. Он-то знает о ненависти «божественного фюрера» к России и ко всему русскому, он делает ставку на фольксдойчей, то есть на всех немцев, которые живут за пределами Германии.
Гитлер обратился к фольксдойчам с воззванием:
«Вы будете нашими разведчиками, нашими впередсмотрящими! Ваш долг подготовить для армии плацдарм задолго до ее прихода. Ваша задача замаскировать нашу подготовку к нападению. Считайте, что вы на фронте! Для вас вступили в действие законы войны. Отныне вы сама соль, сама суть германского народа. И теперь все зависит от вас, чтобы после победы не нашлось бы такого немца, который поглядел бы на вас косо. Ваша миссия стать в грядущем опекунами в покоренных странах и от имени великого «третьего рейха» вершить неограниченную власть. Управлять от моего имени теми странами и народами, где вы были преследуемы и угнетены. И таким образом, наша прежняя старая беда — вынужденное переселение многих миллионов лучших немцев в чужие земли — превратится в величайшее счастье!..»
«Пятая колонна» будет создана и в России!» — твердили главари нацизма. «Офицеры революции» возглавят в Москве грядущее восстание!» — твердили главари НТСНП. «Против большевиков хоть с чертом!»
Все белоэмигранты понимали, что именно в Берлине варятся идеи захвата России, но не всех белоэмигрантов допускали к немецкому котлу, хотя немало их лезло в кухонные мужики; да и не все белоэмигранты готовы были продать русскую душу немецкому национал-социалистскому черту.
5
Вильно ему надоел. Надоела и гостиница, где он жил. Вот уже который раз Александр Колков просыпается среди ночи и никак не может уснуть от боли в ногах. «Как с такими ногами идти через границу, а Может быть, придется уходить от погони?»
Недели три тому назад он ходил вместе с Околовым в монастырь, расположенный поблизости с гостиницей, посмотреть знаменитую Остробрамскую богоматерь. Поднимаясь по широким, чуть ли не в метр, каменным ступеням, они прошли мимо молившейся на коленях молодой женщины в черном. Ее лицо было в слезах, губы шептали молитву. Отбив поклон, она переползала на следующую ступень, истово крестилась и снова бормотала молитву. Было ясно, что она проползет так до конца лестницы все семьдесят шесть ступеней. Александра потрясла фанатичность этой женщины, и ему вспомнилась его верующая мать. А Жорж, заметив что-то на его лице, насмешливо бросил:
— Не хочешь ли составить этой бабе компанию? Помолись, чтобы святая дева исцелила твои немощные ноги и укрепила колеблющийся дух.
Околов не постеснялся это сказать ему, сыну геройски погибшего командира казачьего полка Георгия Ивановича Колкова, ему, георгиевскому кавалеру!
Александр поднялся с кровати, подошел к открытому окну, поглядел на чернеющую неподалеку Замковую гору, бросил взгляд на пустынную ночную улицу, освещенную тусклым бледно-желтым, мертвенным светом редких фонарей, на парадный подъезд гостиницы «Шляхетской», на замок Гедимина. Ночь дышала в лицо свежим воздухом. Небо было затянуто тучами.
Скоро, думал он, в Белграде откроется съезд НТСНП, от казаков выступит кубанец Лёсик Денисенко — новый председатель «Казачьей секции». Донцы держатся обособленно, неохотно вступают в ряды НТСНП. Впрочем, сейчас и с кубанцами такая же история. Да и вообще белоказаки выделяются среди русской эмиграции, а их самостийники, как и все «инородцы», относятся враждебно к эмигрантам-великороссам.
Еще в годы гражданской войны представители казаков-эмигрантов обращались в Лигу Наций принять все казачество России в свой состав. Но Лига Наций им в этом отказала, тем более что сейчас образован уже Союз Советских Социалистических Республик!
В 1931 году студенты-самостийники, бывшие кадеты Донского корпуса, вовлекли Александра в организацию «Белградская казачья станица», они обещали ему скорое возвращение в Казакию. Но тогда же Колков узнал, что эта организация существует на деньги Англии, Франции, а также Германии и Польши, что, следовательно, зависит от этих государств, и покинул организацию. Вместе с ним вышли из нее и многие другие. После этого Александр захандрил и стал часто выпивать.
Он стоял у открытого окна, глядя на полутемную улицу. Из мрака вынырнули два здоровенных парня, которые, пошатываясь, подошли к его окну, по-польски обругали его и двинулись дальше. И в этот же миг хлопнула входная дверь, из гостиницы кто-то выскочил, и по асфальту застучали женские каблучки. Он выглянул в окно и узнал в убегавшей горничную гостиницы. Он знал ее как хорошенькую и веселую Зосю, они познакомились уже месяца четыре назад. Но что случилось с нею в три часа ночи в их гостинице? И вдруг тишину прорезал истошный крик. Он увидел, как те же двое здоровенных парней гнались за Зосей. Александр схватил кастет и, выпрыгнув в окно, побежал следом за Зосей и парнями. Заметив его, парни остановились.
— Ах, пан Александр, защитите меня! — взмолилась Зося.
Хулиганы предпочли исчезнуть, а Зося защебетала:
— Вас послал сам бог и святая Анна.
— Я провожу вас! — Он спрятал кастет в карман и взял ее под руку.
— О, я живу далеко, — сказала она поспешно. — Мне лучше вернуться в гостиницу и дождаться утра...
— Пойдемте ко мне в номер, — предложил он.
Она согласилась. Они вернулись в гостиницу, и Александр, усадив ее за стол, предложил выпить вина. Зося не отказалась.
— Что за типы гнались за тобой? И почему ты так долго задержалась на работе?
— Я их не знаю! — Зося говорила растерянно. — Ночью в гостиницу приезжала делегация из Германии, и мне приказали дождаться их... А потом на улице пристали эти пьяные хулиганы...
Александр поставил на стол бутылку «Выборовой», и они выпили. Теперь ему было не так тоскливо. Зося болтала с ним о чем попало, и скоро они оба оказались в постели.
Он заснул, а когда проснулся, увидел рядом Зосю. Ему было сладко и весело, и он опять уснул, обняв ее. Когда же утром, одеваясь, он с удивлением обнаружил на полу возле кровати свою записную книжку с адресами и зашифрованными заметками, смутная догадка встревожила его: неужели ночное нападение на Зосю кем-то ловко разыграно для него? Неужто Зося подослана к нему в номер за его секретами? Не шпионка ли она? Но чья? Немецкая? Французская? Или, не дай бог, большевистская?
Впрочем, у него болела голова, и он, не задав никаких вопросов, проводил Зосю в коридор. Неприятно, что его записная книжка могла побывать в руках горничной; хотя все, что было записано, записано шифром. «Если она сфотографировала. Впрочем, — успокаивал он себя, — все записи зашифрованы, не могла же она их сфотографировать».
На дворе было совсем светло, он запер дверь на ключ и опять лег в кровать.
...Он жил в этой виленской гостинице в ожидании отправки через польско-советскую границу. Записная книжка таила множество дней подготовки его как агента белогвардейского союза для заброски в Советский Союз, много встреч и бесед с разными людьми.
Полгода назад он приехал из Югославии в Берлин, где встретился с председателем германского отдела НТСНП Субботиным, и тот устроил его жить в маленьком пансионате «Виктория». У него был отдельный номер. Началась подготовка к заброске в СССР. Сперва изучал план Москвы, ее учреждения и адреса, ждал визу для поездки в Варшаву, где должен был пройти главную подготовку для тайной работы в СССР. В Польше сразу же по прибытии пошел на квартиру председателя польского отдела НТСНП Александра Эмильевича Вюрглера, тут его встретил Околов. Все трое они долго беседовали о делах «казачьей секции» союза, затем Околов повел Александра в гостиницу «Виктория» (то же название, что и в Берлине), а через два дня состоялась встреча на квартире у японца Манаки.
Японец называл Околова по фамилии Перич. Колкова насторожило, что японец посвящен в его переход границы, выходило, что он, Колков, должен будет работать и на разведку Японии.
— Признаться, Жорж, я в полном недоумении, — сказал Александр Околову, когда они вышли от японца. — Я был уверен, что мой заброс в СССР организован членами союза, а выходит, что наш союз связан не только с польской разведкой, но и с японской... Это я отказываюсь понимать.
— Ничего, — успокоил его Околов, поджимая нижнюю губу. — Здесь влиятельная группа поляков-русофилов симпатизирует союзу и взялась помогать нам в переходе границы. Скажу по секрету, что второй отдел генштаба польской Двуйки ждет от нас с тобой сведений о внутреннем положении в СССР. Когда наш союз создаст Новую Россию, то мы не станем вмешиваться в дела Польши. Новая Россия придет ей на помощь.
— Ну а при чем же этот японец?
— После расскажу... — отмахнулся Околов.
Колков и Околов шесть месяцев жили в варшавской Гостинице, проходя полный курс подготовки к заброске и СССР. Они изучали карты СССР, схемы железной дороги, план Москвы, административное устройство, советский быт, занимались и «технической» подготовкой: шифры, коды, симпатические чернила, фотографирование, оружие, автомобиль, замки и т. д. Изучали старые свои конспекты и читали советскую прессу. Но чем больше Колков узнавал СССР, тем неувереннее он себя чувствовал как разведчик, тем больше у него возникало сомнений относительно целей своего похода в Советский Союз. Вскоре это заметил Околов и стал подбадривать. Затем приехал в Варшаву из Югославии Георгиевский; оставшись с ним и с Околовым наедине, заговорил вкрадчиво и поучительно:
— Ваш поход является экзаменом. Если вы убедитесь, что советские люди понимают вас, если сумеете наладить подпольную работу в Москве, мы перебросим к вам в Россию еще человек пятьсот. Пятьсот офицеров нашей революции — это сила!
«Пятьсот таких, как я и Околов, — это недоучки, — зло подумал Колков. — Ни черта нам там не сделать. За нами, недорослями-вертопрахами, не пойдут массы».
— Вам придется встретиться с большими трудностями, — продолжал учить Георгиевский. — Вы по ту сторону должны найти людей, которые в любую минуту по вашему указанию будут готовы начать действие. Мы не ставим вам сроков пребывания там, но хотим, чтобы вы ежемесячно давали о себе знать «союзу». А мы, в свою очередь, будем изыскивать возможности для связи с вами.
— А как с террором? — заинтересовался Колков.
— Этот вопрос каждый из вас решит сам на месте, — сказал Георгиевский. — Рисковать собою вам не следует, но если для пользы дела потребуется кого-то убрать или что-то в этом роде, то можете поступать, как вам выгодно. Мы поможем.
Эта беседа с Георгиевским в номере гостиницы не только не вдохнула боевой дух в Александра Колкова, но, наоборот, совсем его разочаровала. Оставалась еще надежда на Околова, который производил впечатление человека волевого, сильного, смекалистого.
...Когда в номер гостиницы постучал Околов, Александр еле поднялся с постели, мучительно болела голова.
Немного погодя в дверь опять постучали. Александр открыл и увидел Зосю. Пришлось сказать ей, чтобы пришла попозднее.
— Не вздумай с ней крутить, — строго сказал Околов. — И поменьше выпивай. У тебя хмельной вид.
«Да, — подумал Колков. — Я пью... И кажется, уже пропил с этой Зосей секреты своей записной книжки... Ах, будь что будет».
Александра Колкова разбудил громкий стук в дверь. Он спал тяжело и сначала никак не мог сообразить, где находится. Стук повторился. «Жорж!» — подумал Колков, встал и отпер дверь, но в коридоре стоял дядя Баня. Тот самый субъект, который явился к ним в гостиницу на второй день после их приезда в Вильно с условленным паролем — фотокарточками. С тех пор он проводит ежедневно занятия по ознакомлению с характерными мелочами бытовой стороны жизни в СССР, с условиями перехода границы и пограничной полосы.
Дядя Ваня приносил на занятия коллекции трамвайных, автобусных, железнодорожных, театральных билетов, различные афиши, фотографии, рисунки форменной одежды, по которым можно было составить себе представление о родах оружия в армии, о частях НКВД, милиции. Все для того, чтобы Околов и Колков не попали впросак из-за каких-нибудь пустяков. «Сколько стоит проезд в трамвае, газета или килограмм хлеба? Как отличить гэпэушника от милиционера?» Они заучивали имена и отчества вождей, фамилии известных спортсменов, стахановцев, артистов, популярные советские песни, содержание фильмов, цены на товары.
Выезжая с дядей Ваней за город, ходили ночью по компасу, стреляли в цель. Дядя Ваня принес им по два комплекта одежды, один советского производства, другой польского — для перехода погранполосы. Двое суток назад им в гостинице какой-то поляк принес фиктивные документы, паспорта, справки, чистые бланки со штампами заводов, где они «работают», и помог составить легенды. Документы выдал каждому отдельно, предупредив Колкова, чтобы он не показывал свою новую фамилию Околову. Тоже самое сказал и Околову. С заспанными глазами и с тупой головой Александр провел в свой номер дядю Ваню.
— Ну-с, дорогой друг, настала пора расставаться, через два часа вы уезжаете, вот, пожалуйста, ваш железнодорожный билет, и разрешите вам пожелать, как говорится, ни пуха ни пера! — Дядя Ваня, высокий мрачный тип с бородкой, пожал Колкову руку и сел на кровать.
— К черту, к черту, — буркнул Колков и начал складывать вещи в дорожный мешок.
— На конечной станции вас встретят наши люди. А сейчас собирайтесь и спускайтесь к пану Околову. Позавтракаете, и вас отвезут.
Дядя Ваня потоптался еще с минуту и ушел.
Позавтракав в ресторане при гостинице, Колков и Околов поехали на вокзал. В вагоне поезда у них было отдельное купе. Околов уткнулся в газету, Колков уставился в окно. Оба были не в духе. Так в молчании и доехали до назначенной станции.
На перроне их встретил «пан Александр» и повел к машине. На месте шофера сидел поляк «Иван Иванович».
— Как настроение? Как самочувствие? — спросил поляк, когда они уселись в машину. — А вы почему морщитесь? — обратился он к Колкову.
— Ноги болят. Да и вообще нездоровится.
— На сутки можно задержаться. У границы есть деревенька, в ней и переночуем, а завтра вечерком отвезем вас на границу. Согласны? — предложил пан Александр.
Колков кивнул. Околов возражать не стал.
На другой день вечером, получив от Ивана Ивановича по шесть тысяч рублей, по нагану и по двадцать патронов, они в сопровождении Ивана Ивановича и пограничника пошли к границе. Пан Александр остался в деревушке. В каком-то бараке они дождались ночи. Она была темной и безлунной.
— Ну, с богом! — сказал Иван Иванович, приглашая их выходить из барака. Пройдя через лес они ступили на нейтральную полосу.
Впереди шел Околов, за ним в трех шагах Колков, теперь уже Александр Георгиевич Филипенко, рабочий Московского электрозавода имени Куйбышева
Было сыро, темно и страшно. Каждую минуту могли загреметь выстрелы, и, хотя движение патрулей и места засад были задолго изучены, все-таки вероятность благополучного перехода, как говорил им на занятиях один специалист еще в Варшаве, равнялась сорока процентам. Если они нарвутся на советских пограничников, то им предстояло с боем возвратиться обратно. «Тут легко погибнуть или попасть в руки советских солдат». Кровь ударяла в виски, Александр шел, обливаясь потом. Рука, сжимавшая рукоятку нагана, немела. Вот и проволока. Околов лег в траву, махнул рукой и ужом прополз под ее железные шипы. Колков последовал за ним и тут же больно оцарапал руку.
— Тише! — прошептал Околов, помогая ему подняться. — Мы на советской земле, прибавим шагу
В лесу было тихо, но дождь все усиливался. Кустарник, когда они касались его, обдавал водой. Скоро лес стал еще глуше. Дождь шумел где-то в кронах деревьев, под ногами шуршала осенняя листва. Околов, казалось, не шел, а крался, как зверь; Колков едва поспевал за ним, почти бежал, он так устал, что готов был упасть в изнеможении. Околов остановился.
— Пора сменить направление. Хвати-ка глоток — и протянул в темноте Александру флягу, а сам извлек из кармана два резиновых распылителя-баллончика и весело прошептал: — Если за нами сейчас идут с собакой, то дальше она потеряет след. На заставе два кобеля — я знаю. Сначала распылим вот этот порошок, псы побегут по нему, а потом сыпанем этого — тут перец и нюхательный табак и еще какая-то ядовитая дрянь. Эта штука парализует обоняние ищеек!
Свернув вправо, они пошли по лесу, рассеивая порошок, затем брели вверх по ручью с километр, пересекли вспаханное поле и снова углубились в лес.
— Знаешь, Жорж, мне пора передохнуть неладно у меня с ногами, боюсь, совсем откажут, — взмолился Колков, усаживаясь на гнилой пенек.
Околов, взглянув на светящийся циферблат часов, кивнул.
— Найдем подходящее место, чтобы хорошо замаскироваться, а самим все видеть, там и отдохнешь. Компас у меня барахлит, — неохотно согласился Околов.
Колков-Филипенко взглянул на свой компас: стекло отпотело изнутри, стрелка замерла.
Они устроились под большим раскидистым дубом, на пригорке, поросшем низким густым кустарником. Слева тянулся на восток глубокий овраг, справа редкий березовый лес. Светало. Дождь перестал. На востоке алело небо, можно было ждать погожего дня.
— Из пограничной зоны мы, наверно, выбрались! — устало выдавил Колков, снимая со спины рюкзак и вытаскивая из него флягу.
— Три раза сплюнь через плечо. Не думай и не надейся, что советские пограничники разини. Конечно, нам помог дождь, темнота и то, что пограничников отвлекли на другом участке. Но если они узнали, что кто-то перешел границу, то по тревоге поднимут все деревни и войска. Прочешут лес, обшарят каждый кустик!.. Давай разбираться по карте, где мы находимся. — И он полез на дуб, затем спустился на землю.
— Могут встретить нас в Минске, — устало заметил Колков.
— Войдем в город порознь. Я — первым, уеду в одиннадцать, а ты четырехчасовым. Главное не обратить на себя внимания, раствориться в толпе. Не имея фотографий и не зная наших фамилий, им нелегко будет нас обнаружить, — уверенно говорил Околов.
— Скажи, тебе Зося не показалась подозрительной? — вдруг спросил Колков, снова прикладываясь к фляге. — Ночью, когда мы уезжали из гостиницы, она за мной, кажется, наблюдала...
Околов вздрогнул, стал похожим на крысу и схватил его за руку.
— Не может быть! Пан Александр уверял, что она проверена. Чего же ты раньше мне не сказал! Черт!
Колков молчал. «Стоит ли рассказывать о моей связи с ней? И о записной книжке? Зачем? Что это даст?» Выпитый ром расплывался по всему телу, чуть кружилась голова, не столько от спиртного и усталости, сколько от терпкого, вязкого запаха дуба, грибницы, прелого листа и сырой земли. Утро споро набирало силу, туман, точно молоко, заливал дно оврага и стелился, цепляясь за кусты, по его обочине. Не слышно было даже ворон и сорок. Колков закрыл глаза и заснул, точно провалился в бездну.
Проснулся он от холода и сильной боли в ногах.
По расчетам Околова, они прошли пятнадцать километров вместо предполагавшихся двадцати, но самым страшным было то, что у обоих отказали компасы. Днем идти было слишком рискованно, а ночью ориентироваться по карте почти невозможно. О том, чтобы к завтрашнему утру добраться до Минска, нечего было и думать.
Они шли четыре ночи, петляя, сбиваясь с пути, упорно, медленно, то пробираясь сквозь густые леса и рощи, то тяжело шагая по свежевспаханным нивам, выбиваясь из сил, голодные и умирающие от жажды, днями спали. Утром 28 августа 1938 года подошли к Минску.
Закопав оружие и походную одежду в лесу, они расстались, условившись встретиться в Брянске. Околов ушел сразу на станцию, чтобы уехать могилевским, Колков остался, чтобы подойти к гомельскому поезду.
Сначала его охватил страх, потом какое-то безразличие, сменившееся жалостью к себе. Так и просидел он под деревом, словно в тумане, его глаза были мокры от слез.
В Минске его поразила толпа, однообразно одетая, как ему показалось, чуждая и безликая. Несмотря на воскресенье, не было видно ни нарядных женщин, ни щеголеватых бездельников, лениво фланирующих по улицам или рассиживающих за столиками ресторанов, да и самих ресторанов. Он не увидел ни разносчиков всякой снеди, ни спешащих в магазины горничных и кухарок. В воздухе не пахло свежим хлебом, жареным на углях мясом. Зато всюду лилась родная речь...
По тротуару, перегоняя друг друга, шли, почти бежали люди, озабоченные, хмурые и даже, как ему почудилось, злые. Шли кто справа, кто слева, натыкаясь на встречных или отодвигая идущих медленней. Никто не извинялся, не снимал шляпы. Впрочем, не было и шляп. У трамвайных и автобусных остановок мгновенно устанавливались очереди, чтобы мигом рассыпаться, когда подходил «транспорт». Удивляли длинные хвосты у газетных киосков, у бочек с квасом или пивом, у магазинов, у касс театров и кино. Но стоило человеку выпить кружку квасу, купить газету или билет в кино, как он мигом, со всех ног кидался в нужном ему направлении, нетерпеливо обгоняя идущих впереди. Машин было мало, и пешеходы переходили улицу где попало.
«Кто они мне — враги или друзья?» — думал Колков.
На вокзале тоже было людно. Он стал в очередь и купил билет до Гомеля. И уже через час трясся в старом, расшатанном вагоне. Скрежет железа, позвякивание, стук и поскрипывание благодаря четкому и размеренному рокоту колес обрели какой-то ритм, и его начало клонить ко сну. Оглядев соседей, какого-то пожилого, лет шестидесяти пяти, мужчину, почти совсем лысого, с давно не бритой седой щетиной, и двух уже немолодых женщин, судя по одежде, колхозниц, которых уж никак нельзя было заподозрить в причастности к НКВД, Колков закрыл глаза и задремал.
Сколько прошло времени, он не знал, может быть, час, а может, минута, но его словно током пронзил чей-то взгляд. Он вздрогнул и открыл глаза. Перед ним стоял человек в несвежем белом халате и глядел на него в упор.
— Жигулевское, бутерброды, печенье, конфеты кто желает? — протянул он, продолжая сверлить его взглядом.
— Пожалуйста, две бутылки жигулевской водички, — пролепетал он, опуская глаза и засовывая руку в карман, где лежала финка. «Не надо было слушать Жоржа, взять бы наган с собой, — молнией мелькнула в голове мысль. — Если он один, я с ним справлюсь...»
— А мне бутербродик с колбаской! — сказал старик, добродушно улыбаясь, и тоже полез рукой во внутренний карман пиджака.
Колков почувствовал, как у него на лбу выступил холодный пот. Он встал с намерением ударить старика левой рукой и ринуться с ножом на стоящего в дверях продавца. Но старик вместо ожидаемого пистолета вынул бумажник, достал трешку, протянул ее продавцу, взял у него пиво и бутерброды и, обратившись к Колкову, попросил:
— Молодой человек, вы уже стоите, достаньте мне, пожалуйста, с полки авоську! — Потом, поглядев на него внимательно, участливо спросил: — Вам нехорошо? Что это вы так побледнели?
Тем временем продавец, отсчитав сдачу, нагнулся к корзине, взял две бутылки пива и протянул их Колкову, который, все еще растерянно глядя то на одного, то на другого, стоял весь напрягшийся, словно готовый к нападению зверь.
— Лихорадка меня мучит! — выдавил он наконец и вытер ладонью влажный лоб. — Что вам достать?
— Авоську, мил человек, авоську!
«Что такое авоська?» — подумал он. Потом взял из рук продавца пиво и, расплатившись с ним, повернулся к полке, на которой лежали какая-то сетка, баул, два узла и его вещевой мешок. «Авоська? Которая же тут авоська?» И он взялся за баул.
— Да нет, мил человек! Мне авоську, что в углу, голубую.
Колков снял с полки сетку и молча протянул ее старику. В дверях все еще стоял продавец и с любопытством на него смотрел. «Провалился! Надо бежать!» — решил Колков.
Что было дальше, он помнил смутно, его охватил животный страх. Продавец ушел, любезно открыв ключом бутылки. Старик достал из своей авоськи бутылочку «белой» — этого «вернейшего снадобья от всяких болезней», и Колков впервые узнал, что значит «сто грамм с прицепом». Он пил, поглядывал на дверь и каждый раз вздрагивал, когда кто-нибудь проходил мимо их купе. На ближайшей станции он сошел. Ему повезло. Встречный поезд подошел через несколько минут, и он уехал обратно в Минск.
6
Из доклада капитана госбезопасности НКГБ БССР: «...28 августа 1938 г. на вокзале г. Минска сержантом госбезопасности Сулиным был опознан по фотографии № 176 один из диверсантов, перешедший границу в ночь с 24 на 25 августа в районе квадратов 17/44 карта № 072 в момент отхода поезда 11 на Гомель. Сержант последовал за ним. На станции Руденск сержант Сулин связался со мной, доложил обстановку и просил руководящих указаний. Я велел не спускать с него глаз до ст. Бобруйск, где его встретит наша бригада. Но Сулин позвонил уже со следующей станции и сообщил, что диверсант скрылся. Полагая, что у него в Руденске явка, я выехал туда, но ничего выяснить не смог. Никто разыскиваемого не видел. Следа его обнаружить пока не удается...
Сержанты Сорокин, Назимов, Коробкин и Ляшко за последние трое суток никого подозрительного не обнаружили и сняты с постов...
Капитан Скоритков».
Назад: Глава шестая Под опущенным забралом
Дальше: Глава восьмая Пустозвоны

