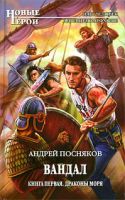ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
Генерал Дубенский, отдавший немало сил воспеванию благолепия царского двора, мудрости государя, с ужасом нанявший блюдал распад царской власти. Даже в Главной Ставке близ монарха не находил он покоя, и в начале декабря под предлогом болезни он поехал в Петроград. Его вела туда слепая надежда, что там же государственная власть, которая призвана и которая может охранить государство от хаоса и безвластия.
Увы, не нашел он покоя в столице. Более того…
Утром он направился в военное министерство, решил добиться аудиенции у министра Шуваева. Не любил он этого человека, считал его лукавым, двуличным, но все же министр, и у него он может узнать какую-то утешительную правду… У него была тайная вера, что в столице все непременно должны знать что-то такое, что противостоит всем страшным разговорам и его собственным мыслям. В приемной Шуваева толпились генералы, о чем-то тихо переговаривались, лица у них были встревоженные. Адъютант министра, выслушав просьбу Дубенского о приеме, поморщился:
— У вас достаточно важное дело? Его превосходительство очень заняты.
— Да, дело крайней важности, я приехал из Ставки, — раздраженно ответил Дубенский.
— Я доложу. Посидите, пожалуйста…
Пришлось ждать больше часа. Адъютант несколько раз проходил в кабинет министра и, возвращаясь, даже мельком не останавливал взгляда на нем. Проходили в кабинет и военные разных рангов.
Наконец пригласили его.
Шуваев встретил его приветливо, пожал ему руку, справился о здоровье, усадил в кресло перед своим столом.
— С чем пожаловала к нам наша главная пресса? — мимоходом спросил министр, и было видно, что мысли его заняты чем-то другим.
Дубенский молчал, не зная, как начать разговор. Решил не вилять, сказал:
— Приехав из Ставки сюда, я чувствую себя как человек, перенесшийся из атмосферы спокойного дела в какой-то содом… Одни газеты чего стоят!
— Но в этом, как вы выразились, содоме есть, Дмитрий Николаевич, своя закономерность. Мы здесь испытываем тяжесть не только войны, но и всей создавшейся в стране обстановки, которая оставляет желать лучшего, — жестко проговорил министр.
— Меня потрясает потеря веры.
— Веры во что, Дмитрий Николаевич? — летуче спросил Шуваев, он высмотрел на столе какую-то бумажку и переложил ее поближе к себе. — Потеря веры, говорите? Ну что ж, и это тоже закономерно — правительственная власть, Дмитрий Николаевич, применительно к создавшимся сейчас условиям своих функций управления страной не выполняет, и отсюда все последствия, в том числе и то, что вас потрясло. Да что говорить, Петроград, столица российская, на глазах превращается в очаг смуты. Чего стоит один продовольственный вопрос… — Шуваев сначала не собирался открыто говорить с Дубенским, но затем подумал: он же из Ставки, находится там близко к царю, вдруг да расскажет ему о том, что от него явно скрывают.
— Но разве Протопопов не берет это дело в свои руки? — спросил Дубенский. — Я в Ставке слышал, будто он заверил государя, что, если продовольствие передадут в его министерство внутренних дел, он быстро наведет порядок.
На лице Шуваева застыла злая улыбка:
— Дмитрий Николаевич, дорогой мой, неужели вы еще прислушиваетесь к тому, что бормочет Протопопов? Если хотите, именно он сам первый и порождает людское неверие, о котором вы изволите говорить. Да если бы он был умный или просто нормальный человек, он понимал бы, что Дума сейчас могла стать единственной серьезной опорой власти во всех внутренних делах страны. Но теперь это уже упущено. Закроют они Думу или не закроют, она на компромисс с властью уже не пойдет. И это сделал Протопопов. Хотите всю правду? Я склоняюсь к существующему и весьма солидному мнению, что Протопопов человек, теряющий рассудок не в фигуральном смысле, а в буквальном. А общий результат всего этого в том, что сейчас каждая булочная, каждая мясная лавка стали плацдармами оголтелого антимонархизма и еще более опасного анархизма.
— А что же полиция… охранное отделение? — тихо спросил Дубенский.
Министр рассмеялся:
— Устаревший вопль «где околоточный?». Сообщу вам одну шутку начальника охранки генерала Глобачева. У него спросили: можно ли очистить столицу от элементов, порождающих смуту? Он ответил: можно, но при условии, что первыми из Петрограда будут вышвырнуты Протопопов и Распутин.
— Странная шутка, — поморщился Дубенский. Министр усмехнулся:
— Шутки начальника охранки, наверно, не бывают веселыми, Шуваев молчит, он достаточно умен и предусмотрителен, чтобы дальше этот разговор не вести.
На том Дубенский и ушел в состоянии полного смятения.
Взяв на улице извозчика, Дубенский помчался в министерство внутренних дел. Там в управлении по делам печати работал его хороший знакомец камергер Катенин, с которым у него давно устоялись доверительные отношения. Другие издатели газет считали его душителем русской прессы, называли Аракчеевым, а у Дубенского никогда никаких столкновений с ним не было, более того, благодаря ему он для своей газеты получал государственные субсидии и почаще других и покрупнее. Наконец, Катенин всегда был хорошо осведомлен обо всем, что делалось «на верху», и не раз подсказывал темы для выступления газеты, которые потом отмечались как своевременные и удачные. Дубенский даже думает, что в летописцы при царе он попал не без участия Катенина…
Катенин его принял тотчас. Они сели в кресла у ломберного столика. Высокий, худой до костлявости, с острым моложавым лицом камергер как-то бочком устроился в кресле и спросил:
— Что нового в главном поезде государства?
— Не знаю, что делать с газетой…
— Что делать с газетой? — Глаза у Катенина сузились, он провел ладонью по своему лицу сверху вниз и, зажав пальцами острый подбородок, сказал тихо — Продайте ее, пока не поздно… — Помолчал и добавил — Но, пожалуй, уже поздно, не найдете покупателя. Да просто закройте ее, сославшись на соображения материального порядка.
Дубенский и сам еще в Ставке однажды думал об этом, и совет Катенина его не удивил и не огорчил…
— Воспользуйтесь приближением Нового года, — продолжал свою мысль Катенин. — К этой дате в жизни газет всегда происходят подобные события, да и вообще сейчас никто не обратит на это внимания…
— Боже мой… боже мой… — прошептал Дубенский. — Александр Андреевич, что же это происходит вокруг? Я вчера прочитал столичные газеты, это ведь тоже измена.
— Измена кому, Дмитрий Николаевич? — прищурился Катенин.
— Как это кому? Монархии! Государю!
— А если они давали присягу не монархии, а анархии, то они, значит, вполне последовательны, эти редактора.
— А вы? А ваше управление? — тревожно спросил Дубенский.
— Я неизменный и верный слуга монархии, — сухо и даже немного обиженно ответил Катенин. — Но моя служба всего лишь маленькая частица государственной власти, и я всегда на ту государственную власть опирался, зная, что без этой опоры я ничто. Сейчас, Дмитрий Николаевич, мне опираться не на кого и не на что.
Они долго молчали. Дубенский пытался справиться с собой, утихомирить колотившееся сердце. Катенин смотрел прямо перед собой остекленевшими глазами, барабанил по подлокотнику кресла длинными тонкими пальцами. Потом сказал раздумчиво:
— Все мы, Дмитрий Николаевич, сейчас должны выяснить одно — степень своей личной вины в том, что в государстве нашем была недооценена грозная опасность анархии и главных ее деятелей — большевиков. Но я думаю, мы с вами можем сказать, что наша вина в этом косвенная. Меня же, вы знаете, ваши коллеги прозвали Аракчеевым за то, что я как раз пытался охранить династию… И вы тоже жизнь свою отдали монархии и лично монарху. — Катенин встал, сходил к столу и вернулся, держа в руках лист ватмана, на который была наклеена истрепанная газетная страница. — Вот… не изволите ли посмотреть…
Дубенский окинул взглядом полосу газеты, вслух прочитал название:
— «Социал-демократ»…
— Вот там я отчеркнул главное… — продолжал Катенин… — Там напечатан черным по белому призыв к русским солдатам воспользоваться тем, что в их руках оружие, и повернуть его против самодержавия и свергнуть его. Все очень просто, как видите…
— Но как же это вы допустили? — задохнулся Дубенский.
— Эта газетка, дорогой Дмитрий Николаевич, печатается весьма далеко от меня — в Швейцарии, и дотянуться туда я не в силах. Выпускается она там под руководством главаря большевиков Ленина, сюда ее доставляют его специальные курьеры.
Только за последние недели охранка при арестах изъяла шесть экземпляров этой бандитской газеты.
— Шесть? — почти радостно удивился Дубенский. Катенин посмотрел на него внимательно и ответил:
— Не далее как вчера генерал Глобачев сказал мне, что воздействие этой газеты на рабочие массы колоссальное. И объяснил почему. Все наши газеты, вкупе с Думой, своим неумолкаемым лаем на государственную власть подготовили великолепную почву для семян, бросаемых к нам из Швейцарии Лениным. Любовь к монархии стала предосудительной. На фронтах плохо. В стране плохо. Безвыходно. И в это время тебе шепчут — выход есть, надо только свергнуть монархию. Вы видите, как до дыр зачитана газетка? Глобачев считает, что каждый такой номер газеты прочитывают тысячи людей. Глобачев сказал мне доверительно, что его ведомство надежный заслон перед этой газетой поставить уже не может. И если до солдат этот призыв еще не дошел, то петроградские обыватели, громя булочные, уже кричат: «Долой самодержавие!» Дорогой Дмитрий Николаевич, спасти то, чему мы с вами служим, может только чудо…
— Но что же делать теперь мне? — по-детски вырвалось у Дубенского.
— Я бы на вашем месте вернулся в Ставку — последний оплот самодержавия там, — твердо произнес Катенин и, улыбнувшись, добавил — Если можете, возьмите с собой и меня…
Совет Катенина Дубенский воспринял как единственное для себя спасение от окружившего его ужаса. 31 декабря вечером он выехал из Петрограда в Ставку. Ему повезло — туда перегоняли после ремонта один из свитских вагонов царского поезда.
Кроме него, в вагоне оказался только один человек — хорошо знакомый ему церемониймейстер двора барон Штакельберг. Дубенского обрадовало, что он увидел его таким, как всегда, — холеное надменное лицо, крепкая, по-военному выпрямленная фигура, в строгом мундире; ему нравилось даже то, что барон разговаривал с ним как обычно — свысока и даже пренебрежительно.
Поезд скоро отошел. Они сидели в салоне без света. Дубенский почтительно молчал. В салоне бесшумно появился проводник вагона:
— Ваше превосходительство, изволите приказать зажечь свет?
— Не надо, — ответил Штакельберг. — Задерните занавески. Мы скоро ложимся спать.
Проводник исчез. Штакельберг сказал:
— Неделю назад в Пскове при отходе поезда в окно такого же вагона был брошен камень. Представляете? Счастье, что вагон шел пустой.
— Ужас, — прошептал Дубенский.
— Но нельзя же вдоль всей дороги поставить солдат, — рассудительно пояснил барон.
— Не нашли, кто бросил? — робко поинтересовался Дубенский
— Это несущественно, — ответил барон. — Ну, поймали бы, допустим, расстреляли бы… а камень бросит кто-то другой… И давайте-ка лучше ложиться спать. — Барон встал. — Мое купе первое от салона, ваши все остальные, выбирайте любое…
В купе успокаивающая неизменность — крахмальное белье, теплые одеяла из верблюжьей шерсти, привычно рокочут вагонные колеса. Дубенскийторопливо залез в постель и укрылся с головой. Странным образом ни о чем думать ему не хотелось, страстно хотелось одного — поскорее добраться до Ставки, там государь и, что бы ни случилось, там величие и покой…
Он проснулся оттого, что кто-то толкал его в плечо. Рывком поднялся и не сразу в темноте разглядел, что над ним склонился барон Штакельберг. Было тихо как в могиле. Поезд стоял.
— Надо вставать, господин Дубенский— тревожным шепотом сказал барон. — Что-то происходит.
Дубенскийбыстро оделся.
— Наденьте и шинель, — посоветовал барон.
Они прошли в салон. Полной темноты здесь не было — поезд стоял у какого-то вокзального здания, и свет единственного фонаря проникал в салон.
— Мы стоим в Пскове, — сказал барон. — Меня разбудил проводник вагона и сообщил, что на станции происходят какие-то беспорядки и поезд дальше, кажется, не пойдет. Но он сказал, что там митингуют солдаты, и я подумал, вы же в генеральской форме. Выйдите, посмотрите, что там делается, и от моего и своего имени потребуйте отправки поезда.
Дубенского сковал страх.
— Ну идите же, идите, — услышал он рассерженный голос барона.
С юных лет воспитанное в нем чувство дисциплины оказалось сильнее страха, и он пошел.
На площадке вагона стоял взъерошенный проводник. Здесь был слышен какой-то неясный гул, вскрики человеческих голосов.
— Там митингуют, ваше превосходительство, — тихо пояснил проводник.
— Кто митингует?
— А кто ж их знает… вроде солдаты.
— Где они?
— Да вот от нашего вагона шагов двести, там вагоны с солдатами, они вроде и митингуют.
Дубенский спустился на заснеженный перрон и как загипнотизированный пошел вдоль поезда. Вскоре он приблизился к сбившимся в кучку офицерам. Увидев его, они вытянулись, удивленно на него уставились…
— Генерал-майор свиты его величества Дубенский — представился он. — Что тут происходит?
Один из офицеров щелкнул каблуками:
— Находившиеся в эшелонировании солдаты сто четырнадцатого пехотного полка по призыву подстрекателей покинули на станции вагоны и провели митинг. Требовали, чтоб им объявили, куда их везут и зачем везут. Командира полка в эшелоне нет, он выехал к месту назначения раньше, а начштаба полка ответить не смог и не имел права. Сейчас солдаты вернулись в вагоны принимать решение. Мы ждем.
— Вы из этого полка?
— Никак нет, ваше превосходительство. Мы, группа офицеров, следуем согласно предписанию в Могилев, куда зачислены в дежурную часть.
— Но почему вдруг командовать стали солдаты? — строго спросил Дубенский
Офицеры молчали. Потом один сказал:
— Насчет дальнейшего движения поезда вам все может пояснить начальник станции, он только что прошел к себе.
— Идемте к нему.
В кабинете начальника станции было полно возбужденно разговаривавших солдат. Увидев незнакомого пожилого генерала, они расступились, образовали проход к столу, за которым сидел рыхлый мужчина в железнодорожной форме.
— Почему задержан поезд? — спросил Дубенскийсвоим мягким, совсем не начальственным голосом. Он еще продолжал находиться под гипнозом дисциплины, никак сам себя не ощущая и не контролируя.
— А вы, извиняюсь, кто будете? — спросил начальник простуженным голосом.
— Генерал-майор свиты его величества Дубенский— четко проговорил Дубенскийи заметил, что начальник станции заметно сробел.
— Гляди, братцы, от самого царя генерал! — без всякого почтения сказал кто-то за спиной Дубенского, и солдаты приумолкли.
— Солдаты хотят знать, куда их везут, — сказал начальник…
— Имеем на то право! — крикнул кто-то позади, и снова солдатня разноголосо забурлила.
— Такого права у вас нет в силу секретности всех военных перевозок, — обернувшись назад, поучительно выговорил Дубенскийи спросил — Где ваш начальник штаба?
— Я здесь, — послышался голос от дверей, и к столу протолкался малорослый офицер с обожженным ветрами лицом, в видавшей виды, явно фронтовой шинели.
— Майор Потапов, ваше превосходительство.
— Почему не командуете своими солдатами?
— Ваше превосходительство, в пути объявились агитаторы, вскружили солдатам головы, будто их везут на убой, и получилось полное неподчинение.
— Где эти агитаторы? Почему вы не подвергли их аресту?
— Ваше превосходительство… за них же все…
— Значит, частью командуют агитаторы?
— Так выходит… — уныло согласился майор. — Сейчас же вообще воля им дана…
В это время послышался топот ног, голоса, и в кабинет вошли человек десять солдат, впереди шел, сильно прихрамывая, молодой солдат, шинель на его широких плечах была распахнута. Это был не кто иной, как Воячек.
Солдаты оттолкнули Дубенского в сторону и приблизились к столу начальника станции. Плечистый сначала обратился к солдатам:
— Товарищи, слушайте наше решение… — Теперь к начальнику станции — Слушай, служивый, и ты… Мы выяснили, что в составе есть вагоны с провиантом для фронта, их отправляй как положено, это дело святое. Так же и остальные вагоны, но кроме наших. Их отцепляй, и мы останемся здесь. Решение наше такое и другого не будет. Пошли, товарищи…
В кабинете остался только Дубенский, который не мог прийти в себя после того, что произошло здесь на его глазах.
— Ну, видите? — с непонятной ухмылкой спросил начальник станции, вытирая платком вспотевшее лицо. — Попробуй я не подчиниться, ведь убьют же ни за что ни про что. А у меня трое детей мал мала… — Заметив наконец, что стоящий перед ним генерал потрясен, сказал утешительно — Считайте, ваше превосходительство, что обошлось еще хорошо, а то вот давеча на станции Дно этакое было со стрельбой. Мы их сейчас отцепим, а вы проследуете дальше, так что идите в свой вагон и ждите отправки…
Уже светало. На перроне кучками стояли солдаты. Кто-то с чайником бежал к кипятильнику, двое со смехом перебрасывались снежками. И все они были совсем нестрашными, непохожими на тех, что пришли с бородатым…
Дубенский все рассказал барону Штакельбергу, тот выслушал его с вытаращенными глазами и сказал:
— О ваших смелых действиях я доложу государю.
— Все-таки я не понимаю, что происходит, — не в лад ответил Дубенский. Действительно же, то, чему он только что стал свидетелем, его мозг военного уразуметь не мог.
Не прошло и часа, как их вагон покатился дальше. Штакель-берг звонком вызвал проводника:
— Любезный, нам бы чаек согреть…
— Сию минуту, ваше превосходительство.
Барон принес из своего купе саквояж и выложил из него на стол разнообразные дорогие закуски и штоф водки.
— Между прочим, дорогой Дмитрий Николаевич, сегодня уже Новый год, и мы с вами, хотя и с небольшим опозданием, встретим его как положено…
Так Дубенский встретил 1917 год, в котором ему, и уже скоро, предстояло пережить невообразимое… Больше месяца он пробыл в Ставке, абсолютно ничего не делая. Целыми днями находился в своем кабинете, читал, холодея от ужаса, петроградские газеты и потом сидел неподвижно в бессмысленной задумчивости. И еще писал, писал что-то в своем заветном дневнике, пряча его потом за голенище сапога.
И все же Ставка не обманула его ожидания — здесь еще царил покой и святость присутствия царя. Иногда он издали видел его, когда тот проходил по коридору Ставки или гулял в саду, и этого мимолетного видения монарха хватало ему надолго — его величество здесь и все вокруг спокойно…
Но однажды в Ставке поднимется переполох — все будут куда-то уезжать. Куда, зачем — этого Дубенский не знал и не хотел знать — вместе со всеми ехал и царь, и, зная это, Дубенский был совершенно спокоен. Вместе с царем хоть в ад кромешный — не страшно…
Поезд меж тем будет двигаться неровными рывками, с непонятными остановками в чистом зимнем поле.
Но потом поползут слухи… слухи… слухи… Один страшнее другого. И однажды на какой-то безвестной станции в их свитский вагон войдет дворцовый комендант генерал Воейков и, ни на кого не глядя, скажет негромко:
— Его величество только что отрекся от русского престола…
Дубенский, ничего не соображая, прошел в салон и стал там у окна — жизнь для него оборвалась…
И вдруг в это время мимо свитского вагона прошел царь. Он увидел в окне Дубенского, улыбнулся и отдал ему честь…
Об этом последняя запись в его дневнике.
Спустя месяц Дубенский сидел перед следователем Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства и отвечал на его вопросы. На столе перед следователем лежал его помятый дневник.
Почти три часа бился с ним следователь, тщетно пытаясь получить от него показания по важным вопросам, связанным с деятельностью Ставки, а зачуханный, нервный генерал все норовил рассказать, как после отречения царь лично с ним простился… В конце концов следователь понял, что его подследственный попросту человек недалекий, был он слепым слугой царя и приближенным к нему случайно и ничего особенно важного он знать не мог.
Дубенского оставили в покое… Как дальше сложилась его судьба, точно установить не удалось… Тем не менее он помог нам кое-что узнать о волнующем нас 1916 годе, последнем годе русской монархии…
Назад: ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
На главную: Предисловие