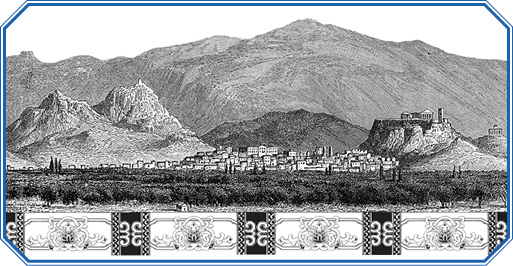Глава пятнадцатая. Турфан (продолжение)
Почва Турфана издавна славилась своим плодородием. Китайцы, описывая эту страну, сообщали, что земли в ней тучные и «производят все пять родов хлеба», что «просо и пшеница дают там два урожая» и что всевозможные плоды и самая разнообразная овощь не только родятся там в изобилии, но и отличаются превосходнейшим вкусом. Одновременно сообщались, однако, и такие факты, которые, по-видимому, находились во взаимном противоречии. Так, изображая климат Турфана до крайности сухим и знойным, а почву страны бедною естественными водами и притом на всем своем протяжении каменистою и песчаною, они описывали ее в то же время густонаселенною и настолько многолюдною, что, например, даже гаочанский владетель был в состоянии одновременно выставить в поле не менее десяти тысяч регулярного войска!
Если известия эти в свое время были верны, если к тому же и площадь посева соответствовала густоте населения, то невольно рождался вопрос: из каких же источников добывалась вода, нужная как для орошения полей, так и для прочих потребностей жителей? Очевидно, что расход ее здесь был громаден, а средства на его покрытие совсем ничтожны.
Первым европейским путешественником, посетившим Турфан, был Регель. Он обратил внимание на оригинальный способ орошения турфанских полей при посредстве сети подземных каналов, но, не понявши устройства их, дал нам не вполне правильное о них представление.
Все речки, сбегающие с южных склонов Тянь-Шаня, пропадают, как мы уже видели выше, у подошвы последнего; но дальше к югу воды их снова выступают на поверхность в виде целого ряда ничтожных ключей, слагающих пять вышеупомянутых ручьев: Булурюк, Кара-ходжа, Туёк, Лемджинскую речку и Ергун (Птичанскую речку); они пересекают гряду Туз-тау по пяти соответственным долинам и выбегают в отрицательную низменность Асса, на северной окраине которой и разбиваются на арыки. Но воды этих ручьев в общей сложности так ничтожны, что ими могла бы воспользоваться едва двадцатая часть населения целой страны. Вот почему всю остальную потребную последнему массу воды пришлось издавна добывать при помощи замечательных гидротехнических сооружений, известных в Турфане под персидским названием «карысей» [кяризов, керизов]. Целые оазисы, как например Ханду (древнее Хан-хоро), Кара-ходжа-карысь, Сынгим (древнее Билу?), своим существованием обязаны даже исключительно воде этих карысей; другие оазисы, как Турфанский, Пичанский, Туёк, Кара-ходжа, Люкчун и Мултук, только частью получают свою воду из упомянутых выше ручьев; главнейшим же образом заимствуют ее из карысей, устья коих выведены или в ключевые центры, или же непосредственно в пределы культурного округа.
Устройство карысей очень простое. В местности, известной населению неглубоким сравнительно залеганием водосодержащих слоев, роется головная «дудка», т. е. узкий и глубокий колодезь, который заканчивается в этих слоях; отступя метров восемь, много если уже десять, роется вторая такая же дудка, потом третья, четвертая, сотая, до тех пор, пока их глубина не дойдет до двух метров; тогда эти дудки, начиная с последней, от которой уже ведется арык, соединяются между собою каналом [подземной галереей], прорезающим таким образом во всю их длину водосодержащие почвы. Ясное дело, что тогда в такую трубу устремляется вся вода этих последних, но, разумеется, в пределах, строго ограниченных ее всасывающею способностью.
Для того, чтобы увеличить струю карысной воды, в магистральный канал проводятся ветви; если же нет для этого подходящих условий, то или несколько параллельных между собой карысей соединяют в один, или удлиняют его еще новыми дудками. Но последний случай встречается сравнительно редко, так как с удалением от устья карыся глубина колодцев увеличивается постепенно и, наконец, достигает того максимума, который следует считать почти что предельным; так, например, головные дудки хандуских карысей достигают в некоторых случаях глубины большей 85 м! Но на такой глубине и поддержка карыся становится уже трудной. Ремонт последнего выполняется при помощи все тех же дудок, которые раньше служили для проложення канала; потому, в свою очередь, они тщательно поддерживаются и зачастую укрепляются деревянными рамами; тем не менее обвалы в них бывают нередки, а ремонт карысей не прекращается никогда.

Все жители Турфана в большей или меньшей степени знакомы с устройством карисей, но только беднейшим его жителям приходится работать над исправлением этих последних, так как работа эта справедливо считается здесь столь же опасной, сколько и трудной. Зато жертвы катастрофы хоронятся всегда на общественный счет, а могилы их чтятся народом.
Если посмотреть на Турфанскую область с высоты птичьего полета, то большая часть поверхности ее покажется нам точно изрытой какими-то гигантскими землеройками, с тем, впрочем, отличием, что значительные кучи земли не разбросаны здесь в беспорядке, а вытянуты стройными линиями. Это и есть карыси.
В общей сложности карыси – сооружение, столь же изумительное по своей громадности, сколько и по смелости замысла. Оно все внизу, на глубине десятков метров, а потому и не импонирует на путешественника; между тем, если подсчитать сумму труда, употребленного турфанцами не только на прорытие всей этой сети подземных каналов, обеспечивающих существование многих сотен семей, но и на постоянную поддержку последних, то удивлению нашему не будет границ.
Достаточно сказать, что для орошения площади в 160 му, т. е. 8 десятин (8,7 га), в оазисе Ханду, например, требуется вода с одного карыся при наименьшей длине последнего в три километра. При такой величине карыся головной колодезь последнего может иметь глубины минимум 300 футов (90 м); принимая же в соображение, что на один километр приходится от 100 до 120 дудок, а на все протяжение от 300 до 360, при средней глубине в 150 футов (45 м) и площади сечения в 6,25 кв. футов (0,5 кв. м), получим, что для вырытия дудок потребно было выкинуть земли и гальки в круглой цифре не менее 280 тыс. куб. футов (70 тыс. куб. м); если же присоединить сюда и подземный канал длиною в три километра, то вся масса выкинутого материала значительно превысит 300 тыс. куб. футов (85 тыс. куб. м), из коих не один десяток тысяч пришелся на глубину в 35 сажен (74 м)!
В оазисе Ханду до двухсот карысей, во всей же северной части Турфанской области (харюза) их так много, что определить в точности количество их невозможно; во всяком случае, число их существенно увеличено быть не может, так как, по-видимому, уже в настоящее время почти весь запас подпочвенной влаги высасывается карысями сполна. Местные жители подметили даже, что увеличение числа боковых колодцев уже не увеличивает в желанной мере количества воды в магистральных каналах, а также и то, что вновь проведенный карысь или уменьшает количество воды в соседних, или же вовсе их осушает. Вместе с тем подмечено было также и периодическое колебание уровня в этих колодцах: летом оно выше, чем в зимние месяцы; это явление, весьма важное для земледельца, находится, по-видимому, в прямой зависимости от летнего таяния снегов в горах Богдо-ола.
Когда среди бесплоднейших каменистых степей харюзы мы вдруг увидали оазис Ханду, то, как помнит читатель, были поражены его красотой, оживленностью и богатством. Даже лучшие места в долине Зеравшана, этой издавна прославленной «жемчужине Востока», не в состоянии выдержать сравнения с тем, что мы здесь увидали.
Это, в буквальном смысле слова, роскошнейший сад, какое-то в высшей степени благоустроенное поместье, где все дышит необычайным порядком и даже довольством. Террасовидно подымающиеся поля, засеянные кунжутом, ак-джугарой, хлопчатником и всевозможными иными культурными растениями и огороженные только линиями древесных посадок – айлантов и тутов, производят чрезвычайное впечатление отсутствием каких бы то ни было следов потравы на них; непроницаемая тень громадных вязов и тутов, среди которых вы едете, ирригационные канавы, по которым несутся струи холодной и чистой воды, наконец, даже дорога, изумительная своей необыкновенной опрятностью, – вот первые впечатления при въезде в оазис.
С каждым шагом вперед поражаешься все более и более; впереди, наконец, и селение… но это даже и не селение, а ряды ферм, утонувших в густой зелени тутовых, абрикосовых и персиковых деревьев, яблонь и груш; виноградники и плющ дополняют очарование… Среди селения вы объезжаете пруд с перекинутым через него легким, слегка дугообразно изогнутым мостиком китайской архитектуры; по-видимому, пруд этот только в редких случаях видит солнце, – до такой степени мощны деревья, засаженные вдоль его берегов. Пруд среди каменистой пустыни, самой безжизненной из среднеазиатских пустынь! Не чудо ли это? И если вспомнить, что вся масса воды в Хандуском оазисе извлечена с глубины в 60 или даже более метров, то не должны ли мы остановиться в изумлении перед земледельцем Турфана, осилившим и пересоздавшим природу?
Когда видишь все это, то невольно приходят на память легенды о великом прошлом Восточного Туркестана. Когда-то существовало в нем одновременно до 60 отдельных владений, теперь же не наберется здесь того же числа городов и местечек. Множество последних исчезло без всяких следов былого существования, и там, где некогда они были, тянется теперь такая же безотрадная пустошь, как и турфанская харюза.
Все путешественники утверждают, что местность на восток от Хотана изобилует значительными запасами подпочвенной влаги: «Стоит здесь только копнуть, – говорят они, – чтобы показалась вода». Турфан представляет несравненно худшие условия водоснабжения, и между тем мы застаем здесь всюду такие цветущие оазисы, как Ханду. Что же мешает нам думать, что и на северных склонах Кунь-чуня существовали и могут существовать города, обязанные своею жизнью исключительно воде карысей. Но устройство карысей дело капризное, требующее неусыпного внимания и постоянного ремонта, а потому и значительных расходов, незнакомых другим земледельцам.
Только в Турфанской области сохранился еще вполне этот способ орошения почвы, и это, может быть, потому, что Турфан, как кажется, до 60-х годов текущего века все еще умел сохранять проблески своей прежней самостоятельности. К тому же настоящая хищническая эксплуатация этого богатого края китайцами началась только лет двадцать назад, а потому и не успела еще в корне подорвать благосостояния его жителей.
Ниже мы увидим, как беспощадна и многообразна эта эксплуатация, готовящая Турфану страшные бедствия, а теперь постараемся познакомится и с самым предметом этой эксплуатации – уроженцем Турфана.
Вот и он перед нами. В среднем типе не столь красивым и статный, как таджик Русского Туркестана, он, однако, не менее последнего жив и подвижен. Скулы его выдаются сильнее вперед, глаза у́же, но всегда выразительны, растительность на лице очень редкая. В общем телосложение его сухопарое, рост средний, грудь часто впалая. Производя впечатление физически слабого человека, он, однако, чрезвычайно вынослив, деятелен и неутомим. Мне кажется, что вся организация его приспособлена к тому именно, чтобы быть сытым при самом ничтожном количестве пищи; и действительно, трудно даже представить себе, как мало он ест! И в этом, может быть, и следует видеть тот именно якорь, который спасает турфанский народ от повального разорения. Насколько он скромен в еде, настолько же он скромен и во всем остальном.
Когда-то в Турфане выделывались прекрасные вина, приводившие китайцев в непомерный восторг; с введением мусульманства искусство это было совсем забыто, и ныне турфанцы спиртных напитков, как кажется, почти вовсе не пьют. Одевается он также замечательно просто, но в то же время и очень опрятно. Одежда эта состоит из нижеследующих частей: длинной рубашки (куйпэк), сшитой из местной хлопчатобумажной материи – белой бязи (бэз), и таких же штанов (дамбал), заправляемых а сапоги (пайпак) лошадиной кожи; из ватной кофты (джаймэк), застегивающейся на левом боку и настолько широкой, что ее приходится подпоясывать кушаком (путё), для которого берется обыкновенно или кусок бязи, или 6,4 м (гезь) ситцу, и, наконец, из тюбетейки (допа), или же шапки с меховым околышем (коробок) общетуркестанского типа.
Более состоятельные заменяют джаймэк халатом, но последний входит в употребление только по городам, да и то преимущественно только среди людей пожилых и почтенных.
Насколько нам удалось определить характер турфанца – скромность составляет его удел; я думаю, что у некоторых она переходит даже в забитость. Турфанец терпеливо выносит тиранию китайской администрации и своего природного князя, но, может быть, это только временно бездействующий вулкан? Во всяком случае он мало напоминает прежнего жителя этой страны, непокойного и вечно с кем-нибудь да воевавшего чешысца… Он предпочитает, по-видимому, мир да покой, а потому хотя и ропщет, но все же лезет в ярмо, добровольно обращаясь в батрака каждого, кому не лень наживаться на счет этого добродушного человека; поэтому, мне кажется, нет страны, где бы ростовщичество было так распространено, как именно здесь.
«Когда-то, – говорили нам старики, – мы переживали лучшие времена; тогда и народ был честнее… Воровство и обман строго наказывались, а теперь этих наказаний никто уже не боится…»
Можно легко этому верить. Сама судьба заставляет человека, попавшего в лапы ростовщика, изворачиваться, затем унижаться и, наконец, даже прибегать к недозволенным законом и совестью действиям. Подобное движение по наклонной плоскости вниз так хорошо всем известно, что о нем и распространяться долго не стоит. К тому же народ, управляемый не законами, а произволом, проходит здесь очень плохую школу нравственности; про Турфан же мы скорее, чем про какую-нибудь другую страну Востока, имеем право сказать, что закон существует здесь только для тех, кто богат.
При всем том, благодаря своей аккуратности, трудолюбию и уменью довольствоваться самым малым, турфанец еще сводит кое-как концы с концами; при поверхностном взгляде он производит впечатление даже человека зажиточного: так, всегда он опрятно одет и в таком порядке находятся его крошечный дворик и прилепившиеся на краю последнего жилые покои.
Обо всех туркестанцах приходится зачастую выслушивать мнение, что это народ давно изолгавшийся и вполне лицемерный, что вероломство составляет столь же врожденное у них качество, как и себялюбие или жестокость. Мы, однако, совсем не разделяем такого крайнего взгляда и желали бы дать туркестанцу иную характеристику; вот почему мы и к турфанцам решаемся отнести те слова, которые писались почтенным академиком Миддендорфом о таджиках Русского Туркестана.
«Если мы с беспристрастием отнесемся к коренным чертам характера таджиков, которых частенько и жестоко ругали, то вскоре убедимся, что, кроме прекрасных наклонностей к добру и немалых дарований, таджик бесспорно отличается поэтической мягкостью души. Я вовсе не хочу отрицать больших недостатков их и пороков; но они обращаются в нечто очень малое, если обратить внимание на то, при каких условиях выработалось то здоровое ядро, которое сохранилось в них и поныне…»
Что взаимная любовь и постоянство и в Турфане ценятся высоко и даже, пожалуй, считаются краеугольным камнем семейного благополучия, видно, как мне кажется, из следующей, прекрасной по содержанию своему, песни, распеваемой чуть ли не в каждом семействе:
Кабы нам с тобой, как Юсуп с Залихой,
Так же дружно жить, разлюбезная,
Милая, милая,
Сердце забилось бы радостью…
А и спросят если тебя, моя милая.
Что за люди те – Залиха и Юсуп?
Это те (отвечай), что, состарившись,
Свою любовь по белу счету развеяли…
Милая, милая!..
Уроженки Турфана скорее низкого, чем среднего роста, телосложения в большинстве случаев очень неправильного, что обусловливается длинным туловищем и развитыми тазовыми костями; впрочем, так как нет вообще правил без исключений, то и тут попадаются женщины высокого роста и пропорционального телосложения. Большинство из них предрасположено к полноте, но полные чаще встречаются на улицах городов, чем в деревне, где физический труд и частое недоедание немало, разумеется, мешают ожирению тела.
Идеал красоты турфанлык видит в женщине иранского типа, и жительницы этой страны употребляют всяческие старания к тому, чтобы хоть сколько-нибудь на них походить. Для того чтобы казаться выше, они носят непомерно высокие каблуки; ресницы и брови подводят и тем достигают одновременно двух целей: во-первых, скрадывают широкое расстояние между глаз, а во-вторых, увеличивают как размеры последних, так и длину бровей и ресниц; низкий лоб они искусно прикрывают прической, а все лицо перестает казаться круглым и плоским благодаря головному убору – «допа». Таким образом, монгольские черты лица они стараются по мере возможности сглаживать и на их счет развивать особенности лица иранского – немаловажное доказательство в пользу того, что первобытное население этой страны было арийское, а не тюрко-монгольское!
Как представительницы и всех других рас, населяющих Внутреннюю Азию, они любят румяниться и белиться, и надо отдать им полную справедливость – весьма часто злоупотребляют и тем и другим, точь-в-точь как большинство китаянок, считающих, что появиться в народе без достаточного количества белил и румян на лице неприлично. Глаза у всех тех женщин, которых мы видели, были карие или даже темно-карие и живые; волосы черные и жесткие. Встречаются ли между ними женщины с более светлым оттенком волос, в точности мне неизвестно; судя, однако, по мужчинам, нужно думать, что да, потому что в Турфане русоволосые люди вовсе не редкость.
Одежда турфанок состоит из следующих частей: из длинной цветной ситцевой или кумачовой рубашки (куйпэк) и таких же штанов (дамбал); из парадной шелковой (китайская фанза) рубашки (янзо-куйнэк), цветных, обыкновенно красных, гетров (чекмень-иттык), ичигов с калошами (кебис-пайпак), а зимой сапог на высоких подборах (панпак), кофты, схожей покроем с мужской (джаймэк), шелкового халата (шаи-чапан), тюбетейки (допа), шапки, обложенной выдрой (тэльпэк), большого красного платка (яхлык) и, наконец, тоже цветного, но меньшего (личаг).
Зимой, кроме того, носится шуба, подбитая мерлушкой (копё) и крытая какой-нибудь материей, обыкновенно крашениной или полушелковым кокандским адрасом. Но, разумеется, полный комплект выше поименованного гардероба имеется только у богатых: бедные же зачастую носят мужнину шубу, гетры заменяют из цветной шерсти вязанными чулками, о шелковых же халатах и янзо-куйпэках только мечтают.
Замуж турфанки идут рано, нередко четырнадцати и даже тринадцати лет, причем сватовством заправляют всегда почти свахи, которые и играют довольно видную роль во все время празднества и обрядов, сопровождающих помолвку и брак.
В Турфане ни одна свадьба не обходится без музыкантов; к тому же последние играют скорее ради угощения, чем вознаграждения, которое, однако, всегда слагается из тех приношений, которые добровольно жертвуются не в меру развеселившимися гостями. Для сбора последних перед музыкантами ставится столик, на который устанавливается поднос с тремя лепешками. Все, что жертвуется танцующими, кладется именно на эти лепешки и потом уже делится поровну между играющими, причем существует даже такой нелепый обычай, что, если, например, играющих трое, а платок всего только один, то его разрывают на части.
Оркестр всего чаще составляется из нескольких дутаров и дафов; очень редко можно встретить здесь музыканта, играющего на сетаре и еще реже на гиджаке, равабе и янчине, которые, однако, во всеобщем употреблении у жителей Хами. Но каков бы ни был вообще состав инструментов, единственное их назначение – аккомпанировать голосам, которые только одни и выводят мелодию.
Обыкновенно песню начинает запевало, подчас очень искусно аккомпанирующий себе на дутаре то щипком струны, то бойким выбиванием трели по кузову инструмента. Все молчат в это время, и только дутаристы поддерживают певца, да тихо-тихо гудит бубен… Но вот куплет кончен, десятки голосов выкрикивают: «яр, яр!», дутаристы усиленно бегают пальцами по струнам своего инструмента, а бубен с подвязанными к нему медными бляхами выделывает какие-то странные, точно конвульсивные движения по всем направлениям… – выходит чрезвычайно красиво и не менее лихо, чем у наших цыган.
Все плясовые мотивы турфанцев звучат несколько дико, но им никак нельзя отказать в легкости и красоте. Это совсем не то, что музыка китайцев: набор диких звуков без всякого ритма или, в большинстве случаев, совсем для нас непонятный рев духовых инструментов бухарских оркестров. Эта музыка нам ясна: она, действительно, подмывает человека вскочить с места и броситься в плясовую…
Но вот и танцам конец. Гости теснятся к выходу и разбиваются на кучки в ожидании готовящегося угощения. Домашние в суете: надо устроить стол хотя бы почетным гостям, а остальные будут, без сомнения, не так уж взыскательны, так как ведь всякий же хорошо понимает, что стен по произволу никак не раздвинешь… а потому было бы только что есть, а об остальном сами гости уж позаботятся.
Ловкими и быстрыми движениями хозяйка восстанавливает нарушенный было на канжине порядок: вдоль стен снова уложены одеяла (иоткан), посередине разостлана скатерть (супра), и на ней появляются одна за другой деревянные миски с лапшой, пирожками, начиненными тыквой (кауа), с вареным мясом, рисом и с прочей сряпней; подносы (панза) с лепешками пресными и сдобными (чальпэк), изюмом, орехами, сухими фруктами, гранатами (анар) и зимними сортами дынь (мизган), а если пиршество происходит в летнее или осеннее время, то и с горами винограда, груш, «наш-пута» и прочих фруктов, которыми так богата Турфанская область. Когда все готово, вокруг супры усаживаются старики и прочие почетные гости; хозяин подает «ивриг», и после церемонии омовения рук все принимаются за еду.
Окончив трапезу, почетные гости расходятся, а молодежь разбивается на две группы. Молодые люди уводят с собой жениха, и кто на чем горазд – верхом на лошадях или ослах, часто по двое на одном, уносятся на край селения, иногда в усадьбу одного из более зажиточных односельчан, часто километра за три и более, где и предаются на свободе различным юношеским забавам и играм. Так же поступают по отношению к невесте и ближайшие подруги ее.
Тем временем в доме родителей жениха все изготовлено к приему новобрачных. Если есть особая горница – устраивают ее; если нет – в общей спальне отгораживают какими-нибудь занавесками один из углов. Тут же раскладывается напоказ и все приданое, заготовленное невесте.
Молодежь съезжается сюда только вечером. К кортежу невесты присоединяются и все ее родственники, как более близкие, так и дальние, которые сообща и образуют обыкновенно шумную и многочисленную толпу. Считается вообще очень приличным, если невеста упирается и делает чрезвычайные усилия для того, чтобы не перешагнуть через порог женихова дома. Ее уговаривают и утешают песнями вроде следующей:
Гай, гай песня! Начинайся, песня!
Где только ни растут цветы, дорогая, дорогая…
Один из них всегда уж лучше будет, чем другой,
Потому что и цветы ведь разные бывают, дорогая, дорогая…
Совершенно так же, как люди, а потому будь же довольна и тем, кто отныне становится твоим мужем…
Когда же уговоры не помогают (а обыкновенно они не помогают), то ее сперва начинают подталкивать сзади, потом подхватывают подмышки и, наконец, берут даже на руки, после чего уже ни брыкаться, ни сопротивляться не принято; не принято также при этом и плакать, но иногда невеста действительно и искренно плачет, особенно если была баловнем своей матери. В этом последнем случае хор всегда старается заглушить всхлипывания невесты нижеследующей песней:
Что за кувшин, в котором вода вовсе не греется?
Что за девка, коли в горе слезами не заливается.
По прибытии жениха и невесты мулла прочитывает им вслух две-три молитвы, чем одновременно и заключает, и благословляет их брачный союз. Затем молодая подходит к мужу, снимает с него шейный платок и всенародно целует его в губы. Этот поцелуй – знак: гостям расходиться. В горнице остаются только две свахи, на обязанности коих лежит, во-первых, разостлав малое одеяло, накрыть его чистым белым платком, а во-вторых, стеречь молодых целую ночь… Когда молодые остаются одни, то дело жены (мазом-киши) – раздеть мужа. А наутро муж забирает с собой платок и передает его свахам, которые уже и несут его для освидетельствования к свекрови.
От результата этого осмотра зависит степень награды свах, которые в благоприятном случае получают обед, по большому платку и по шкуре барана. Но на всем этом свадебное торжество далеко еще не кончается, так как веселятся вслед за тем еще целых три дня, причем сперва принимают гостей молодые, обязанные выставить «аш» в том же количестве, какое накануне подавалось в доме родителей новобрачной, а затем снова последние; в конце же концов опять молодые. Впрочем, в этих двух случаях количество «аша» уже значительно уменьшается, а на вечеринки зовутся исключительно только люди близкие или родные.
Описанные празднества сопровождают вступление в брак только девицы; если же выходит замуж разводка или вдова, то на устраиваемую вечеринку приглашаются исключительно только самые близкие родственники и знакомые, в зависимости от чего уменьшается и количество «аша» до пяти джинов мяса и одной крю муки. Приданое хотя и делается, но количество вещей гардероба невесты сокращается обыкновенно до минимума. Обычай вменяет в обязанность жениху заготовить только следующие четыре предмета: допу, шаи-чапан, джаймэк и куйпэк. Что же касается до штанов, обуви, подушек и одеял, то изготовление их лежит уже всецело на обязанности невесты.
Развод в Турфане совершается часто и не обставлен никакими особенными формальностями; требуется только санкция какого-нибудь ахуна.
Не получая за это никакого вознаграждения и будучи, между тем, завален такими делами, в исходе которых он материально заинтересован, ахун весьма редко имеет возможность отнестись с должным вниманием ко всем обстоятельствам дела, а потому разводит всех желающих развестись при первом только о том заявлении. Самое главное затруднение представляет всегда вопрос о приданом, но и он очень быстро улаживается, так как зачастую обе стороны относятся друг к другу весьма добродушно; к тому же нередко недовольная своим супругом жена находит себе заместительницу при муже, и тогда имущественный вопрос этот разрешается полюбовным соглашением между обеими женщинами.
Если пожелавшие разойтись имеют детей, то дело решается не по шариату, а по обычаю. Муж один вправе располагать судьбой своих детей. Он или оставляет их у себя, или отдает их жене, и при этом в том даже числе, в каком ему это заблагорассудится. Однако и в последнем случае он все же обязан их содержать, выдавая в месяц на каждого по 1 крю пшеницы и 2 крю кунака. Такая выдача прекращается или со вступлением его бывшей жены во вторичный брак, или же тогда, когда дети его возмужают настолько, что в состоянии сами себя прокормить. Но примеры столь полного разрыва не часты. Обыкновенно дети, да и ближайшие родственники, побуждают разошедшихся снова сойтись, и тогда уже совместную жизнь таких парочек редко посещает вздорное желание вновь разойтись после какой-нибудь пустой перебранки.
Рождение ребенка в Турфане не празднуют. Зато когда его первый раз кладут в зыбку (бешик), то событие это стараются отпраздновать по возможности пышно. Созываются знакомые и родные, которым приготовляется соответствующее торжеству угощение: чай, сдобный хлеб (чальпэк), вареное мясо и сласти. С своей стороны, и гости несут родильнице кому что по силам: живность, муку, рис, куски бязи, платки, а когда так и денег.
У мусульман Бухары и Русского Туркестана существует обычай праздновать шестимесячный срок родильнице; в Турфане такого праздника нет. Равным образом, «сундет», т. е. обряд обрезания, хотя и празднуется в Турфане, но далеко не так торжественно, как у наших киргизов, например. Впрочем, и здесь собирается чуть ли не весь околоток, режется баран, пекутся лепешки, а затем нередко затеваются даже пляски и игры, в которых самое деятельное участие принимают всегда как сверстники мальчугана, так и сам виновник этого торжества.
* * *
В Русском Туркестане каждая жилая постройка делится на две половины: мужскую – «ташкари» и женскую – «ичкари». В Турфане такого разделения не существует. Даже у людей среднего достатка женщины, мужчины и дети спят в одной горнице, которая в то же время служит семье и кладовой, и приемной. Это – в холодное время года, летом же редко кто спит в закрытом помещении; большинство предпочитает меститься под навесами, которые приделываются всюду, где только позволяет расположение прочих построек.
Отсутствие женской половины в домах Турфана является исключительной и, вместе с тем, древнейшей особенностью как этой страны, так и соседней с нею – Хамийской. Ничего подобного мы не видим ни в одном из мусульманских владений Внутренней Азии, а равным образом и в Китае, где господствующая религия вовсе не вызывает женского затворничества, но где последнее, тем не менее, считается краеугольным камнем прочного семейного строя.
Подтверждаю свои наблюдения выписками из старейших описателей Китая, которых нельзя упрекнуть в нерасположении к последнему:
«В домах видеть жен и дочерей их не можно, ибо они у них находятся в отделенных внутренних комнатах и, занимаясь в домах между собою своими увеселениями, живут, как невольницы; и вход к женатым людям не только посторонним, но и родным, живущим в одном с ними доме, мужчинам запрещается, почему даже отец к женатым сыновьям и старший брат к младшим входить права не имеет».
«Прекрасному полу принимать участие в собрании мужчин предосудительным считается. Скрывать женский пол от посторонних есть обыкновение, общее и чиновникам и разночинцам».
Наконец, подтверждением вышеприведенных цитат могут служить и выписки из статьи о Китае Чжан Цзидуна (Tcheng Ki-tong), которого меньше всего можем мы заподозрить в желании повредить репутации своего народа, так как все статьи его написаны были именно с тою целью, чтобы возвысить свою родину в глазах европейцев. К сожалению, в своей слепой и часто бестактной защите всего китайского он переходит границы, подсказываемые благоразумием, и тем, разумеется, в значительной степени умаляет достоинство своих заметок, эпиграфом коих может служить латинское изречение: credere [credо] quia absurdum [est].
«Единственная цель заключения брака – увеличение семьи, так как процветание последней всецело зависит от ее многочисленности; отсюда предоставление выбора в брачных союзах родителям, как представителям начала власти».
«Женщины не участвуют в собрании мужчин; так установлено обычаем в видах устранения поводов к соблазну».
«Брачные обычаи Китая совсем исключают период ухаживания, так как обыкновенно девушка впервые знакомится с своим будущим мужем только в момент заключения брачного обряда».
«Воспитание мужчины и женщины совершенно различно, потому что муж, по понятиям китайского народа, есть солнце, дающее свет, а жена – луна, не имеющая своего света, но заимствующая его от солнца».
Ввиду всего вышесказанного как-то странно слышать из уст лиц, посвятивших себя специально изучению Востока, утверждения подобные тому, например, что «китайцы своих женщин не запирают».
Эта вера в свободу и равноправность китайских женщин – такое же заблуждение, как и многое другое из числа того, что пишется о Серединном государстве людьми или близорукими по природе, или наблюдавшими китайскую жизнь только из окон домов европейских посольств и факторий.
Как бы то ни было, но мы не без основания можем, как кажется, утверждать, что современные взаимные отношения обоих полов в землях Восточного Тянь-Шаня сложились во всяком случае не под китайским влиянием, что в основании их лежит общественный строй эпохи более древней, чем эпоха первых сюда вторжений китайцев, что, вероятно, свобода, а с нею, быть может, и равноправность женщины составляли некогда даже настолько существенную особенность общественной жизни в Турфане, что последняя почти всецело здесь и до сих пор еще удержалась, сумев побороть как всемогущее влияние ислама, так и пример соседних народов; и этой бескровной победе, без сомнения, в значительной степени содействовал консерватизм народа в возведении своих жилых помещений.
Как бы ни был беден житель Турфана, но дом его непременно слагается из следующих четырех главных частей: 1) теплой горницы с обширным подтапливаемым снизу канжином, занимающим обыкновенно чуть ли не все помещение и имеющим с края круглое отверстие для котла; в благоустроенных домах для того, чтобы усилить тягу, снаружи стены выводится высокая дымовая труба, – опять особенность, до которой далеко еще не всякий в Китае додумался; канжин этот обыкновенно устилается толстым войлоком и вдоль стен уставляется сундуками и различными иными предметами домашнего обихода; освещается эта горница, как, впрочем, и все остальные, квадратным отверстием, проделанным в потолке и закрывающимся снаружи доской; 2) летнего помещения, обыкновенно более обширной комнаты, чем предыдущая, с одним или двумя окнами, многочисленными нишами и камином; 3) внутреннего дворика с яслями, кладовками и всевозможными иными удобствами; и, наконец, наружного двора, на который выходит одна или несколько открытых площадок с навесом над ними.
Все это обносится, так же как и в домах русских таджиков, одной общей глинобитной стеной, благодаря чему и все селение, в общем, совершенно напоминает селения Туркестана, да и архитектура построек здесь та же; все же различия, какие и замечаются, сводятся на детали.
Упоминавшуюся уже выше хлебную печь делают или на этом дворе, или близ тока, который постоянно расчищается, вне ограды усадьбы, хотя весьма редко где-нибудь в поле, всего же чаще в каких-нибудь двух или трех шагах от ворот. Печь устраивается очень просто: выкапывается в один метр глубиной круглая яма, которая и вымазывается изнутри тонким слоем глины; края ее окружаются плоским, глиняным же, валиком, одновременно исполняющим два назначения: стола и ограды, высота которой обыкновенно не превышает 70 см. В построенную таким образом печь складывают сначала дрова или хворост и жгут их до тех пор, пока стенки последней не накалятся вполне. Тогда из кислого теста раскатывают лепешки, смачивают водой и лепят на накаленные стены; через минуту такой хлеб уж готов – и редко оказывается вполне неудачным.