А. В. Эвальд. Из рассказов об императоре Николае I
В нынешнем году 25 июня исполнилось 100 лет со дня рождения императора Николая Павловича. Теперь еще не наступило время для оценки деятельности этого замечательного государя, так как, по близости расстояния и недоступности наиболее важных архивных документов, мы не можем отнестись к его царствованию с полной беспристрастностью. Но на современниках его лежит обязанность собирания материалов для всесторонней обрисовки его личности и деятельности.
С этою целью я записал несколько случаев из жизни императора, из которых одним я сам быть очевидцем, а о других слышал от людей, мне близких и заслуживающих доверия.
II. Ученическая история
Я не скажу, чтобы в так называемое доброе старое время педагогия особенно процветала. Существовавшее в то время крепостное право накладывало на все стороны жизни свой отпечаток, не оставив без внимания и педагогическую деятельность.
Главным орудием воспитания считалась тогда березовая розга. Я почти не знаю примера, чтобы ученик того времени мог пройти семь или восемь гимназических классов, ни разу не подвергнувшись действию березы. Понятно, что на учеников младших и средних классов она производила впечатление преимущественно физическое.
Но ученики высших классов, у которых уже были развиты более или менее понятая о чести и достоинстве человека, относились к розге иначе, и для них такое наказание было более нравственным, чем физическим.
В Гатчинском сиротском институте того времени попадались иногда хорошие преподаватели и воспитатели, но таких было не много, и они составляли бессильное меньшинство. Из числа таковых я припоминаю известного в свое время историка Смарагдова; также старика Василия Петровича Шульгина, человека высокообразованного и гуманного; профессора физики Щеглова; преподавателей юридических наук: Преображенского и Деппа.
Из воспитателей оставили добрую память старший надзиратель Галлер, младший надзиратель Шуман.
Большинство же как преподавателей, так и воспитателей не отличались ни особенным образованием, ни тем более уменьем заслужить уважение воспитанников. Вследствие этого не мудрено, что между воспитателями и учениками старших классов часто возникали недоразумения.
Одно из подобных недоразумений, к несчастью участвовавших в нем учеников, случилось осенью, незадолго, или почти накануне, переезда в Гатчину императора. Ученики старшего выпускного класса, юноши около двадцати лет, в чем-то не поладили со своим воспитателем и наделали ему дерзостей.
Тогдашний директор института, Григорий Иванович фон Дервиз, приказал главных виновников наказать розгами, несмотря на протесты других воспитателей. Экзекуция была произведена публично, то есть в присутствии всех учеников двух или трех старших классов.
Хотя наказание было самое легкое, так как каждому дали не более двух или трех ударов розгами, но оно было в высшей степени оскорбительно для взрослых юношей, которые рассчитывали в скором времени быть самостоятельными людьми и вступить в общество.
По окончании экзекуции, они, понятно, ожесточенные таким обращением с ними, еще более возмутились и обратили свою месть на фон Дервиза, который, как говорили, пострадал при этом.
Как всегда бывает в подобных случаях, история эта разгоралась более и более.
Почетным опекуном института в то время был Сергей Степанович Ланской, впоследствии министр внутренних дел и граф. На время пребывания государя в Гатчине он также всегда приезжал туда, останавливаясь в особой небольшой квартире, предназначенной исключительно для него, в самом здании института.
Бывши мальчиком, я попросил раз сторожа при этой квартире показать мне ее, когда тут жил Ланской, но отлучился во дворец. Квартира состояла из четырех небольших комнат: спальной, уборной, гостиной и кабинета. В уборной меня поразило то, что на одном столике я увидел шесть или семь подставок с париками.
– Зачем у него так много париков? – спросил я сторожа.
– Это, изволите ли видать, для того, – объяснил он, – что они надевают парики по очереди: спервоначалу наденут, примерно, вот этот, с самыми короткими волосами и поносят его несколько дней. Потом наденут вот этот, у которого волоса чуточку подлиннее, и тоже поносят его несколько дней.
Потом вот этот, еще подлиннее, и так до последнего. После того надевают с самыми короткими волосами – оно и выходить так, как будто у них собственные волоса растут, и будто они их подстригают.
Но это – между прочим. Дело же в том, что история с учениками старшего класса столько нашумела, что Ланской должен был доложить о ней лично государю, из предосторожности, чтобы слух о ней не дошел до него сторонними путями.
Приехав в институт, император Николай Павлович потребовал представить себе два старших класса и высказал им свое крайнее неудовольствие за случившееся, а в заключение приказал главных виновников сдать в солдаты.
Такое строгое решение испугало Ланского, который, видимо, не ожидал подобного исхода дела. Несмотря на гнев государя, он осмелился робко заметить, что главные виновники за все время пребывания в институте вели себя хорошо и были лучшими учениками, во имя чего и просил пощадить их.
Государь на это ходатайство ответил:
– Мне не нужно ученых голов, мне нужно верноподданных.
Далее просить было, конечно, невозможно. Несчастных отделили в особое помещение, и они уже готовились надеть солдатские шинели, но, к счастью их, чрез несколько времени государь смилостивился, не знаю, по собственному ли почину, или вследствие чьего-нибудь ходатайства, только от солдатчины они были избавлены и отправлены на службу в провинциальные города.
Выражение государя, приведенное мною, в высшей степени характерно: оно чрезвычайно выпукло обрисовывает его историческую фигуру и объясняет большую часть явлений его царствования. Ни к чему так строго и беспощадно не относился император Николай Павлович, как ко всякому проявлению неповиновения или вообще протеста против какой бы то ни было власти.
Самый Венгерский поход был предпринят, в противность политическим интересам России, ради все того же принципа. Человек добрый, любящий, внимательный к нуждам каждого, очень часто трогательно нежный, как это увидим далее, он становился суровым и беспощадным при малейшем проявлении того, что в те времена называлось либеральным духом.
Суровую военную дисциплину, с ее безмолвным повиновением и безропотным подчинением младшего старшему, он неукоснительно проводил и во весь строй гражданской жизни и в этой строгой и общей субординации видел главнейший залог благосостояния и могущества империи.

III. Генерал-губернатор Кавелин
Император Николай никогда не оставлял своих верных слуг и заботился о них с трогательным вниманием. Когда какой-нибудь заслуженный генерал делался от старости или болезни уже негодным к действительной службе, государь создавал для него какое-нибудь почетное место, чтобы отставкою не оскорбить старика.
Так, однажды в Гатчине одновременно служили: полицеймейстер города, комендант города Люце и особый комендант дворца, старый генерал, фамилии которого не помню. И первым-то двум в таком маленьком городе делать было нечего, а последний был прислан государем совсем уж сверхкомплектным.
Когда бывший военный губернатор Петербурга генерал Кавелин захворал психическим расстройством, государь, по совету докторов, прислал его в Гатчину, отвел ему помещение в самом дворце и приказал исполнять все его прихоти, как бы странны они ни были. Воля государя была свято исполняема всеми начальствующими лицами.
Помню такие случаи. Однажды ночью к моему отцу, бывшему в то время главным надзирателем в Гатчинском институте, прибежал сторож объявить, что в институт приехал генерал Кавелин и требует священника. Наскоро одевшись, отец пошел узнать, в чем дело, и застал Кавелина в одном зале, перед церковью.
– Где священник? – спросить Кавелин.
– Он живет в городе, в частном доме, ваше высокопревосходительство.
– Пошлите сейчас за ним, надо служить молебен, а я тут подожду.
Нечего было делать, отец мой послал за священником, а Кавелин сел на подоконник и терпеливо ждал. Но чрез несколько минуть он соскучился.
– Вы кто такой? – спросил он отца.
– Старший надзиратель.
– А! Где же ваши воспитанники?
– В спальнях, ваше высокопревосходительство; теперь третий час ночи.
– Покажите мне спальни!
– Пожалуйте.
Пошли они по спальням. Кавелин обходил их, осматривал, расспрашивал и, по-видимому, остался доволен. Пока они занимались осмотром, пришел священник, о чем сторож, бегавший за ним, не замедлил уведомить. Кавелин вернулся в церковь и приказал служить молебен. Помолившись очень усердно, Кавелин поблагодарил священника и моего отца и спокойно отправился пешком во дворец.
В другой раз, также ночью, он вышел из дворца в одном белье и направился в казармы кирасирского полка, расположенные рядом с дворцом. Часовому он приказал позвать трубача, и, когда тот явился, Кавелин велел ему трубить тревогу.
Весь полк должен был подняться. Дежурный офицер подошел к Кавелину спросить, в какой форме он прикажет явиться.
– В какой форме! Разумеется, в походной, – отвечал Кавелин.
Солдаты оделись, оседлали лошадей. Разосланы были гонцы по офицерам, которые все жили в разных местах города.
Когда наконец весь полк собрался, Кавелин велел подать себе лошадь, вывел полк на поле перед дворцом и начал производить учение. На предложение одеться, чтобы не схватить простуду от ночной сырости, будучи в одном белье, он упорно отказался. Занявшись этим около часу времени, он отпустил солдат по казармам, а офицеров пригласил к себе на утренний чай.
Третий случай, который я помню, носил несколько комический характер. Кавелин пригласил к себе на обед коменданта Люце, командира кирасирского полка Туманского и директора института фон Дервиза.
Когда подали суп, Кавелин вывалил к себе в тарелку все содержимое судка: уксус, прованское масло, горчицу, перец, соль, – размешал все это с супом и начал предлагать своим гостям. Те, разумеется, отказывались попробовать такого кушанья.
– Эх, вы, господа! – сказал он. – Ничего-то вы не понимаете в гастрономии.
Взяв ложку, он начал есть, но после двух-трех ложек сам поморщился и сплюнул, запив вином. После обеда он предложил своим собеседникам выйти на дворцовый плац и, построив их в ряд, заставил бегать вперегонку. Понятно, что эти лица, частью по серости, как Люце, частью из чувства собственного достоинства, бегали не особенно-то ретиво, так что Кавелин обогнал их, чем остался чрезвычайно доволен…
Обо всех подобных выходках больного доносили государю, по его приказанию. Впрочем, Кавелин недолго стеснял власти своими причудами, так как болезнь скоро приняла острый характер и он скончался, не придя в себя.
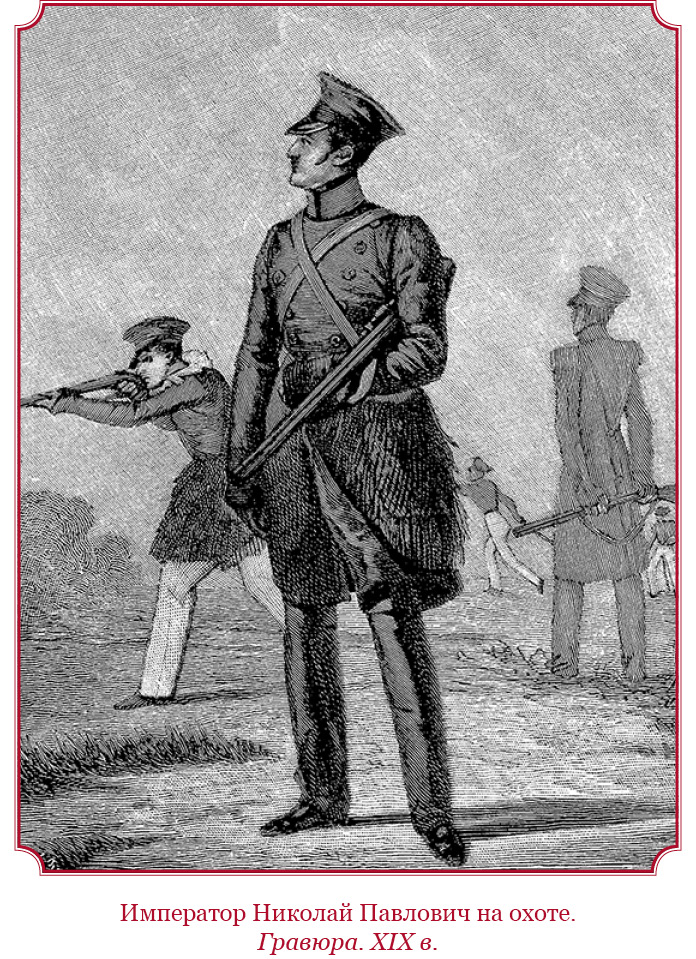
V. Осушение зверинца
В Гатчине, за дворцовым садом, непосредственно к нему прилегает так называемый зверинец, то есть огромное место, по крайней мере в пять или шесть квадратных верст, огороженное сплошным высоким частоколом. В этом зверинце содержались стада ланей, оленей, несколько ослов и имелась дворцовая молочная ферма.
Местность эта представляла почти сплошные лесистые болота, по которым в некоторых местах, вдоль и поперек, проложены были неширокие шоссейные дороги.
Государь пожелал привести этот зверинец в некоторый порядок и осушить болота. Для этого несколько лет подряд по окончании лагерных сборов в Красном Селе, именно в августе месяце, в Гатчину приходил гвардейский саперный батальон, под надзором которого и производились работы крестьянами или пехотными солдатиками, отпускавшимися после лагерей на заработки.
Работы осушения состояли в том, что в болоте прокапывались широкие каналы, земля или торф из которых выбрасывались рядом, образуя острова. Каждый такой остров обивался кругом нетолстыми сваями, на расстоянии друг от друга, которые переплетались тростником, чтобы берега насыпанных островов не расползались и не обваливались.
Для выемки земли машин никаких не было, и вся эта египетская работа производилась лопатами. Для этого рабочим приходилось по несколько часов стоять в воде по колена, а не то и по пояс, как для выемки земли, так и для того, чтобы переплетать сваи.
Работы, с которыми очень спешили, производились всю осень, не разбирая никакой погоды, до самых заморозков. Понятно, что при таких условиях между рабочими развивались всевозможные простудные болезни, часто со смертельным исходом, и они гибли целыми сотнями, переполняя все гатчинские больницы.
Но в больницы попадала только малая часть счастливцев; наибольшую же массу больных рассылали просто по окрестным деревням, где и предоставляли умирать, как кому угодно.
Понятно, что все это тщательно скрывали от государя, иначе он не допустил бы такого массового истребления народа. Если архитектора, положившего рабочих спать в сырых комнатах дворца, государь выдрал за ухо, то, конечно, жестоко наказал бы таких распорядителей по осушке болот.
Благодаря осушке и образованию островков, зверинец принял очень красивый вид.
Император Николай Павлович не был страстным любителем охоты. Иногда он выходил с ружьем в дворцовый парк или в зверинец, подстреливал пару диких уток, да и то редко. Случалось, что в зверинце устраивалась охота на оленей, но это делалось исключительно для развлечения какого-нибудь иностранного гостя.
Устраивалась также охота и на медведей. Для этого пойманных медведей выпускали в зверинце, и их надо было непременно убить, иначе они задрали бы потом оленей или ослов.
На одной из таких охот большой медведь сильно поломал егеря, хотевшего взять его на рогатину. Случилось это на глазах государя. Егерь после этой схватки с медведем, оказался никуда не годным инвалидом, и государь назначил ему такую хорошую пенсию, что он мог жить не только безбедно, но и с большими удобствами. Я знавал этого старика и лично от него слышал рассказ о его борьбе с медведем.

VI. Поездки императора Николая I
При Николае I, как известно, были выстроены у нас только две железные дороги: Царскосельская и Николаевская. Между тем он довольно часто ездил в Варшаву и другие города, сообщение с которыми производилось исключительно на почтовых лошадях.
Так как на подобные поездки поневоле тратилось много времени, то не мудрено, что император требовал наивозможно быстрой езды. Для этого на всех станциях по пути от Петербурга, например, до Варшавы держались для него особые лошади, так называемые – курьерские, которые только и употреблялись для курьеров и для государя и более никому, ни за какие деньги и ни под каким предлогом не отпускались.
Да их и нельзя было отпускать, так как электрических телеграфов еще не было, и неизвестно было, когда может прискакать курьер. А сохрани Боже, если бы на какой-нибудь станции курьер не нашел готовых лошадей.
Государь никогда не ездил в карете или вообще в закрытом экипаже. Летом ему подавали крепкую рессорную коляску, а зимою широкие пошевни, покрытые коврами. Если случалось летом, что коляска дорогою сломается, то государь пересаживался в простую почтовую телегу и в ней продолжал путь, пока на какой-нибудь станции не найдется более удобный экипаж, тарантас или коляска.
Перед экипажем государя, на полчаса или на час впереди его, всегда скакал курьер, обязанность которого была предупреждать станционных смотрителей о приезде государя. Свежие лошади, вполне снаряженные и с готовым ямщиком, выводились на самую дорогу, и как только государь приезжал, то одни ямщики мгновенно отстегивали старых лошадей, а другие пристегивали новых, ямщик вскакивал на козлы, и государь мчался далее.
Эта перепряжка лошадей продолжалась едва ли более минуты, а то и менее. Каждый станционный смотритель и все ямщики старались щеголять быстротою перепряжки, зная, как государь не любил, чтобы его задерживали хоть на одну лишнюю секунду.
Осенью и зимою в темное время, кроме передового курьера, ехал впереди государя еще второй курьер, всего в нескольких саженях пред царским экипажем. Обязанность этого второго курьера заключалась в том, чтобы зажженными факелами освещать путь.
Для этого у него в санях или в телеге, смотря по времени года, лежал целый пук факелов, которые постепенно зажигались, обращенные огнем назад, к стороне царского экипажа. Таким образом, для проезда государя, смотря по времени года, требовалось от двух до трех четверок лошадей на каждой станции.
Нормы для быстроты езды не было никакой. Ямщик обязан был гнать лошадей, насколько только у них хватало сил. Подъезжать к станции, задерживая ход лошадей издали и постепенно, также было нельзя. Ямщики осаживали лошадей на всем скаку, разом у самой станции.
От этого почти на каждой станции одна или две лошади, а зачастую и вся четверка, мгновенно падали мертвыми, как бы подстреленные или убитые молнией. Во время одного из проездов государя от Варшавы до Петербурга на всем пути были убиты таким образом 144 лошади.
Из этого можно судить, какие неудобства представляли поездки того времени сравнительно с нынешними! Например, освещение дороги факелами перед самым экипажем не могло же обходиться без того, чтобы запах от смолистых факелов не достигал до царского экипажа. А чего стоила тряска летом или толчки по ухабам зимою! Все это кануло в вечность, а было сравнительно так еще недавно…
Государь щедро расплачивался с ямщиками и станционными смотрителями во время своих поездок. Ямщикам он давал по десяти, пятнадцати и даже по двадцати пяти рублей на водку, и понятно, что, кроме чести провезти государя, ямщики из кожи лезли провезти его лихо, именно так, как он любил, чтобы заслужить щедрую на водку.
Многих ямщиков, угодивших ему ездою, он помнил по именам и на станциях, где они жили, требовал, чтобы ему давали именно этих, замеченных и отличенных им.
За павших лошадей придворная контора уплачивала подрядчикам. Однажды государь обратил внимание на слишком большое число лошадей, показанных павшими во время его поездки. В следующий раз он дал себе труд самому сосчитать загнанных лошадей.
За весь путь он насчитал таких десяток или около того, а в счетах придворной конторы показано было потом почти до двух сотен. На его вопрос о причине такой разницы в цифрах действительной и бумажной опытные люди спокойно ответили, что не все лошади падают непременно при самой остановке, а дышат еще несколько времени, но все-таки околевают через несколько часов.
Так как поверять такие показания не было никакой возможности, потому что в падении лошадей были заинтересованы все прикосновенные к этим делам лица и все, разумеется, поддерживали друг друга, то поневоле пришлось помириться с этим явлением и платить за полные сотни будто бы павших лошадей.

VII. Граф Клейнмихель
Из числа приближенных к императору Николаю I особенною любовью его пользовался граф Клейнмихель, занимавший долгое время высокий пост управляющего путями сообщения и публичных зданий (ныне министерство путей сообщения).
В те времена никто из начальствующих лиц не отличался особенной мягкостью в обращении с подчиненными. Крепостное право клало свою тяжелую печать повсюду и на всех. Человеческая личность не имела почти никакого значения: уважались только сила и власть, да до некоторой степени – деньги. Представителями же денежного мира в те времена были преимущественно откупщики, спаивавшие сивухой всю Россию.
Поэтому не мудрено, что и граф Клейнмихель, в своем рвении всегда быть угодным государю, не щадил никого и ничего, лишь бы отличиться и заслужить царскую милость. О его жестокости и бездушии в отношениях к подчиненным передавались из уст в уста, но, конечно, шепотком, тысячи рассказов, и его единогласно называли вторым Аракчеевым, который, кстати сказать, и выдвинул Клейнмихеля, как говорили, из простых писарей.
Однажды при проезде Клейнмихеля по Варшавскому шоссе на одной из станций, недалеко за Гатчиной, не оказалось свободных лошадей. Несчастный смотритель послал за обывательскими, но и тех не мог достать. Поневоле пришлось Клейнмихелю прождать на станции два-три часа, пока вернулись бывшие в разгоне лошади.
Крайне взбешенный этой задержкой, Клейнмихель сорвал со стены какую-то карту, с двумя вальками по верхнему и нижнему краю, и, свернув ее, начал этими вальками бить смотрителя по чем попало, пока несчастный не свалился с ног.
Утолив свою злобу и дождавшись лошадей, Клейнмихель уехал, а избитый смотритель дня через два отдал Богу свою грешную душу.
Понятно, что местное начальство не осмелилось возбудить дела против всевластного любимца государя, и убитого смотрителя похоронили, якобы умершего от излишнего употребления спиртных напитков… Но, несмотря на то, кто-то ухитрился довести этот случай до сведения государя.
Император призвал Клейнмихеля к себе. Что они говорили глаз на глаз в кабинете, разумеется, осталось никому не известным, но известным сделалось то, что Клейнмихель должен был обеспечить семью убитого им смотрителя, конечно, по требованию государя.
В другой раз был такой случай. Вез курьер казенные деньги, принадлежавшие ведомству путей сообщения, и каким-то образом ухитрился выронить чемодан с этими деньгами, в сумме около трехсот тысяч, из саней, на участке между Гатчиной и Лугой. Несмотря на розыски, деньги не находились, и Клейнмихель должен был доложить о такой потере государю.
Чрез несколько времени явился в Петербург какой-то крестьянин доставил чемодан с деньгами Клейнмихелю, объяснив, что он нашел его уже давно, но долго разыскивал хозяина этих денег, так как предъявить просто в полицию не хотел, чтобы не лишиться вознаграждения.
Клейнмихель выдал ему десять рублей, а на просьбы мужика прибавить что-нибудь, пригрозил розгами за то, что он не сразу заявил о своей находке. Почесал мужик затылок, да так и ушел.
Клейнмихель же, так как доложил государю о потере, должен был, конечно, доложить теперь и о возвращении денег.
– Что же ты заплатил мужику? – спросил государь.
– Десять рублей, ваше величество.
Государь рассердился за такое скряжничество и, чтоб наказать Клейнмихеля, велел ему выдать мужику вознаграждение, но не из казенных денег, а из собственных. Как велика была назначенная государем сумма вознаграждения, я не могу сказать в точности, кто говорил, что – три тысячи, кто говорил, что – тридцать тысяч.
Знаю только наверное то, что, к сожалению, деньги эти не пошли мужику впрок: ошеломленный неожиданным богатством, он спился.
Несмотря на такие случаи, бывавшие с Клейнмихелем нередко, государь его любил и жаловал, вероятно считая его полезным и необходимым своим сотрудником.
Известен ответ государя какому-то иностранному послу на вопрос о стоимости Николаевской железной дороги.
– Об этом знают только двое: Бог да Клейнмихель, – сказал государь.

VIII. Царские поклоны
Не следует думать, что император Николай Павлович относился внимательно к лицам только близким к себе, или, как принято их называть, высокопоставленным. Нет, он не пренебрегал и самыми ничтожными людьми, не только заботясь о них, но и стараясь сделать им что-нибудь приятное.
Мой отец был неважная птица в администрации: сначала он был преподавателем географии, а потом старшим надзирателем в Гатчинском сиротском институте, то есть заведовал воспитанием отделения из трех высших классов. От прежних занятий географиею у отца остались рельефные глобус и карта Швейцарии, великолепно исполненные им собственноручно.
В особенности хороша была Швейцария, в которой все горы изображены были по масштабу, с точным обозначением снеговых вершин, ледников и озер. Города, для большей наглядности, изображались головками мелких золоченых гвоздиков.
Когда великие князья Николай и Михаил Николаевичи начали учиться географии, отец мой просил позволения поднести им эти глобус и рельеф Швейцарии. Государь принял поднесении и приказал выдать отцу из кабинета перстень или триста рублей деньгами, по желанию. Но дело было не в перстне, а в том, что с тех пор государь не забывал отца и всегда относился к нему доброжелательно.
Однажды, заехав в институт, государь спросил моего отца, есть ли у него дети и где они. Отец рассказал ему о своем семейном положении, причем упомянул ему, что я в это время воспитывался в Главном инженерном училище, а вторая моя сестра, Клеопатра, в Смольном монастыре.
В инженерном училище существовал обычай: не давать вновь поступившим погоны до тех пор, пока они не выучатся немного фронтовой службе, то есть настолько, чтобы уметь правильно (по-военному) стоять, ходить, поворачиваться и проч. На эту выучку уходило около месяца или двух времени.
Желание скорее получить погоны, разумеется, заставляло нас, как говорится, из кожи лезть, чтобы скорее сделаться хорошим фронтовиком.
Когда я поступил в училище, то император Николай Павлович посетил его ранее, чем делал это обыкновенно и застал всех нас, новичков, еще без погон. Мы были тогда в столовой.
Поздоровавшись с детьми, государь начал обходить столы и у каждого новичка спрашивал фамилию и откуда он родом. Дошла очередь и до меня.
– Фамилия твоя? – спросил государь.
– Эвальд, ваше величество.
– Из Гатчины?
– Точно так, ваше величество.
– Это твой отец там служит?
– Точно так, ваше величество.
Государь кивнул головою и прошел далее. В случае этом не было ничего особенно замечательного: император Николай Павлович славился своею памятью на лица и имена, и потому неудивительно, что он вспомнил моего отца и делал мне эти вопросы.
Но директором училища был генерал Ломновский, человек чрезвычайно мелочный, во всяком простом действии всегда искавший что-нибудь особенное. Тотчас после отъезда государя он прислал за мною и, заперев дверь своего кабинета, начал делать мне настоящий инквизиторский допрос о нашей семье вообще и о моем отце в особенности. Какие такие тайны он хотел выведать от меня, я до сего времени понять не могу.
На следующий год случился эпизод, еще более поразительный для Ломновского. Когда государь, по обычаю, осенью заехал к нам и, осмотрев училище, проходил к выходу, а мы провожали его толпой, он вдруг остановился и спросил:
– А где Эвальд?
Я выступил вперед и назвался.
– Я видел на днях твоего отца, – сказал государь, – он велел тебе кланяться. У тебя есть сестра в Смольном?
– Есть, ваше величество.
– Как ее зовут?
– Клеопатрой, ваше величество.
Государь кивнул головой и пошел далее. В воскресенье я поехал в Смольный навестить сестру, и та мне с удивлением рассказывала, что государь был у них и передал ей поклоны, как от отца, так и от меня…
– Разве ты просил государя кланяться мне? – спросила она наивно.
– Нет.
Я рассказал ей, как было дело.
– А он, – сообщала мне сестра, – ходил по институту, и мы, конечно, бежали за ним, как вдруг он спросил: «А которая из вас Клеопатра Эвальд?» Меня пропустили вперед. Государь взял меня за подбородок и говорит: «Вчера я был в инженерном училище и видел твоего брата. Он посылает тебе поклон».
Через несколько дней и я и сестра получили из дома письма, в которых отец сообщал нам, что государь посетил Гатчинский институт и сказал ему, что видел обоих детей, и передал ему от нас поклоны.
Такая внимательность государя не была обусловлена решительно ничем, кроме его замечательной памяти, которую он любил выказывать, а также его чисто отеческим отношением ко всем вообще детям. Никто из нас в семействе, а также мои училищные товарищи и ближайшие начальники и не смотрели на это иначе.
Но директор училища генерал Ломновский никогда не мог мне простить такого внимания государя и преследовал меня на каждом шагу, что ему особенно легко было делать, так как я беспрестанно давал ему для того поводы. Я этого не могу объяснить иначе, как родительскою завистью, так как одновременно со мною в училище воспитывался сын Ломновского, о котором государь не имел никакого понятия.

IX. Две буквы
Однажды император Николай Павлович, не знаю по какому случаю, разослал по кадетским корпусам несколько картин из Зимнего дворца. Две из этих картин, изображавшие какие-то виды, назначены были в наше инженерное училище. Сортируя картины по заведениям, государь собственноручно сделал мелом на каждой надпись, куда ее отправить.
Так, на картинах, присланных к нам, на самых облаках были начертаны мелом две буквы: «И. 3.», то есть «Инженерный замок».
Когда эти две картины были доставлены в училище, то в среде начальства возник вопрос: куда их повесить? После долгого совещания решено было поместить их в зале крепостных моделей, как наиболее проходном, и где они, следовательно, скорее могут быть замечены. Но по решении этого вопроса возник другой: что делать с буквами, начертанными собственноручно императором?
Чтобы понять важность этого вопроса, надо знать, что всякая рукопись императора тщательно сохраняется и если сделана карандашом, то покрывается лаком, чтобы не стерлась. Хотя большинство доказывало, что такое правило относительно императорской рукописи не может иметь приложения в настоящем случае и что эти буквы надо стереть, но директор Ломновский, как всегда двуличный, велел их только слегка смахнуть, но так, чтобы они все-таки были видны, надеясь угодить этим, как говорится, и нашим и вашим.
Если государь спросит: «Зачем не стерли?» – можно будет сказать, что их стирали; если же спросит: «Зачем стерли?» – можно будет сказать, что они видны…
Приехав в училище через несколько времени после того, государь вспомнил о присланных картинах и спросил, где они повешены? Его проводили в модельный зал. Осмотрев картины и найдя, что они повешены удачно, государь обратился вдруг к Ломновскому и недовольным тоном спросил:
– Что же надписи не стерты? Тряпки что ли не нашлось?
Не слышал я, что пробормотал Ломновский в свое оправдание, но только очевидно было, что его хитрость не удалась, так как государь довольно сердито прибавил:
– Сейчас же стереть!
Таким образом, двуличность Ломновского не вывезла по крайней мере на этот раз. Ломновский не пользовался любовью нашей, так как поступал с нами не как педагог, обязанный развивать хорошие нравственные качества воспитанников, а, напротив, употреблял нас только как орудие для достижения целей своего благосостояния и милости начальства.
Он имел в училище своих шпионов, к сожалению, и между воспитанниками, но главным его шпионом был вахтер, заведовавший нашею прислугою, бельем, платьем и амуницией. Трудно было укрыться от глаз этого ока Ломновского, имевшего возможность, под предлогом исполнения своих обязанностей, целый день шнырять между нами.
При таких отношениях мы, понятно, всегда бывали очень довольны, когда Ломновский или вахтер попадались на замечании кого-нибудь из высших, а тем более самого государя.

X. Щипок
Когда император приезжал в училище, то позволял нам при уходе подать себе шинель, а главное, вынести себя с подъезда в сани на руках. Шинель он носил всегда довольно старенькую, со многими заплатами на подкладке и полинявшую сверху.
На площадке наружного подъезда, ступеней с десяти, мы подхватывали его и, подняв высоко над головами, так что он лежал совершенно горизонтально, таким образом сносили с лестницы в сани. Однажды один из нас, Б., школьник большой руки, похвастался, что когда мы понесем государя на руках, то он щипнет его.
Зная грозный характер государя, не щадившего никого, когда рассердится, многие советовали Б. не пускаться в такое слишком опасное предприятие. Но добрые советы товарищей не подействовали, а перспектива опасности, может быть, еще более подтолкнула его. Дело только в том, что, когда мы в этот раз несли государя, он громко сказал:
– Кто там шалит, дети?
И потом, когда уже сел в сани и мы застегивали полсть, он погрозил пальцем и прибавил:
– Вперед будьте осторожнее.
Значит, Б. исполнил свое намерение. На его счастье, государь в этот раз был в добром расположении духа, а не то Б. рисковал бы попасть в солдаты или поплатиться как-нибудь еще хуже.

XI. В мастерской Ладюрнера
В Гатчинском институте одно время в числе других преподавателей французского языка был некто Ферри де Пиньи, очень умный и остроумный француз, бывший большим приятелем моего отца. Этот Ферри был приглашен по контракту, на каких-то особых, очень выгодных условиях, которые дали ему возможность купить очень хороший деревянный дом и выстроить другой, каменный.
Когда срок его контракта окончился, Ферри переехал в Петербург, так как из двух его сыновей старший, Эрнест, был в университете, а младший, Евгений, в академии художеств. Я в это время был уже в инженерном училище.
Уезжая из Гатчины, Ферри предложил моему отцу заведовать его домами, с тем, что в вознаграждение за этот труд я буду ходить по субботам на воскресенье в отпуск к Ферри, с сыновьями которого, в особенности с младшим, я был дружен. Эта сделка всех устраивала как нельзя лучше, и я, во все время моего пребывания в училище, постоянно проводил воскресные дни в семье Ферри, уезжая домой в Гатчину только на праздники Рождества и Пасхи, да после лагеря в августе.
У Ферри в Петербурге был большой приятель, старик Ладюрнер, придворный живописец Николая Павловича, живший в самом здании академии художеств.
Этот Ладюрнер был уже старик, довольно высокого роста, очень тучный, веселого характера, большой шутник и человек совершенно своеобразный в своих привычках. Он был холост и держал кухаркой и домоводкой чухонку Христину, такую же толстую, как сам, и которая обращалась с барином своим совсем по-домашнему, то есть не признавая никакой дисциплины и никакой власти над собой.
Но она в то же время не употребляла во зло добродушия Ладюрнера и заботилась о нем с чрезвычайным вниманием.
Нужно заметить, что чухонка Христина имела некоторое право держать себя не так, как держат себя обыкновенно кухарки. Дело в том, что она была большой мастерицей в кулинарном деле и приготовляла Ладюрнеру такие завтраки и обеды, каких не смастерят и лучшие повара.
Мне случилось раза два или три есть у Ладюрнера, и действительно я не припомню, чтобы ел где-нибудь вкуснее, чем у него. Но еще и не в этом была сила Христины, а в том, что ее произведения удостоил пробовать сам государь, чем она всегда очень гордилась.
Действительно, государь, совершая свои прогулки, заезжал или заходил иногда в мастерскую Ладюрнера посмотреть его новые работы. Случалось ему заставать Ландюрнера за завтраком и за обедом, и в таком случае государь не только пробовал подаваемые блюда, но вплотную завтракал, сидя за столом старого художника, которого очень любил. Я об этом слышал не раз от Ферри, а потом мне привелось и самому быть свидетелем подобного случая.
Произошло это вот по какому обстоятельству. Государь заказал Ладюрнеру написать церемонию присяги великого князя Константина Николаевича. Случилось, что в это время Ферри пригласил как-то Ладюрнера к себе обедать в воскресенье, когда и я там был. За обедом в разговорах коснулись вопроса о новой картине.
Говоря о ней, Ладюрнер обратился, между прочим, ко мне с просьбою в следующее воскресенье зайти к нему в мастерскую, чтобы списать с меня обмундировку инженерного училища, так как воспитанники военно-учебных заведений принимали участие в церемонии присяги.
Я охотно согласился и в следующее воскресенье отправился к нему утром, тотчас после кофе. Ладюрнер написал меня на картине, в строю инженерного училища и за этою работою провел время до своего завтрака.
Только что толстая Христина постлала скатерть на стол, как вдруг дверь мастерской отворилась и в ней показалась величественная фигура императора. Неожиданность его появления так подействовала на меня, что я не нашелся ничего лучшего сделать, как встать за полотно одной картины, стоявшей на полу. Государь не успел меня заметить и прямо подошел к Ладюрнеру.
– Bonjour, mon viex! – сказал он. – Comment sa va-t-il?
– Tres bien, sir,– ответил Ладюрнер, поднявшись с табурета и кланяясь.
– Картина, как вижу, подвигается, – продолжал государь по-французски же. – Очень хорошо. Теперь ты инженерное училище пишешь?
– Точно так, государь.
У меня в эту минуту захватило дух: я боялся, что Ладюрнер, заметив мое исчезновение, начнет искать меня. Потом он мне сказал, что действительно глазами искал меня, но, не увидя, догадался, что я спрятался, и не хотел меня конфузить перед государем, понимая тот страх, который Николай Павлович всем внушал.

Государь сел на стул и, к моему ужасу, видимо, не торопился уходить. Я боялся, чтобы не чихнуть и не кашлянуть, и стоял за картиною так неподвижно, как, вероятно, никогда не стоял ни один часовой. Толстая Христина, не стесняясь государя, явилась с посудою в руках, чтобы продолжать сервировку стола.
Ладюрнер сказал ей, чтоб она обождала, но государь велел не стесняться и продолжать. Думая, что я останусь завтракать, Христина принесла два прибора, а государь, не видя никого другого, принял второй прибор на свой счет.
– Вот кстати, – сказал он Ладюрнеру, – я позавтракаю с тобою;
– Кушайте, батюшка, – сказала ему Христина своим ломанным языком, или, вернее, тремя языками: русским, французским и чухонским. – Ошуртюи (aujourd’hui) де котлет, какой ви пришпошитайт.
– Очень рад, – сказал государь, засмеявшись. – Правду сказать, – обратился он к Ладюрнеру, – ни один повар не сделает таких котлет, как Христина.
Христина подала котлеты, и государь позавтракал с аппетитом, слушая анекдоты Ладюрнера, которые он умел мастерски рассказывать. Между прочим, в моей памяти остался следующий его рассказ.
– Иду я на днях по Невскому проспекту, день был очень жаркий. Дойдя до Аничкова дворца, я совсем обессилел от жары и присел в тень, на тумбе, немного передохнуть, а шляпу снял и держу ее в руках. Костюм на мне был коломянковый, немного помятый, и шляпа соломенная, не из новых. Только проходит какая-то сердобольная барыня и, принявши меня за нищего, бросила мне в шляпу копейку.
Ее пример соблазнил других прохожих, которые тоже начали мне кидать, кто две, кто три копейки. Чем больше набиралось у меня в шляпе денег, тем чаще стали мне кидать. А я сидел себе спокойно и только потряхивал шляпой, чтобы деньги гремели. Посидев таким образом с полчаса и отдохнув, я высыпал собранные деньги в карман и, надев шляпу, вернулся домой. Как вы думаете, государь, сколько я собрал?
– Копеек двадцать – тридцать?
– О! гораздо более! Шестьдесят семь копеек.
– Куда же ты их употребил? – спросил государь.
– Очень просто куда: так как деньги эти предназначались жертвователями для бедного человека, то я и отдал их бедняку. Тут, недалеко от академии, живет один шарманщик, имеющий большое семейство и который, захворав, не может ходить теперь. Я и снес ему сделанный сбор, добавив от себя немного, чтобы вышел уже целый рубль.
Государь от души смеялся этому рассказу и потом в тот же день прислал Ладюрнеру двадцать пять рублей для передачи шарманщику.
Пробыв у Ладюрнера с полчаса, государь встал, еще раз осмотрел картину и сделал кое-какие замечания.
– Прощай, Христина, – сказал он чухонке, подавшей ему шинель. – Спасибо за котлеты, очень вкусные.
– Ошинь рата, каспадин сир, – ответила Христина, претендовавшая на знание французского языка.
Государь рассмеялся на ее смешное приветствие и вышел. Тогда и я вылез из своей засады.
– Ну, мой бедный мальчик, – сказал Ладюрнер, – я думаю, вы провели очень скверные полчаса, ха-ха-ха? А я было не знал, что делать с вами: и оставить вас там было жалко, да и страшно, чтобы государь не заметил, да и вызвать-то вас не решался. Слава Богу, что все обошлось благополучно. А ты, глупая Христина, – обратился он к чухонке, – разве можно государю говорить: господин сир?
– Ви же постоянно гофорите ему: сир! – заступилась за себя Христина, убирая тарелки.
– Да ведь я говорю по-французски, а по-русски этого нельзя. Ты должна говорить: ваше величество или государь.
– А я разе по-русски гофорил? Я по-французски гофорил, и ишше лютше, чем ви; я гофориль: каспадин сир, а ви просто гофорите: сир. Ню, што ви хотете ишше?
И никакими доводами нельзя было убедить Христину; она твердо стояла за свое знание этикета и французского языка. Окончательно она победила Ладюрнера, когда уже из дверей кинула ему:
– Сам государь нишево мне не гофориль, а ишшо смеялся и благодарил за котлеты. Ню, што ви?
Ладюрнер только замахал руками и велел подать позавтракать мне.
Я еще несколько раз заходил к Ладюрнеру, даже когда картина, для которой я служил моделью, была окончена. Мне нравилось в нем умение рассказывать анекдоты. Самый простой случай, сам по себе не представляющий ничего смешного или остроумного, он умел передать как-то особенно кругло, выпукло, сочно, так что невольно рассмеешься.
Эту способность я впоследствии встретил только у одного еще человека, именно у Николая Алексеевича Вышнеградского, основателя и директора первых женских гимназий в Петербурге.

XII. Царские смотры
В царствование Николая I все военно-учебные заведения Петербурга стояли каждое лето лагерем в Петергофе, образуя самостоятельный отряд, под общим начальством (в мое время) директора школы подпрапорщиков и юнкеров генерала Сутгофа.
Это был человек небольшого роста, с рыжими волосами, выстриженными под гребенку, не носивший ни усов, ни бакенбард. Голос он имел неприятный, какой-то особенно резкий, скрипучий, а манерами напоминал скорее светского фата, чем генерала-воспитателя.
Мы, инженеры, терпеть его не могли и не упускали ни одного случая сделать ему какую-нибудь неприятность. Этого Сутгофа кадеты прозвали – Капфик. Что это было за слово – я не знаю, но оно привилось, и в разговорах никто из нас иначе не называл его.
Помню по этому поводу следующий случай. В одной из газет было напечатано объявление такого содержания: «Пропал рыжий кобель, кличка Капфик, с красным ошейником. Доставившему его в школу гвардейских подпрапорщиков, в квартиру директора, дано будет щедрое вознаграждение».
Основываясь на этом объявлении, собачники начали приводить Сутгофу разных собак, называя их Капфиками. Сутгоф, конечно, знал о прозвище, данном ему кадетами, и понял, что это проделка с объявлением – дело их рук. А так как более всего ему досаждали инженеры, то он и сообщил свое подозрение на нас директору нашему генералу Ломновскому.
Начались у нас допросы, сначала секретные, потом уже и явные. Сам Ломновский призывал многих из нас к себе в кабинет, то ласкою, то обещаниями, то угрозами выпытывая признание. Почему-то и я попал в число тех, кого он считал необходимым допросить лично.
Помню, что он пытал меня добрых полчаса, но, конечно, ничего не выпытал, так как я действительно не имел ни малейшего понятия о том, кто мог быть автором этого объявления, и даже сомневаюсь, чтобы оно вышло из нашего училища. Вернее предположить, что это объявление было делом мести кого-нибудь из школы подпрапорщиков, обиженного Сутгофом.

С нами он не имел прямых отношений, и если мы не любили его, то более, так сказать, теоретически, чем за что-нибудь существенное. Нам только нравилось дразнить его на ученьях небрежным исполнением фронтовой службы и доставляло большое удовольствие, когда он горячился и выходил из себя. В особенности мы выводили его из терпения, когда он затевал делать репетиции перед царскими смотрами.
Однажды накануне царского смотра, когда нам давали обыкновенно отдых и пускали гулять по Петергофу, я зашел с двумя-тремя товарищами на Ольгин остров, где на дворцовой башне помещалась на подставке большая зрительная труба. Мы начали ее наводить на разные отдаленные предметы, стараясь, между прочим, прочитать надписи на судах, стоявших в Кронштадте.
Сторож башни, отставной старик солдат, подошел к нам побеседовать.
– Вот, – говорит он, – вы забавляетесь этой трубой, господа, а того и не знаете, что вчера государь в эту самую трубу на вас глядел…
– Правда?
– Я ж вам говорю! Ученье у вас было на военном поле, а государь сидел тут и смотрел в трубу. Уж и ругал же он вас, господа!
– Кого это?
– Да вас, анжинеров. Я вот так стою недалечко, примером хоть бы тут, на эфтом вот месте, и дыхнуть не смею, и смотрю только, как бы мне наготове быть, коли что спросит; а он глядит в тубу да и ворчит про себя: уж эти, говорит, анжинеры шалуны, фронта не держат, равнения тоись; а ружья-то, говорит, у них, как частокол какой. Ужотко, говорит, я им задам на смотру! А когда у вас, господа, царский-то смотр будет?
– Завтра, оттого нас сегодня и распустили.
– А! Вот оттого-то государь и зашел вчерась сюда посмотреть, как вы готовитесь к смотру… Ну, смотрите, будет вам завтра на орехи!
– Разве государь очень сердился? – спросили мы.
– Да уж так-то ворчал, так ворчал, и все на анжинеров. Плохо у вас дело…
Мы не разуверили старика и оставили его в страхе за завтрашний смотр. Действительно, на последней генеральной репетиции мы особенно зло дурачились над Сутгофом, делая решительно наперекор ему. Если он заметит, что средина фронта слишком выдалась, то она осадит назад, но так, что выйдет еще хуже.
Если он крикнет, что левый фланг отстает, то он выдвинется вперед, а правый отстанет и так далее. Под конец ученья Сутгоф подскакал курцгалопом к нашему ротному командиру полковнику Скалону и, отчаянно махнув рукою, сказал ему:
– Полковник Скалон! Пропадете вы завтра с вашими инженерами!
Полковник Скалон только молча приложился к козырьку и, подъехав к нам, сказал своим добрым, отеческим голосом:
– Господа! Ну, зачем вы так шалите?
Он знал очень хорошо подкладку дела, так как на его домашних учениях мы вели себя образцово, и потому был совершенно спокоен за царский смотр.
На этом смотру продолжалась та же история. Сутгоф, до приезда государя, старался нас выровнять, но это никак ему не удавалось. Раз десять он подъезжал нас ровнять и всякий раз уезжал, с отчаянием говоря Скалону, что он с нами пропадет.
И удивительный, право, был этот человек, Сутгоф! Каждый год повторялось одно и то же, а он все-таки не мог понять, что ему не следовало нас трогать! Если бы он меньше доказывал рвения, мы давно перестали бы делать ему назло.
По правде сказать, я ожидал, что государь сделает нам какое-нибудь замечание за то, что на учении Сутгофа мы дурачились. Но, по-видимому, государь знал, или по крайней мере догадывался, о наших отношениях к Сутгофу, и, вероятно, его сочувствие лежало на нашей стороне, так как, проезжая по фронту и здороваясь со всеми корпусами, подъехав к нам, он не поздоровался, а сказал: «Хорошо, инженеры!». Можно вообразить себе удивление и досаду Сутгофа.
Затем, во все продолжение смотра, мы не только не получали никакого замечания, но, наоборот, за каждый ружейный прием, за каждое движение, только и слышали то «хорошо, инженеры», то «спасибо, инженеры».
Государь хвалил и благодарил нас не в счет гораздо больше и чаще, чем все другие корпуса, тогда как, говоря по справедливости, мы далеко не были лучшими фронтовиками и, конечно, в этом отношении уступали всем кадетским корпусам уже потому только, что на обучение фронту имели гораздо менее времени, чем они.
Это обстоятельство и заставляет меня думать, что, расхваливая нас, государь хотел дать Сутгофу урок, как надо с нами обращаться.
Но Сутгоф не принадлежал к числу тех людей, которые понимают подобные намеки.
В число наших лагерных упражнений входила, между прочим, наводка понтонного моста. В те времена в наших войсках употреблялись понтоны двух родов: в конно-пионерных дивизионах понтоны, или лодки, были готовые, возившиеся на длинных роспусках; в саперных же батальонах понтоны были складные, то есть состояли из рам, которые известным образом складывались и обтягивались непромокаемой парусиной во время самой наводки моста.
В нашем училище были складные понтоны. Это маленькое объяснение я считаю нужным сделать, чтобы понятнее был следующий рассказ.
Государь, помимо общих фронтовых смотров всем кадетским корпусам, производил каждое лето особый смотр нашему училищу в искусстве наводить понтонный мост. Одно лето в Петергофе гостил несколько дней, не помню, какой-то прусский принц. Как раз во время его присутствия государь и назначил сделать нам смотр наводки моста.
Когда мы явились к тому месту речки (протекавшей недалеко от лагеря), где назначено было перекинуть мост, наши фуры с понтонами были уже там, и мы, в полной парадной форме, с ружьями, выстроились фронтом к речке. Скоро начали прибывать один за другим разные высокопоставленные особы: свиты государя, прусского принца и весь дипломатический корпус.
Собрание было очень многочисленное и блестящее: эполеты, ордена, звезды, ленты, шитье на мундирах, султаны касок, перья на шляпах – все это пестрело и блестело очень живописно на густой зелени парка. Мы с любопытством рассматривали невиданные мундиры иностранцев и перешептывались между собою.
Наш полковник Скалон спокойно ходил перед фронтом, разговаривал с офицерами или подходил к нам с каким-нибудь замечанием. Он никогда не волновался перед приездом государя, зная, что мы постараемся и, как говорится, не выдадим его. Поэтому, выстроив нас, он скомандовал: «Вольно!» и больше ни о чем не заботился.
Но вот прибежал Сутгоф. Ему, в сущности, на этом чисто инженерном смотру ровно нечего было делать, и хотя на этот раз он мог бы оставить нас в покое. Но как ему было не порисоваться перед таким блестящим собранием иностранцев и как не показать вид, что вот и он, маленький генерал Сутгоф, играет тут некоторую роль.
И вот он ни с того ни с сего начал нас дрессировать.
– Смирно! На пле-чо!
Разумеется, мы вскинули ружья кое-как.
– Что это значит? – кричал он. – Полковник Скалон! Да как же вы представите такую роту государю? Что это за приемы? На краул!
Мы отшлепали еще хуже.
– Да это невозможно! – волнуется Сутгоф. – Помилуйте! Рекруты, только что приведенные из деревни, сделают лучше. А какое равнение?
Он подбежал к левому флангу и начал оттуда равнять.
– Третий с правого фланга – грудь вперед. Второй взвод – подайся назад!.. Равнение направо. Как вы ружья держите, господа? Да это ужасно что такое! Бабы, идя на сенокос, ровнее грабли держат, чем вы ружья.
Но чем более он горячился, тем мы делали хуже и хуже. Он подбегал то к нам, то к Скалону, то к зрителям из свиты, которым, видимо, жаловался на нас; снимал каску, вытирал пот с лица, опять подбегал к нам, опять к свите и хлопотал, одним словом, так, как муха в басне хлопотала с упавшим возом.
Но вот махальный дал знак, что едет государь.
Скалон спокойно вышел на середину, перед фронтом, и своим ровным, уверенным голосом скомандовал: «Смирно!» Я взглянул при этом на свиту и заметил, что все присутствовавшие улыбнулись и очень оживленно заговорили между собою. О чем они могли так говорить в эту минуту?
Разумеется, о том, что генерал Сутгоф, несмотря на все свои хлопоты и крики, ничего не мог с нами поделать, а одного слова Скалона достаточно было, чтобы мы замерли и вытянулись в математическую линию. Я уверен, что даже иностранцам в эту минуту сделались понятными наши отношения к Сутгофу, который, между прочим, не оставлял что-то горячо объяснять, переходя от одних к другим.
Он, по-видимому, не понимал комического положения, в которое мы его ставили своим пассивным сопротивлением.
Государь приехал на дрожках, которые остановились невдалеке, со стороны правого фланга. Еще не выходя из экипажа, когда кучер только что задержал лошадь, государь крикнул нам издали:
– Хорошо, инженеры!
Это он, для начала, похвалил наше равнение. Затем, скинув шинель, он подошел к принцу, раскланялся со свитой и обратился к нам:
– Здравствуйте, дети!
– Здравия желаем, ваше императорское величество!
Государь сам начал командовать некоторые ружейные приемы, и что ни прием, то похвала от него: «Хорошо, дети! Спасибо, инженеры!» После ружейных приемов он скомандовал несколько построений и движений и точно так же за каждое или хвалил, или благодарил нас. Мне, конечно, в это время было не до Сутгофа, и я не мог заметить, как на него действовали расточаемые государем похвалы нам, но полагаю, что не всякий в это время согласился бы быть в его шкуре.
Окончив фронтовой смотр, государь приказал нам составить ружья и приготовиться к наводке моста. Для этой операции мы должны были переодеться: снять каски, портупеи, мундиры и надеть полотняные рубахи и фуражки. Все это было исполнено в одну минуту, и мы уже стояли, каждый номер на своем месте, у понтонных фур.
Когда последовала команда наводить мост, я заметил, что многие в свите вынули часы, чтобы определить время, в какое мы окончим работу. Живо мы разобрали содержимое фур, составили рамы, связали их, обтянули полотном и стащили к берегу; в понтоны сели гребцы и начали въезжать, один за другим, в линию моста.
По мере того как понтоны выстраивались, на них накидывались продольные брусья и застилались сверху, поперек, широкими досками. Затем поставлены были стопки для перил, и чрез них протянуты веревки. Мост был готов.
– Сколько времени? – спросил кого-то государь.
– Семнадцать минут, ваше величество, – ответили ему.
Государь обратился тогда одновременно и к своей свите и к нам.
– Вчера, – сказал он, – я смотрел наводку моста гвардейским конно-пионерным дивизионом. Они навели в двадцать три минуты, а эти дети в семнадцать минут. Спасибо, дети! Благодарю, полковник Скалон!
Государь пошел по мосту на другой берег реки, и вся свита, человек по крайней мере в двести, последовала за ним. Когда они переправились, государь приказал провести по мосту батальон пехоты (бывшего дворянского полка) и батарею артиллерийского училища, которые собственно для этого были уже приготовлены.
Батальон прошел повзводно, в ногу, производя этим равномерную качку понтонов. Но когда поехала артиллерия, то у одного из ездовых лошадь заупрямилась и придвинулась слишком близко к перилам. Протянутая веревка, разумеется, не могла ее удержать.
Лошадь наступила на самый край настилки, доска опрокинулась, и лошадь провалилась в понтон, к счастью не задавив и даже не задев сидевшего в нем гребца. Понтон, прорванный ногами лошади, погрузился на дно. Сидевшие по концам его гребцы поплыли к берегу. Вся часть моста над этим понтоном провалилась, и вода, встретив препятствие, клокотала тут, как в шлюзе.
Я, в числе других товарищей, был в это время на берегу. Как только катастрофа совершилась, одни из нас побежали на мост, а другие, в том числе и я, бросились в воду отстегнуть от постромок провалившуюся пару лошадей и вывести их на берег.
Лошади путались в веревках, связывавших понтон, пугались от этого, брыкались, и большого труда стоило кое-как сладить с ними. Лошадь, с которой я возился, лягнула меня в борьбе, но так как это происходило в воде, то удар был не силен и последствий не оставил. Выпутав ее, я вплавь притащил ее за уздечку на берег и передал артиллеристам!..
Государь любил подобные приключения, испытывая на них находчивость и смелость молодежи. Так и в этом случае: как только провал части моста случился, государь пошел по мосту обратно. Это значило, что к тому моменту, когда он подойдет к провалу, проход через него должен быть готов. Мы очень хорошо знали все привычки и требования государя.
Сложить запасный понтон, ввести его на место и восстановить разрушенную часть моста – не было никакой возможности в такое короткое время, пока государь сделает не более сотни шагов. Поэтому товарищи мои, которые прибежали на мост, догадались положить через место провала рядом три или четыре настилки, образовав, таким образом, довольно широкий помост.
Ничем нельзя было угодить государю лучше, как подобною быстротою и сообразительностью. Его не задержали ни секунды, и, дойдя до провала, он не останавливаясь прошел по настеленным доскам.
– Спасибо, инженеры! – крикнул он, вступив на этот берег.
Но прусский принц, дойдя до провала, не сразу решился вступить на импровизированный помост: пробовал ногами его прочность, пошел очень медленно и балансируя на шатавшихся досках. Его немецкая свита проделывала то же самое, сильно замедляя переправу остальных. Тогда государь, не любивший никакой мешкотности, крикнул немцам:
– Plus vite, messieurs, plus vite!
Они поневоле поторопились, а за ними переправились дипломатический корпус и вся остальная свита. Но на том берегу оставался еще батальон пехоты и артиллерия, которую нельзя было переправить по трем дощечкам. Поэтому, как только последний из свиты перешел, мы вытащили из разрушенного места погибший понтон, ввели взамен его запасный и восстановили мост в прежнем виде. Батальон и батарея прошли на этот раз обратно без приключения.
Разборка моста и укладка его на фуры произведена была точно так же быстро и отчетливо, как и наводка. Когда все работы были кончены, мы снова надели мундиры, амуницию, взяли ружья и выстроились во фронт.
Государь подошел к нам и еще несколько раз хвалил и благодарил за образцовое исполнение всех маневров с мостом, причем, в знак особого своего благоволения, протянул Скалону руку, которую тот, конечно, поцеловал.
Когда государь и его приближенные уехали, Сутгоф почел нужным подойти к нам и сказал:
– Ну, я очень рад, господа, что смотр кончился благополучно. Я не ожидал этого и очень боялся за вас (ему-то чего было бояться?). Поздравляю вас с успехом.
Весело вскинув ружья на плечи, мы с торжеством вернулись в лагерь, точно победили, гордые сознанием своей нравственной силы, которую педагоги, вроде Сутгофа, не умели внушить своим воспитанникам. Да, мы были очень счастливы, что нашем воспитателем был такой человек, как Скалон.
Говоря о царских смотрах, нелишним считаю упомянуть еще об одном случае, который показывает, как император Николай I старался приучать нас к перенесению всяких военных трудностей и невзгод, а также испытывал нашу находчивость и дисциплину.
Однажды накануне назначенного им смотра начался проливной дождь, не перестававший всю ночь и прекратившийся только к утру. Наш лагерь был буквально залит, а военное поле, на котором производились смотры, сплошь покрылось лужами, из которых иные доходили глубиною до полуаршина, а шириною до нескольких сажен.
Одеваясь утром в мокрых шатрах, мы были уверены, что смотр отложится. Но государь думал иначе и в назначенное время явился на военное поле со всей своей многочисленной свитой верхами. Не стану описывать все трудности этого смотра, когда ноги вязли до щиколотки в размокшей земле или приходилось шлепать по огромным лужам.
Дело в том, что смотр кончился благополучно, и государь скомандовал построение для церемониального марша. Пока нас перестраивали в батальонные колонны, государь, оставив свиту, поехал шагом по военному полю. Мы, конечно, следили за ним глазами и заметили, что он постоянно меняет направление, как будто отыскивая что-нибудь на поле. Это продолжалось довольно долго.
Наконец он остановился довольно далеко от нас, знаком руки пригласил свиту подъехать к нему и потом скомандовал нам перемену фронта, так чтобы мы проходили церемониальным маршем там, где он остановился. Нас передвинули по его указанию, выстроили, выровняли, и церемониальный марш начался.
Когда во время марша мы приближались к государю, то тут только поняли, чего он искал: именно перед ним нам приходилось маршировать по самой широкой и глубокой луже. Ничтоже сумняся мы должны были отхватывать по глубокой воде, которая от шлепанья целой шеренги брызгала сплошным каскадом, обливая нас сверху и снизу.
Государь был очень доволен, благодарил каждый проходивший взвод и отпустил нас со смотра такими мокрыми и грязными чумичками, какими мы никогда еще не возвращались в лагерь, даже после больших маневров.

XIV. Инвалиды из Нерчинска
Император Николай Павлович, проживая летом в Петергофе, а осенью в Гатчине, часто прогуливался в садах и парках, совершенно один, в сюртуке, иногда даже без эполет, с хлыстом или тросточкой в руке. При этих прогулках ему случалось иногда встречаться с лицами, которые относились к нему с какими-нибудь вопросами, не подозревая, что говорят с императором.
Государь не только не избегал подобных встреч, но даже любил, по-видимому, быть иногда неузнаваемым и всегда в таких случаях был крайне вежлив и внимателен с обращавшимися к нему.
Однажды, гуляя в Петергофском дворцовом саду, он встретил двух отставных солдат, небритых, оборванных и по всем признакам совершивших далекий путь.
– Батюшка! – остановили они государя. – Ты, верно, здешний. Научи нас, где бы нам повидать царя.
– Зачем вы желаете его видеть? – спросил государь.
– Да как же, родимый ты наш. Мы вот прослужили ему с лишком сорок лет, в Нерчинской гарнизонной команде, а понятиев не имеем, какой такой это белый царь. Теперь, пойди, помирать скоро будем, так прежде, чем лечь в сырую землю, пошли мы это в Питер поглядеть на белого царя. Сотвори божескую милость, покажи нам его. В Питере-то сказывали, что он здесь теперь.
– Да, он здесь. Ступайте за мной. Я проведу вас к человеку, который устроит вам это дело.
Государь довел стариков до дворца и передал их дежурному офицеру, приказав ему, что надо сделать.
На другой день было первое августа, когда, по издавна заведенному обычаю, на дворцовой площадке производилась церемония освещения знамен. Я в то время был в роте Главного инженерного училища и должен был находиться в строю, на параде. Поэтому следующее видел сам.
Перед самым выходом государя с семейством и свитою из дворца какой-то офицер торопливо протолкался чрез наши ряды, ведя за собою двух стариков, оборванных, грязных, небритых, и поставил их почти посреди площадки, перед фронтом всех кадетских корпусов и военных училищ.
Понятно, что такое странное зрелище возбудило общее любопытство и по рядам прошел глухой говор. Что это за люди? Зачем привели их? Что с ними будут делать? Откуда их выкопали? Подобные вопросы сыпались со всех сторон, но ответа никто не мог дать.
Но вот, раздалась команда: «Смирно!» Значит, государь сейчас выйдет. Другая команда: «Равняйсь!» Офицеры забегали по рядам, наблюдая за равнением. Опять: «Смирно!» Потом: «На плечо!» Затем: «На караул!
Государь показался из подъезда; за ним императрица, великие князья и княгини и большая свита, блестевшая на солнце шитыми мундирами и орденами. Чрезвычайно странно было видеть среди этой блестящей обстановки двух несчастных, грязных и оборванных солдат, стоявших неподвижно, с шапками в руках.
Завидя их, государь остановился, взял императрицу за руку и, подозвав инвалидов к себе, что-то говорил то им, то императрице. Вероятно, он объяснял ей, кто они такие и как попали сюда, а им открылся, что они вчера у него же спрашивали о белом царе.
Мы видели только, что солдатики упали на колени, поклонились до земли, а потом государь и императрица осчастливили их, дав поцеловать свои руки. Затем офицер, приведший этих солдат, повел их куда-то во дворец, а государь начал обычным порядком производить смотр.
После я узнал, что государь предлагал этим солдатам поместить их в Петербурге, но они отказались, испросив позволение вернуться на родину, где хотели сложить свои кости. Государь велел одеть их и дать им на дорогу денег, чтобы они могли доехать спокойно, а не идти пешком.

XVI. Извозчик
Однажды, бывши офицером, я ехал зимою с Литейной на Васильевский остров. Извозчик попался мне старик, очень добродушный и словоохотливый. Худенькая лошаденка его трусила так неприятно, что каждый шаг ее отзывался толчком, и старик все время подстегивал ее кнутом, с разными причитаньями и наставлениями, вроде тех, с которыми кучер Чичикова, Селифан, обращался к чубарому.
В одном месте, на Невском проспекте, нас обогнал какой-то полковник, который, кивнув головою моему извозчику, сказал ему:
– Здравствуй, брат! Что давно не был? Не забывай, заходи!
Извозчик мой поклонился, сняв шапку, и ответил вслед:
– Зайду, родимый, зайду как-нибудь.
– Кто это такой? – спросил я.
Извозчик повернулся ко мне боком и, радостно улыбаясь, сказал:
– Брат мой родной, вот кто это!
– Вре-ешь!
– Чего, сударь, врать? Вот те Христос – родной брат…
– Да как же так: он – полковник, а ты – мужик?
– Что ж, барин, такое уж ему счастье на роду! Он сдаден был в рекруты годов, почитай, тридцать назад, и вот Господь сподобил его дослужиться до полковницкого чина, а скоро, говорит, и генералом будет.
Такие случаи бывали в старину, хотя и очень редко, а потому я более не спорил и поверил старику.
– И он, как видно, не зазнался пред родней? – спросил я.
– Нет, сударь, грех сказать, не зазнался, дай Бог ему здоровья и счастья. Отца и мать, пока были живы, очень почитал, помогал им и мною, как видишь, не брезгует.
– Ты бываешь у него?
– Бываю, сами слышали, сударь, что зовет к себе.
– Да, слышал, как же он тебя принимает?
– Очень хорошо, сударь. Известно, уж я ему теперь не товарищ, я мужик, а он человек полированный, меж нами равности уже нет, а все же, как придешь к нему, так обласкает, попоштует и завсегда, на прощанье, что ни на есть подарит.
– Это делает ему большую честь, – сказал я.
– Да уж такую честь, сударь, что и сказать нельзя.
– Хорошо он живет? Богато?
– Очинно богато, сударь. У него казенная хватера под Смольным. Никак комнат десять будет.
– Где же он тебя принимает, в комнатах?
– Нет, сударь, туда я сам не иду. Где же нам, мужикам сиволапым, в барские хоромы залезать! Там и ковры, и зеркала, и всякая мебель, того и гляди, что-нибудь попортишь или запачкаешь. Раз, правда, он мне показал свою хватеру, так вот я подивился, сударь, чего-то нет только у вас, у господ-то!
Иная штука такая, что и не придумаешь, на что она годится, а стоит себе и место занимает. А я, как прихожу, так на кухню либо в людскую, где у него денщики живут. Там он меня и принимает: денщиков вышлет вон и велит подать что есть в печи, сам присядет со мной и беседует. Хороший человек, дай Бог ему здоровья.
– Так вот ты какой родней обзавелся. С тобой не шути теперь.
Извозчик улыбнулся.
– А ведь я и сам не простак, что вы думаете? – сказал он, снова обернувшись ко мне.
– Ой ли? А чем же ты отличился?
– Да уж так, сударь, отличился, что и брату моему, даром что он полковник, почитай, не отличиться так… Знаете ли, что я самого царя возил?
– Ну, что ж тут мудреного? Вероятно, в ямщиках был?
– Вот то-то и есть, что в ямщиках никогда не был, а царя возил. Вы как это рассудите?
– Не знаю, брат, расскажи.
– А вот слушайте, как было дело. Приостановился я одново на самом углу Невского, у Адмиралтейской площади. Стою это и жду седока. Только слышу сзади себя шум. Оглянулся назад, и что ж бы вы думали? Ехал царь, Николай Павлович, в санках, об одну лошадь, серая такая, в яблоках.
Только зазевался, должно быть, евоный кучер, сцепился с кем-то, да на грех и сломи оглоблю. Как тут быть? Дальше ехать нельзя. Подбежали полицейские и народ помогать, значит, а чего тут помогать, когда оглобли нет! Гляжу я, царь-то вышел из санок, сказал что-то кучеру и прямо идет ко мне. Я, известно, шапку снял и гляжу на батюшку нашего. Никак мне невдомек, зачем он идет в мою сторону.
Только он подошел ко мне вплоть и говорит:
– Давай, старичина, вези во дворец!
Слышу я и ушам своим не верю! Так ошалел, что и понять не могу, что мне делать. К счастью, подбежал тут квартальный, отстегнул это полсть, помог государю сесть и крикнул мне: «Пошел!»
Держу я в одной руке шапку и вожжи, а другою стегаю своего меринка и в хвост и в гриву.
Государь уже сам приказал мне:
– Накройся, – говорит, – шапкою да возьми вожжи в обе руки.
Вижу, правду он говорит, одною рукою не управиться. Накрылся я и, как стали подъезжать ко дворцу, не знаю, куда направить, а спросить не смею: так весь дух во мне сперло… Только батюшка царь сам уже сказал мне подъезд. Остановился я, вновь снял шапку, а сам и глаза боюсь поднять. Подбежали тут квартальный да лакеи, отстегнули полсть, помогли царю выйти.
Встал он это из саней и говорит мне:
– Спасибо, старик. Обожди, говорит, немного.
Ни жив ни мертв, хотел было я стегнуть своего меринка да удрать без греха, только квартальный не пущает.
– Слышал, говорит, что государь велел тебе ждать!
Нечего делать, приткнулся я с санями к панели и жду. Что ж бы вы думали, сударь? Не прошло много времени, выходит из подъезда лакей и выносит мне двадцать пять рублей.
– Вот видишь ли, чего же ты боялся?
– Да как же, сударь, не бояться? Ведь не кто какой, а сам царь! Вы подумайте только! Лошаденка-то у меня плохонькая, сами видите; санки старые, полсть облезлая, грязная и вдруг – сам царь ко мне садится! Отродясь не думал дожить до такого счастья, и вот сподобил Господь!
– Куда же ты девал эти двадцать пять рублей? Пропил, небось, с радости?
– И-и! Что вы, сударь, как можно! Я, слава Богу, живу ничего себе, все у меня есть, два сына работают, зимой вот езжу здесь, живем, помаленьку; так эти царские-то деньги я в церкву нашу деревенскую отдал, чтобы, значит, образ святому Николаю Угоднику справили. Хороший образ сделали, в серебряной ризе, молимся теперь ему за батюшку царя. Так-то вот…

XVII. Памятник венгерской кампании
В одном из армейских саперных батальонов служил сапером некто Смирнов, человек в высшей степени своеобразный. Он был среднего роста, широкоплечий, слегка сутуловатый, носил длинные усы, опущенные книзу скобками, и смотрел зверем из-под густых, нависших над глазами бровей.
К числу многих странностей надо отнести то, что он никогда не употреблял местоимения «вы» и даже к высшему начальству обращался с такими словами: «Ты, ваше превосходительство, напрасно изволишь гневаться» или «Ты, ваше превосходительство, совсем не дело говоришь» и т. п.
Однажды какой-то из высших начальников, делавший смотр батальону, в котором служил Смирнов, призвал его зачем-то к себе на квартиру и, между прочим, сделал ему замечание о неуместном употреблении слова «ты».
Смирнов показал рукою на висевший в углу образ и невозмутимо ответил:
– Вот самый старший генерал над всеми нами, а и ему я говорю: «Помилуй мя, Господи!»
Когда по получении капитанского чина он был назначен командиром саперной роты, то прежде всего призвал к себе фельдфебеля и вступил с ним в такого рода беседу:
– Ну, шельма, как-то мы с тобой будем служить?
– Буду стараться, ваше ск-родие! – ответил фельдфебель.
– Стараться, брат, особенно нечего, дело простое: чтобы в солдатский котел класть все, что следует по положению. Понял?
– Слушаю, ваше ск-родие!
– Тебе и унтер-офицерам артель положит прибавку, а более чтобы ни-ни! Солдат должен быть сыт.
– Точно так, ваше ск-родие!
– Больше ничего. Ступай. Я сейчас приду в казарму.
Фельдфебель распорядился для встречи капитана выстроить роту фронтом. Поздоровавшись с командою, капитан обошел ряды, внимательно вглядываясь в каждого солдата, а потом, став перед ротой, спокойно, но уверенно объявил:
– У меня, ребята, розог не будет, и кулакам я тоже воли не даю. Служите по совести, как Бог велит. Но и потачки я не дам. Помните это.
Если принять во внимание, что это было сказано в те Николаевские времена, когда розги и кулаки служили общепринятым орудием солдатского образования, то можно себе представить, какое впечатление произвела на солдат такая речь их капитана. Одни, вероятно, даже не поняли его, а другие не поверили ему. Но капитан Смирнов крепко держал данное слово.
Провинится какой-нибудь солдат, он его назначит стоять на часах в своей квартире, в полной амуниции, а иногда, смотря по вине, и с ранцем, наполненным песком.
Солдат стоит у дверей, а капитан занимается каким-нибудь делом у стола и по временам беседует с часовым:
– Угораздило, братец, тебя на такую штуку: у товарища рубль украсть! Хорошее дело, нечего сказать! Какой же ты товарищ, а? Лучше бы у меня украл, а то у солдата! Сам знаешь, как солдату трудно достается копейка. Нехорошее, брать, дело, совсем нехорошее!
Виноватый, стоя у дверей, слушает и думает: «Что-то будет дальше? Вспорет меня капитан, как ни на есть – вспорет!»
Капитан помолчит, занявшись каким-нибудь делом, а потом сызнова заговорит:
– Вкусен ли был краденый-то рубль, а? Эхе-хе! Грехи наши тяжкие. И не стыдно тебе будет на товарищей глядеть теперь? Как тебя звать-то?
– Федор Михайлов, ваше ск-родие!
– То-то вот и есть, Федор Михайлыч. Не черт ли твою руку подтолкнул! Ведь доброму солдату до такой штуки без черта не додуматься. Видит нечистый, что у капитана Смирнова рота молодец к молодцу, как бисер нанизанный, вот и взяла его зависть, проклятого. Дай, думает, подучу Федора Михайлыча рубль украсть, а Федор Михайлыч, как баба какая, уши и распустил. У самого, вишь, рассудка не хватило, так старого лешего послушал.
Солдат смотрит на капитана и недоумевает. А капитан усядется за работу к столу и как будто забыл о виновном.
Через полчаса времени, однако, он встает, подходит к Федору Михайлову и, глядя в упор своими грозными глазами, спросит:
– Ну, так как же, брат? Будешь воровать напредки?
– Никак нет, ваше ск-родие.
– Ой-ли? Закаешься?
– Точно так, ваше ск-родие!
– И черта слушать не будешь?
– Не буду, ваше ск-родие!
– И не слушай его: как он станет тебя снова мутить, ты перекрестись да приди прямо ко мне сказать. Вдвоем-то с тобой мы с ним управимся, знаешь как! А теперь ступай в роту.
– Покорнейше благодарю, ваше ск-родие!
Солдат уходит от капитана, совершенно озадаченный, не понимая, что с ним сделалось. Его не выпороли, ему не разбили лица, его даже не выругали, а что-то с ним сделали, чего он никак не мог в толк взять. А сделали то, что солдат, склонный к воровству, стал бояться этой слабости пуще всякого греха. Если потянет его руку к чужой собственности, он, вспомнив про капитана, начнет креститься и отмаливаться. И помогало! Не надо даже к капитану идти за помощью: черт убегал при двух-трех крестах!
Солдаты его любили.
– Нам што! – говорили они. – Нам у него хорошо! Живем как у Христа за пазухой. И сам не обидит, и никому в обиду не даст!
И он действительно никому не позволял обижать своих солдат. Был такой случай. Перед Венгерской кампанией приехал начальник штаба сделать смотр батальону, в котором служил Смирнов. Во время ружейных приемов один из солдат как-то неловко вскинул ружьем, что тотчас было замечено генералом.
– Выпороть его, каналью! – крикнул он, обращаясь к капитану Смирнову.
– У меня розог нет, – спокойно ответил старый капитан, прикладываясь к козырьку.
Начальник штаба недоумело взглянул на него.
– Как?! – закричал он. – Это что значит?
– А то значит, ваше превосходительство, что я восемь лет командую ротой и розог не заводил. Так теперь, перед походом, совсем уже не время этим заниматься. Нам теперь надо штыки оттачивать.
Генерал совсем был озадачен таким небывалым сопротивлением и сгоряча приказал батальонному командиру отправить строптивого капитана на гауптвахту.
– Поздно мне сидеть на гауптвахте, – возразил и на это капитан. – Сколько лет я служил и такого позора не заслуживал. А ты, ваше превосходительство, если не доволен мною, так отдай меня под суд.
Неизвестно, чем бы кончилась эта история, если бы не вмешался батальонный командир, объяснивший генералу, что Смирнов всегда был такой, что к его чудачеству все привыкли, что он все-таки лучший офицер в батальоне и что, наконец, теперь, перед походом, неудобно сменять ротного командира, к которому солдаты привыкли.
После смотра начальник штаба потребовал капитана Смирнова к себе для объяснений. Разумеется, он опять упрекал, грозил, кричал и так далее.
Капитан терпеливо выслушал и, окинув грозного начальника своим глубоким взглядом, сказал:
– Послушай меня, ваше превосходительство. Ты, вот, говорил, что можешь отдать меня под суд за нарушение дисциплины. Что ж, отдавай, только хорошо ли это будет? Чем я нарушил дисциплину? Что не дал тебе обидеть честного солдата? Так ведь на то я и капитан его, чтоб стоять за него горой.
Посуди сам, что бы было хорошего: сегодня ты его велишь выпороть, завтра – бригадный командир, послезавтра – начальник дивизии, дальше – корпусный командир, дальше – главнокомандующий… и все-то будут его драть и драть, не зная его, видя его в первый раз, ни за что ни про что! При чем же я-то буду? Как я его пошлю на бой после всех этих порок? Разве солдат не спросит меня тогда: а где ты был, командир, когда господа генералы меня пороли?
Эта необычная речь совсем смутила начальника штаба, и он оставил капитана Смирнова в покое, но…
Во время Венгерской кампании как-то так выходило, что рота капитана Смирнова, случайно или нет, употреблялась всегда на самые трудные и опасные предприятия. Где надо было совершить что-нибудь почти невозможное, туда всегда назначали капитана Смирнова с его ротой. Видимо, начальник штаба не забывал его и желал, вероятно, доставить ему случай отличиться.
Капитан Смирнов не роптал на это и исполнял все поручения с тем же спокойным хладнокровием, с которым проходил всю свою службу.
После каждого дела, поверяя ряды своей роты и не досчитываясь в ней многих, он тяжело вздыхал и записывал в памятную книжку имена убитых, за которых потом читал молитвы пред оставшимися в живых. Каждый вечер, после обычной молитвы «Отче наш», отделенные унтер-офицеры должны были прочитывать, каждый пред своим отделением, списки убитых, заканчивая этот перечень молитвою: «Помяни их, Господи, во царствии Твоем».
Между тем списки эти делались все длиннее и длиннее, по мере хода войны. Рота капитана Смирнова таяла, как свечка, и он уже рассчитывал, что если война продлится еще столько же времени, то он вернется в Poccию с одним барабанщиком. Несмотря на то, при представлениях к наградам штабные писаря всегда забывали внести роту капитана Смирнова в список отличившихся.
Вступая в Венгрию, капитан ввел под своей командой ровно триста человек саперов, а привел обратно всего сто двенадцать. Две трети его роты усеяли своими костями венгерские равнины. Капитан сделался угрюм.
– Мне ничего не надо, – говорил он иногда своим офицерам. – Но мне обидно то, что за всю кампанию на нашу роту не дали даже одного Георгиевского креста. А ведь мы его крепко заслужили.
Года через три после Венгерской кампании капитан Смирнов должен был участвовать со своей ротой в Красносельском лагерном сборе. Рота его была, конечно, пополнена, но все герои, завершившие с ним поход, были налицо.
Капитан насыпал перед своей палаткой небольшой курган, обделал его дерном и наверху поставил небольшую бронзовую статуэтку, изображавшую какого-то испанца, со шпагой в руке. Эта статуэтка была единственным трофеем, вынесенным им из Венгерского похода.
Он очень дорожил ею, всегда держал в своем письменном столе, а тут почему-то вздумал поставить на видном месте, рискуя даже, что ее могут украсть. Когда его спрашивали, для чего он это сделал и что изображает этот курган, он отвечал, что это памятник его солдатам, погибшим в венгерской кампании.
Слух об этом игрушечном памятнике и об авторе его, разумеется, разошелся по лагерю, и в свободное время многие офицеры гвардейских полков заходили, во время прогулки, посмотреть на него, причем заговаривали с капитаном Смирновым, часто сидевшим на стуле у своей палатки с неизменной трубкой в руках. Так как в гвардейских полках служат многие наши аристократы, близкие ко двору, то не мудрено, что рассказ о чудаке капитане как-нибудь дошел до слуха императора.
Однажды вечером капитан сидел в своей палатки за самоваром, как заслышал крик дежурных: «Всем на линию!». Это значит, что лагерь обходит кто-нибудь из начальствующих лиц. Быстро одевшись в сюртук, капитан Смирнов вышел из палатки и начал осматривать сбежавшихся солдат.
– С которого фланга? – спросил он дежурного.
– С левого, ваше ск-родие.
Капитан взглянул по указанному направлению и легко узнал вдали внушительную фигуру императора Николая Павловича, который шел пешком, с небольшою свитой, но которая постепенно увеличивалась, по мере того как государь подвигался далее. Экипаж его следовал сзади.
– Государь идет! – сказал капитан своей роте. – Подтянитесь, ребята! Смотрите веселее! Выровняйтесь хорошенько. Глаза налево!
Государь между тем приближался. Он шел, почти не останавливаясь, здороваясь с выстроенными частями войск, и в скором времени приблизился к месту расположения роты капитана Смирнова.
– Здорово, ребята!
– Здравия желаем вашему императорскому величеству! – дружно ответили саперы.
Палатка капитана Смирнова приходилась как раз у правого фланга выстроившейся роты, так что курган со статуэткой находился на самом пути государя. Император, разумеется, заметил его.
– Что это такое? – спросил он капитана, державшего руку под козырек.
– Это, ваше величество, памятник Венгерской кампании! – громко ответил капитан.
Государь сначала улыбнулся, но потом лицо его быстро приняло свое обычное серьезное выражение. Как наружность капитана, угрюмого, закаленного в боях воина, так и твердый, уверенный голос, которым он ответил, невольно обратили на себя внимание императора.
– Ты был в Венгрии? – спросил он.
– Вместе со своей ротой, ваше величество, – ответил капитан, показав на солдат, о которых всегда думал больше, чем о себе.
Государь внимательно оглянул саперов. Капитан понял этот взгляд.
– Тут теперь полторы сотни новичков, ваше величество, – сказал он.
– А где же кавалеры твои? Я ни одного не вижу!
– Мои кавалеры, ваше величество, остались в Венгрии. Домой я привел людей, должно быть, никуда не годных, – смело ответил капитан.
Император нахмурился. Он, очевидно, начал угадывать смысл ответов капитана.
– Вызови бывших с тобою в походе, – приказал он.
Капитан стал перед ротой и скомандовал.
– Венгерцы, вперед! Стройся! Глаза направо.
Сотня с небольшим солдат вышли из фронта вперед, живо выстроились и выровнялись. Император осмотрел их и еще более нахмурился.
– Все, ваше величество! Сто восемьдесят восемь человек мы похоронили в Венгрии и каждый день молимся за упокой их душ.
Государь взял за руку одного старого генерала, сопутствовавшего ему (имени и положения которого капитан Смирнов не знал), и, отойдя с ним в сторону, что-то долго и горячо говорил ему. Генерал, слушая государя, беспрестанно кланялся.
Затем, вернувшись назад, государь взял капитана Смирнова за плечо и, выйдя с ним перед фронтом, сказал:
– Ты получишь на роту десять Георгиевских крестов; всем остальным медали и по пяти рублей на человека. Ты сам что получил за кампанию?
– Счастье говорить сегодня с тобою, государь! – ответил капитан, прослезившийся от радости, что наконец-то его солдаты, которых он так любил, были оценены по достоинству и притом самим царем.
Император притянул к себе капитана и поцеловал его.
– Поздравляю тебя полковником и Георгиевским кавалером, – сказал он. – Спасибо, ребята, за славную службу! – крикнул он солдатам.
– Ура-а! – ответили они и, в порыве восторга, забыв всякую дисциплину, окружили государя и капитана, целуя полы их сюртуков и руки и продолжая кричать: – Ура-а! Рады стараться, ура-а!
Когда по приказанию государя они снова выстроились, государь еще раз обратился к полковнику Смирнову и сказал ему:
– Составь рапорт о всех делах, в которых участвовал, и представь по начальству на мое имя, а этот свой памятник убери.
– Слушаю, ваше величество! – ответил новопроизведенный полковник.
По уходе императора полковник Смирнов велел саперам немедля же срыть курган, а бронзового испанца со шпагой в руке перенес на свой письменный стол.
– Ведь болван, – говорил он потом, щелкая испанца ногтями, – а сумел доложить государю о моих саперах лучше всякого штабного писаря…
По чину полковника Смирнов уже не мог оставаться командиром роты и вскоре получил один из саперных батальонов, расположенных на юге России.

XVIII. Император Николай I как супруг
Император Николай I был человек очень неприхотливый насчет жизненных удобств. Спал он на простой железной кровати с жестким волосяным тюфяком и покрывался не одеялом, а старою шинелью.
Точно так же он не был охотник до хитрой французской кухни, а предпочитал простые русские кушанья, в особенности щи да гречневую кашу, которая если не ежедневно, то очень часто подавалась ему в особом горшочке. Шелковая подкладка на его старой шинели была покрыта таким количеством заплат, какое редко было встретить и у бедного армейского офицера.
Но насколько он был прост относительно себя, настолько же он был расточителен, когда дело касалось императрицы Александры Федоровны. Он не жалел никаких расходов, чтобы доставить ей малейшее удобство.
Последние годы ее жизни доктора предписали ей пребывание в Ницце, куда она и ездила два или три раза. Нечего и говорить, что в Ницце был для нее куплен богатый дом, на берегу моря, который был отделан со всевозможной роскошью.
Но однажды, по маршруту, ей приходилось переночевать в Вильне. Для этой остановки всего на одни сутки был куплен дом за сто тысяч и заново отделан и меблирован от подвалов до чердака.
Проживая в Ницце, императрица устраивала иногда народные обеды. Для этого на эспланаде перед дворцом накрывались столы на несколько сот, а не то и тысяч человек, и каждый обедавший, уходя, имел право взять с собою весь прибор, а в числе прибора находился, между прочим, серебряный стаканчик, с вырезанным на нем вензелем императрицы.
Если о богатстве России долгое время ходили в Европе баснословные рассказы, то этим рассказам, конечно, много содействовала роскошь, которою император окружал свою боготворимую спутницу жизни. Слухи о ее расточительности за границей доходили, конечно, и в Poccию и немало льстили патриотическому самолюбию.
Так как императрице не нравилась местная вода, то из Петербурга каждый день особые курьеры привозили бочонки невской воды, уложенные в особые ящики, наполненные льдом. Зная это, многие жители Ниццы старались добыть разными путями хоть рюмку невской воды, чтобы иметь понятие о такой редкости. Опытные курьеры прихватывали с собою лишний бочонок и распродавали его воду, стаканами или рюмками, чуть не на вес золота.
Мне случилось в 1861 году проезжать в дилижансе из Тулона в Ниццу, и так как, для избежания духоты, я сидел на переднем, открытом, месте, то со мною рядом помещался кондуктор. Он мне рассказывал дорогою, что ему привелось два раза обедать за счет русской императрицы, и он хранит полученные на этих обедах два серебряных стаканчика.
Когда же я возвращался из-за границы, то в поезде из Берлина в Петербург ехал со мною курьер, который был послан с какими-то вещами к королеве Виртембергской Ольге Николаевне. Оказалось, что он был из числа тех курьеров, которые возили воду для императрицы Александры Федоровны из Петербурга в Ниццу.
– Это было хорошее время для нас, – говорил он. – Кроме продажи воды в Ницце, мы наживались еще контрабандою.
– Каким же образом?
– Да очень просто: ведь нас, императорских курьеров, ни на какой таможне не осматривают. Поэтому мы свободно провозим что угодно, лишь бы не бросалось в глаза. Я и теперь кое-что везу.
– А что именно?
Но курьер улыбнулся и, махнув рукою, ничего не ответил. Я же почел неудобным допытываться настойчивее.

XIX. Комендант Фельдман
В начале февраля 1855 года сидели мы, офицеры инженерного училища, в классе и мирно слушали лекцию долговременной фортификации, которую читал нам капитан Квист, как вдруг двери из соседнего, старшего офицерского класса с шумом растворились на обе половины и прибежавший быстро сторож впопыхах объявил: «Государь идет!»
Чтоб понять наше удивление, надо заметить, что государь заезжал к нам в училище всегда осенью, а в эти месяцы, после Нового года, никогда не заглядывал. Мы все знали, что дела в Севастополе идут очень плохо, и потому понятно, что всех охватила одна и та же мысль, что случилось что-нибудь особенное, что заставило государя изменить своим обычаям.
Не успели мы кое-как оправиться, застегнуть расстегнутые пуговицы и привести в более приличный вид разбросанные на столах чертежи, книги и бумаги, как заслышали так знакомый нам громкий и звонкий голос государя в старшем офицерском классе, сердито кричавшего:
– Где же Фельдман? Послать за ним немедля!
И с этими словами он вошел в наш класс. Лицо его было красно от гнева, глаза метали молнии, он шел скорым шагом и, не поздоровавшись с нами и как бы даже не замечая нас, подходил уже к противоположным дверям, как в эту минуту из-за них показался Фельдман.
Тут нужно сделать маленькое отступление. Генерал Фельдман считался комендантом Инженерного замка. Это был старый, почтенный генерал, для которого это место коменданта было создано императором, чтобы, не оскорбляя его отставкой, дать под старость почетное и нехитрое занятие. Император Николай очень часто создавал подобные места для старых служак.
В одном из залов Инженерного замка, вслед за старшим офицерским классом, помещались большие модели некоторых наших главных крепостей, и в том числе Севастополя. Модели эти были так велики, что на них были сделаны маленькие медные пушки, с лафетами и другими принадлежностями крепостной артиллерии, и каждая модель занимала четыре или пять квадратных сажен.
Модели эти хранились в величайшей тайне, и даже нас, инженеров, пускали их осматривать только один раз, перед самым окончанием курса. Ключи от этого модельного зала хранились у Фельдмана, и без его разрешения никто туда попасть не мог.
Случилось, что Фельдман поддался на чью-то просьбу, не знаю хорошенько, своих ли добрых знакомых или кого-нибудь из высокопоставленных лиц, и дозволил им осмотреть модель Севастополя. Сторож, на обязанности которого было содержать этот зал и модели в порядке, заметил, что, кроме группы лиц, допущенных Фельдманом, по модельной ходят еще каких-то два господина, которые держатся особняком и делают какие-то отметки в своих записных книжках.
Он сказал об этом офицеру, провожавшему гостей Фельдмана и объяснявшему им на модели Севастополя сущность происходивших там событий. Офицер подошел к двум непрошеным гостям и попросил их немедля удалиться, что они, конечно, и сделали. Кто они были, я не мог узнать достоверно, но, по слухам, это были какие-то два иностранца.
Об этом маленьком приключении кто-то донес государю, и вот он приехал к нам в замок, грозный, как буря. Никогда еще прежде не случалось мне видеть его в таком сильном припадке гнева, как в этот раз.
Чуть не столкнувшись с государем, Фельдман остановился и отвесил глубокий поклон. Он был небольшого роста, плечистый и с большой лысой головой. Государю он приходился почти по пояс.
– Как ты осмелился, старый дурак, – кричал на него государь, грозя пальцем, – нарушать мое строжайшее приказание о моделях? Как ты осмелился пускать туда посторонних, когда и инженерам я не доверяю эти вещи? До такой небрежности довести, что с улицы могли забраться лица, совершенно неизвестные?
Для того ли я поставил тебя здесь комендантом? Что ты продать меня, что ли, хочешь? Не комендантом тебе быть этого замка, а самому сидеть в каземате под тремя запорами! Я не пощажу твоей глупой лысой головы, а отправлю туда, где солнце никогда не восходит! Если тебе я не могу довериться, то кому же после того мне верить.
Я не припомню в точности всего, что говорил государь несчастному коменданту, и привожу эти фразы только приблизительно верно в гораздо более мягкой форме, чем говорил государь, который в своем неудержимом гневе решительно не стеснялся никакими выражениями.
Фельдман не осмеливался да и не имел возможности что-нибудь сказать в свое оправдание. Во все время грозной речи государя он только молча кланялся и был красен как рак. Я думал, глядя на него, что с ним тут же сделается удар, и он упадет замертво. Государь говорил, то есть, вернее сказать, кричал, долго и много, все время сильно жестикулируя и беспрестанно грозя пальцем.
Мы, офицеры, и все наше начальство, понемногу и потихоньку собравшееся в нашем классе, стояли ни живы ни мертвы, каждую минуту ожидая, что, покончив с Фельдманом, государь обратится к нам и, заметив какой-нибудь беспорядок, задаст и нам трепку. Но ему, видимо, было не до нас.
Вылив свой гнев на Фельдмана, он прошел дальше, не простившись с нами, как вошел не поздоровавшись.
И это было последний раз, что мы его видели. Так его фигура и запечатлелась во мне на всю жизнь, в своем грозном величии, заглушая тот симпатичный его образ, когда он являлся не Юпитером-громовержцем, а добрым любящим отцом своих многочисленных детей.


