Книга: Айша. Возвращение Айши. Дочь Мудрости
Назад: ВСТУПЛЕНИЕ
Дальше: Глава II. ПО ПРОШЕСТВИИ МНОГИХ ЛЕТ
Глава I.
НОЧНОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
Бывают в жизни события, каждым своим обстоятельством, каждой сопутствующей подробностью неизгладимо врезающиеся в память. Сцена, которую я собираюсь сейчас описать, может быть неплохой иллюстрацией к этой мысли. Она стоит у меня перед глазами с такой необычной ясностью, как будто произошла лишь накануне.
Двадцать лет назад, в этом же самом месяце, я, Людвиг Хорейс Холли, сидя у себя дома в Кембридже, корпел над математической задачей — не помню какой. Через неделю я должен был держать экзамен, с тем чтобы занять место в учебном совете, и мой руководитель, как и весь колледж, ждал от меня блистательных результатов. Наконец, в полном изнеможении, я отшвырнул книгу, взял трубку с каминной доски и принялся набивать ее табаком. Тут же на камине стояло длинное узкое зеркало, и при свете свечи я увидел в нем свое отражение — и задумался. Спичка, догорая, обожгла мне пальцы, я выронил ее, но продолжал смотреть в зеркало, все еще в глубокой задумчивости.
— Ну что ж, — произнес я наконец вслух, — я никогда ничего не добьюсь с помощью своей внешности, остается только надеяться на голову.
Может быть, кому-то это замечание покажется не совсем понятным, но я имел в виду вполне определенные недостатки своей наружности. Большинство двадцатидвухлетних мужчин привлекательны хотя бы молодостью, но судьба не послала мне и этого утешения. Представьте себе низкорослого, коренастого мужчину с непомерно широкой грудью, длинными жилистыми руками, глубоко посаженными серыми глазами, низким лбом в густых черных волосах — этот лоб напоминает полузаглохшую лесную делянку, — такова была моя внешность около четверти века назад, такова она, с небольшими изменениями, и поныне. Природа отметила меня каиновой печатью невероятного уродства и в то же время наградила меня невероятной физической силой и незаурядным умом. Я так чудовищно некрасив, что франтоватые молодые люди из колледжа, хотя и гордятся моей силой и выносливостью, избегают появляться в моем обществе. Удивительно ли, что я рос мрачным мизантропом? Удивительно ли, что я предавался размышлениям и работал в одиночестве, что у меня был один-единственный друг? Сама Природа осудила меня на одиночество, я обретаю утешение лишь на ее — ни на чьей больше — груди. Женщины сторонятся меня. Всего неделю назад одна из них, думая, что я ее не слышу, назвала меня «чудовищем» и добавила, что я убедил ее в верности теории о происхождении человека от обезьяны. Однажды я встретил женщину, которая притворилась, будто любит меня, я излил на нее свой неизрасходованный запас чувств. И что же? Когда я не получил значительной суммы денег, на которую рассчитывал, она дала мне отставку. Я умолял ее не покидать меня, как никогда не умолял ни одно живое существо, ибо очень дорожил ею, но она подвела меня к зеркалу.
— Меня можно назвать красавицей, — сказала она. — А вот как назвать тебя?
Мне было тогда двадцать лет.
Итак, я стоял и смотрел в зеркало, испытывая мрачное удовлетворение от своего одиночества — ведь у меня не было ни отца, ни матери, ни брата, — когда кто-то постучал в дверь.
Я не спешил открывать дверь, ибо было уже около двенадцати часов ночи, и я не чувствовал никакого желания разговаривать с каким-либо незнакомцем. В колледже, да и во всем мире, у меня был лишь один друг — возможно, это он?
За дверью кашлянули, я сразу же узнал этот кашель и отпер замок.
В комнату торопливо вошел человек лет тридцати, с очень красивым, хотя и довольно изможденным лицом. В правой руке он с трудом тащил массивный железный сундучок. Взгромоздив сундучок на стол, он сильно закашлялся. Кашлял долго-долго, пока весь не побагровел. Не в силах стоять, он повалился в кресло и начал харкать кровью. Я плеснул в бокал немного виски и протянул ему. Он выпил, и ему как будто бы полегчало, но не намного.
— Почему ты так долго меня не впускал? — проворчал он. — Эти сквозняки для меня просто смерть!
— Я не знал, что это ты, — объяснил я. — Время-то уже позднее.
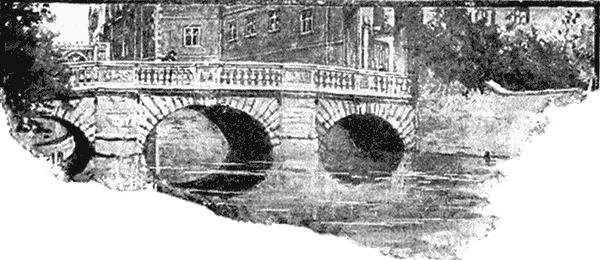
— Я думаю, это мое последнее посещение, — ответил он с жуткой гримасой, долженствующей изображать улыбку. — Плохи мои дела, Холли. Очень плохи. Вряд ли я дотяну до завтрашнего утра.
— Глупости! — сказал я. — Сейчас я сбегаю за доктором.
Повелительным взмахом руки он отклонил мое предложение:
— Я рассуждаю вполне здраво, не надо никаких докторов. Я ведь изучал медицину и знаю о своей болезни все, что следует знать. Ни один доктор не может уже помочь мне. Настал мой последний час! Целый год я живу только чудом... А теперь послушай меня, и как можно внимательнее, потому что у меня не будет возможности повторить то, что я тебе скажу. Мы дружим уже два года — и что ты обо мне знаешь?
— Я знаю, что ты богат и по какой-то своей причуде поступил в наш колледж в том возрасте, когда почти все другие его заканчивают. Я знаю, что ты был женат, но твоя жена умерла при родах и что ты мой лучший, можно сказать, единственный друг.
— А знаешь ли ты, что у меня есть сын?
— Нет.
— У меня есть пятилетний мальчик. Он достался мне слишком дорогой ценой, ценой жизни его матери, поэтому я даже не хотел его видеть. Холли! С твоего, разумеется, согласия, я хочу назначить тебя опекуном моего сына.
Я едва не выпрыгнул из кресла:
— Меня?
— Да. Я хорошо изучил тебя за эти два года. С тех пор как я понял, что обречен, я неустанно ищу человека, которому мог бы доверить и мальчика, и вот это... — Он постучал по сундучку. — Никого более подходящего, чем ты, Холли, мне не найти; ты похож на дерево с грубой, шершавой корой, но прочной и здоровой сердцевиной... Послушай, мой мальчик — единственный потомок одного из самых древних, насколько позволяет проследить генеалогия, родов мира. Рискуя вызвать у тебя на губах недоверчивую улыбку, я все же скажу, что моим шестьдесят пятым или шестьдесят шестым предком был египетский жрец Исиды — Калликрат. Его отец — один из наемных греческих воинов Хак-Хора, мендесийского фараона двадцать девятой династии, а его дед, по-видимому, тот самый Калликрат, которого упоминает Геродот. Примерно в триста тридцать девятом году до Рождества Христова, когда пал последний фараон, этот Калликрат (жрец), нарушив обет безбрачия, бежал из Египта с влюбившейся в него принцессой Аменартой; их корабль потерпел крушение у берегов Африки, недалеко от залива Делагоа, точнее, севернее его. Весь экипаж погиб, спаслись только он сам и его жена. Им пришлось претерпеть тяжкие испытания, но в конце концов они нашли приют у могущественной царицы дикого народа, белой женщины необыкновенной красоты; при обстоятельствах, в которые я не хотел бы вдаваться, ибо ты узнаешь их, вскрыв сундучок, эта царица убила нашего предка Калликрата. Его жене, однако, каким-то образом удалось бежать. В конце концов она добралась до Афин и там родила сына, названного ею Тисисфеном, то бишь Мстителем. Через пять с лишним веков ее потомки переехали в Рим. Об этом переезде не сохранилось никаких сведений. Возможно, они все еще не отказались от мысли о мести, воплощенной в самом имени Тисисфен. К тому времени они, правда, изменили фамилию на Виндекс, с тем же значением — Мститель. В Риме они также прожили около пяти веков. Когда в семьсот семьдесят четвертом году Шарлемань вторгся в Ломбардию, где они тогда обосновались, глава рода примкнул к великому императору, перешел с ним через Альпы и поселился после ряда переездов в Бретани. Через восемь поколений очередной глава рода переехал в Англию, где тогда царствовал Эдуард Исповедник, и во времена Вильгельма Завоевателя сумел достичь высокого положения и власти. С тех пор и вплоть до нынешнего дня наша генеалогия прослеживается без каких бы то ни было перерывов. Нельзя сказать, чтобы фамилия Винси — так она была переделана в Англии — особенно славилась: наши английские предки никогда не достигали самых вершин. Кое-кто служил в войсках, кое-кто занимался торговлей, но они всегда сохраняли достаточный уровень респектабельности, хотя и оставались в строгих рамках посредственности. Со времен Карла Второго и по начало нынешнего столетия они подвизались на поприще торговли и промышленности. Мой дед-пивовар сколотил довольно приличное состояние и в тысяча семьсот девяностом году отошел от дел. В тысяча восемьсот двадцать первом он умер, оставив все свое состояние моему отцу, который промотал значительную его часть. Через десять лет скончался и он, завещав мне пожизненную ренту в две тысячи фунтов ежегодно. Тогда-то, изучив содержимое вот этого — он показал на железный сундучок, — я предпринял экспедицию, которая окончилась довольно плачевно. На обратном пути, путешествуя по югу Европы, я остановился в Афинах. Там я встретился со своей будущей женой, которая, как и наш древний предок Калликрат, вполне заслуживала эпитета «Прекрасная». Мы поженились, а через год во время родов она умерла.
Несколько мгновений он сидел молча, подпирая подбородок ладонью, потом продолжал:
— Женитьба помешала мне осуществить до конца свой замысел, а теперь уже слишком поздно. У меня не остается ни дня, Холли, ни дня. Если ты согласишься принять опекунство, ты узнаешь все, до подробностей. После смерти жены я начал готовиться к новой экспедиции. Начать, на мой взгляд, следовало с изучения восточных языков, прежде всего арабского. С этой целью я и поступил в колледж. В скором времени, однако, у меня развилась тяжелая болезнь, и вот я при смерти. — И, как бы в подтверждение своих слов, он разразился новым приступом кашля.
Я подлил ему виски, и, передохнув, он продолжил:
— Я никогда не видел своего сына Лео со времени его рождения. Это было свыше моих сил. Но говорят, что мальчик он смышленый и красивый. В этом конверте, — он достал адресованное мне письмо, — хранится план его образования. План этот довольно необычный, и я не могу доверить его осуществление человеку незнакомому. Итак, снова: принимаешь ли ты мое предложение?
— Сперва я должен знать, в чем это предложение состоит, — ответил я.
— Ты должен будешь жить вместе с Лео, пока ему не минет двадцать пять. Запомни: я не хочу, чтобы он ходил в школу, как все прочие дети. В двадцать пятый год его рождения твое опекунство заканчивается; этими вот ключами, — он положил их на стол, — ты откроешь железный сундучок, пусть Лео хорошенько ознакомится со всем, что в нем хранится, и скажет, готов ли он отправиться на поиски. Ничто его, во всяком случае, к этому не обязывает. Теперь об условиях. Мой нынешний доход — две тысячи двести фунтов ежегодно. Половина этого дохода будет выплачиваться тебе пожизненно — если, конечно, ты примешь опекунство, — соответственно твое вознаграждение составит тысячу фунтов, ибо тебе придется посвятить своим обязанностям все силы и время. Сто фунтов пойдет на содержание мальчика. Всю остальную сумму ты будешь откладывать до достижения им двадцати пяти лет, так что, если он решит отправиться на поиски, у него будет вполне достаточно для этого.
— А если я умру? — спросил я.
— Тогда обязанности опекуна примет на себя Высокий суд, а там уж все зависит от самого мальчика. Не забудь только в своем завещании отписать ему сундучок. Не отказывайся, Холли. Поверь мне, ты не будешь внакладе. Ты ведь не рожден, чтобы вращаться в обществе, — это только ожесточит твое сердце. Через несколько недель ты станешь членом ученого совета, и твоего жалованья вместе с денежной рентой, которую я тебе оставляю, вполне достаточно, чтобы по мере желания заниматься научной работой, посвящая свой досуг спорту, который ты так любишь.
Он смотрел на меня с глубоким беспокойством, но я все еще колебался, не решаясь взвалить на себя такое необычное бремя.
— Умоляю тебя, Холли. Мы были с тобой добрыми друзьями, и у меня уже не остается времени перепоручить мальчика кому-нибудь другому.
— Хорошо, я согласен, — сказал я. — При условии, конечно, что в этом письме не окажется ничего, что могло бы принудить меня переменить свое решение. — И я притронулся к конверту, который он положил на стол рядом с ключами.
— Спасибо тебе, Холли, спасибо. Там нет ничего подобного. Поклянись именем Бога, что заменишь мальчику отца и точно выполнишь все мои наставления.
— Клянусь! — торжественно провозгласил я.
— Замечательно. Помни только, что в один прекрасный день я спрошу с тебя за все отчет. Даже умерев, всеми забытый, я буду продолжать жить. Смерти нет, есть только переход, Холли, — в свое время ты в этом убедишься. И я верю, что даже этот переход можно отсрочить — при определенных, конечно, условиях.
Тут его схватил ужасающий приступ кашля.
— Все, — сказал он, — пора уходить. Сундучок у тебя. Завещание, в котором я назначаю тебя опекуном сына, — среди моих бумаг. Ты будешь щедро вознагражден, Холли. Я знаю, ты человек честный, но, если ты не оправдаешь моего доверия, клянусь Небом, я не прощу тебе этого! Берегись!
Я был слишком ошеломлен, чтобы хоть что-нибудь ответить. Он поднял свечу и посмотрел в зеркало. Болезнь неузнаваемо изменила его некогда прекрасное лицо.
— Добыча для червей, — произнес он. — Странно подумать, что через несколько часов я обращусь в холодное неподвижное тело, — путешествие подошло к концу, игра сыграна. Послушай, Холли, если и стоит жить, то только ради любви. В этом я убедился по опыту собственной жизни. Но мой сын Лео, если у него достанет смелости и веры, должен быть счастлив. Прощай, мой друг! — И с неожиданным приливом нежности он обнял меня одной рукой и поцеловал в лоб.
— Погоди, Винси, — сказал я, — если ты и в самом деле так плохо себя чувствуешь, я схожу за врачом.
— Нет-нет, — запротестовал он. — Обещай, что не сделаешь этого. Смерть уже пришла за мной, и я хотел бы умереть в одиночестве, как отравленная крыса.
— Ничего с тобой не случится, ты будешь жить, — сказал я.
Он улыбнулся, прошептал одними губами: «Помни же!» — и вышел.
Я сел и принялся протирать глаза, чтобы убедиться, что все это происходило наяву. Никаких сомнений не могло быть. Тогда я предположил, что Винси был пьян. Я знал, что он давно уже тяжко болен, но какой человек может предугадать день и час своей смерти с абсолютной точностью? Будь он при смерти, откуда взялись бы у него силы тащить тяжелый железный сундучок. Чем больше я размышлял, тем неправдоподобнее казалась мне вся эта история, ибо я был тогда еще недостаточно умудрен, чтобы знать, какие удивительные, даже непостижимые для здравого рассудка чудеса случаются на белом свете. Но я уже получил убедительный урок. Правдоподобно ли, чтобы отец не видел своего пятилетнего сына с самого его младенчества? Нет. Правдоподобно ли, чтобы он мог точно определить день своей смерти? Нет. Правдоподобно ли, чтобы он мог проследить свою родословную более чем на три столетия до Рождества Христова? Правдоподобно ли, чтобы разумный вроде бы человек доверил опекунство над сыном приятелю по колледжу, да еще и завещал ему половину состояния? Нет, конечно! Ясно, Винси был пьян или не в своем уме. Что же это все означает тогда? И что хранится в запечатанном железном сундучке?
В полном смятении и замешательстве я решил лечь спать: утро вечера мудренее. Я убрал оставленные Винси ключи и письмо в портфель, а железный сундучок спрятал в большую дорожную сумку, после чего улегся и забылся крепким сном.
Мне показалось, будто я проспал всего несколько минут, когда меня разбудил чей-то голос. Я сел на кровати и огляделся. Было уже совсем светло — пробило восемь.
— В чем дело, Джон? — спросил я у слуги, который был у нас с Винси один на двоих. — У тебя такой вид, как будто бы ты только что видел призрака.
— Я и видел, сэр, — ответил он, — только не призрака, а мертвеца, а это еще похуже. Я заходил, как обычно, к мистеру Винси, чтобы разбудить его, а он лежит весь закоченелый — помер, стало быть.
Назад: ВСТУПЛЕНИЕ
Дальше: Глава II. ПО ПРОШЕСТВИИ МНОГИХ ЛЕТ

