Мэри
…Все подбираюсь рассказать тебе о Мэри и не знаю, с какого конца подступиться.
Странное дело: мне почему-то не хочется, чтобы эта история тебя повеселила, хотя она и смешная до упаду. Все в ней смешно, в этой истории, смешно до чертиков…
В общем, когда в прошлом году я перешла работать в этот новый салон недалеко от дома, меня предупредили, что здесь время от времени появляется странный такой мужик, который называет себя Мэри. Я только плечами пожала: мало ли кого заносит на наши лужайки вечной молодости и гендерной вариативности.
И однажды он появился.
Я сидела одна на фронт-деске – стойке, за которой мы отвечаем на телефонные звонки и назначаем очереди, – жевала сэндвич с яйцом-тунцом и листала журнальчик: время обеденное, никого нет.
Вошел, стеснительно пробрался к стойке и говорит:
– Hi, my name is Mary…
Я подняла голову и чуть язык вместе с откушенным тунцом не проглотила. Так, думаю, спокойно, парень, все нормально, ты – Мэри, я – Джон. Натянула профессиональную улыбочку, как здесь полагается, и спрашиваю свое традиционное и привычное, как мыло в туалете, могу-ли-я-чем-помочь, про себя уже понимая, что помочь ему не сможет даже опытный психиатр.
На первый взгляд – мужик как мужик, вроде и представительный, лет этак сорока: высокий, волнистые темные волосы с небольшой проседью, то, что называется «перец с солью», очки в массивной оправе, серые глаза чуть навыкате и крупный нос – красноватый, как бывает, когда парняга закладывает за воротник или, скажем, в разгар длительного насморка. Короче, нечто вроде укрупненного Вуди Аллена: такой мудаковатый симпатяга в сильно потрепанных джинсах. Но вот огромные, самоварного золота клипсы в ушах, и – поверх мужского свитера – бусы в три ряда, примерно той же стоимости, доллара два…
Вот такой незаурядный чувак предстал передо мной.
Явился он, оказывается, на «фэйшл», и я сразу успокоилась: мне один черт, чью морду мять, я профессионал, человек кирзовый, без сантиментов. Велела снять все побрякушки, уложила его на кушетку, начала процедуру…
Скажу тебе откровенно: вообще-то, нам не к лицу осуждать или там перебирать клиентов, мы в своем отточенном мастерстве должны быть покладисты и бесстрастны. Но эта, блин, офелия, с самого начала вызвала у меня какое-то… брезгливое отторжение. Понимаешь, я живу здесь почти четверть века, а это срок почище лагерного; необратимые процессы в мозгу, конечно, происходят, ибо бытие, как ни крути, наше сознание еще как обминает. Но все же насчет разных гендерных затей и прочих карнавальных забавок у нас, у советских, крепкая закваска и собственная железобетонная камасутра. Мы – люди, просмоленные комсомолом, и жить посреди гостеприимной чужбины с ее декларативной свободой морали предпочитаем, так сказать, старым казачьим способом.
К тому же, я терпеть не могу, когда во время процедуры мужики издают томные стоны. Лежи и молчи, козел, или храпи, черт с тобой, но не изображай здесь неземное блаженство, когда я на твоей морде прыщи давлю.
А этот придурок еще и выглядел совершенно запущенным: из тех, знаешь, что совсем не следят за собой. У него были крупные беспокойные руки, которыми он инстинктивно шарил в районе груди – как женщина, случайно застигнутая в момент, когда она лифчик натягивает. И время от времени он так панически вздрагивал, будто очнулся в подземке, и первая мысль: ах, станцию пропустил! «Боже, где я, кто это со мной?!»
И говорил, не умолкая, раздражая меня идиотскими вопросами: женственно ли он выглядит? Мне хотелось, как говорила покойная теть-Таня, «напхать ему по самые помидоры», прямо сказать: какая ты, к черту, женщина, ты – хрен моржовый! ты в зеркало на себя давно смотрел?
Но – клиент, ваше святейшество! – я культурненько так, можно сказать, виртуозно уходила от ответа, старалась перевести разговор в другую плоскость – чем, мол, занимаешься, Мэри, где работаешь? Хотя понимала, конечно: нигде он не работает, кому и на что он такой сдался. Но он вдохновенно принялся заливать мне о каких-то своих рецензиях в ревьью – по театральной, кажется, или киношной вроде бы теме, и продекламировал два своих стихотворения, таких же диких, как его клипсы. Я вежливо и уважительно поддакивала, раза три произнесла прохладное: «О?!» Интересно, думаю, а кто ему денежки на подобные сервисы выдает – мамочка? И как она себя чувствует при виде этих бус на крепкой мужской вые?
…А он, этот самый Мэри, разулыбался, разболтался… так что дважды я велела ему помолчать. Тогда, вытаращив глаза, он прижимал к губам указательный палец. Спросил, как меня зовут, и сказал:
– Я буду называть тебя Галè́н… тебе так нравится?
Господи, да называй ты, как хочешь, главное, заплати за сервис и чаевые добавь…
После процедуры пылко благодарил, прижимая к груди лапищи, сцепленные молитвенно, топтался вокруг меня и заискивающе улыбался. Видно было, не хотел уходить. Нашел родственную душу. Мялся, мялся и вдруг попросил накрасить его.
Я даже растерялась:
– Накрасить? В смысле… сделать макияж?
– Да-да! – воскликнул он. – Пожалуйста, настоящий макияж для настоящей леди. Пли-и-из, Галин, май дарлинг…
Ну, что ты будешь делать… Я увела его в уголок за занавеской, чтобы не пугать клиентов, усадила в кресло и минут двадцать разрисовывала, как бабу. Стоило посмотреть на это лицо, благоговейно запрокинутое под моими руками. На лицо, превращенное в нелепую маску. Рехнуться можно! Слышала бы ты этот разговор:
– И помаду… поярче, погорячее, а?
– Нет, это слишком вульгарно, Мэри.
– Ну, пожалуйста! Галин, май дарлинг…
– Господи, ты что, на карнавал собрался? Ты же такой утонченный… женщина…
И потом крутился минут пять перед зеркалом, украдкой репетировал разные выражения лица: то улыбался, то хмурил подведенные брови, то загадочно поводил своим длинным припудренным носом… Умора, да и только, я чуть не разревелась от жалости.
И когда вышел и проходил мимо огромного окна нашего салона, остановился и еще с минуту подглядывал за мной, будто проверяя мою реакцию на весь этот цирк. Да нет, не то, не так, все гораздо сложнее: лицо его напоминало партитуру какой-то сложной современной музыки – и гротескной, и трагической, и в чем-то издевательской… И молящей.
А я – ни гугу: стояла с нейтральным лицом у стойки. Листала журнальчик…
* * *
…Я так и думала, что ты заинтересуешься. Уж больно тема забористая, обоюдоострая…
Отвечая на твой вопрос, хочу кое-что уточнить. Не трансвестит, а транссексуал. Трансвеститы – это такой клубный планктон, где они в перьях-блестках-париках, а порой и в чем мать родила, пьют, танцуют, марихуанку пользуют – короче, расслабляются. И туда не только гомо-, но и гетеросексуалы наведываются: вот так скрутило мозги, что нравится мужику переодеваться в женщину, красить губы, ногти, парики трижды за вечер менять… Вечный такой Хэллоуин для испорченных детей. Ибо весело там, легко и свободно, по ту сторону морали, этой иссохшей подыхающей твари, что душит нас всю сознательную жизнь. Ты себе вообразить не можешь, какие неожиданные провалы в бессознательное сулит такая внезапная свобода.
…Другое дело – транссексуалы. Это – демоны, несчастные создания, которые не могут осознать себя до конца и несут по жизни свой тяжкий крест, вернее, два креста: женский и мужской.
Понимаю, что тебя могло заинтересовать в этом парне: тут старичок Фрейд загорает на крыше психоанализом кверху… Так вот, после того как в первый день знакомства я его разрисовала, Мэри стал у нас появляться.
Не регулярно, время от времени. То целый месяц его не видно, а то каждые три дня нос его этаким парусом возникает на моем горизонте.
Иногда звонил и звал меня к телефону, чтобы обсудить какой-то фильм – российский или про Россию. Это во время работы! В общем, делал вид, что мы подружки. Я же предпочитала держать наши отношения на уровне «мастер – клиент», чтобы он не вообразил какую-то особую доверительность. Понимаешь, как личность он меня совершенно не интересовал, я же, в конце концов, не психоаналитик, мне плевать, что за тараканы у клиента в башке или, там, в штанах бегают. Как мужик он вызывал одну лишь брезгливость, а клоунады в своей жизни я и так насмотрелась достаточно.
Но он, видимо, считал иначе.
В конце концов – смешно! – я даже как-то стала привыкать к нему. Иногда он специально записывался последним, и после работы я его раскрашивала, как бабу, а однажды – такой вот, измазюканный, как шлюха, вышедшая в тираж, – он увязался за мной до станции сабвея – якобы интересный разговор закончить. Представь мой брезгливый ужас… Хорошо, что в Нью-Йорке этого добра навалом, тут не знаю уж, как надо одеться и накраситься, чтобы прохожие на тебе задержали взгляд. Кстати, говорил он в тот раз о Тарковском, и довольно интересно, не банально так рассуждал. Не банально для американца – обычно они мало что смыслят в России.
Тут черт меня дернул обронить, что в Союзе я закончила факультет журналистики и какое-то время работала в газете. Он просто взвился от восторга: видишь ли, он чувствовал, знал, что мы – родственные души! Теперь все свои рецензии будет сверять по мне…
А я шла и думала: ну что, в твоей жизни появился очередной калека? Вот чего ты добилась своей безмозглой мягкотелостью…
* * *
…Так вот, Мэри, оказывается, давно говорил Наргис, что хочет сменить пол, даже мнением ее интересовался. Нашел кого спрашивать, мудила. Все, что ее интересовало в нем, – это его деньги. Разумеется, она отвечала, что из него наверняка получится очаровательная женщина. И он наверняка был счастлив это услышать.
К тому времени я уже была знакома с Генри.
Тут надо тебе сказать, что этот типчик – я имею в виду Мэри – при всей своей болтливости и суетливом желании «поделиться самым сокровенным с тобой, Галин, май дарлинг» не слишком-то распространялся о своей семье. Так, меля языком направо и налево по самым разным темам, обронит пару ничего не значащих слов о родителях. Однажды сообщил впробормот, что отец его был крупным бизнесменом, пока не свергли… шаха. Какого шаха, Мэри, бога ради? Иранского шаха Мохаммеда Резу Пехлеви, разве ты не знаешь… Далее идет увлекательная лекция о тридцать пятом и последнем шахе Ирана из династии Пехлеви, с кучей никому не нужных сведений, вроде валового продукта Ирана на душу населения (я не писала тебе, что у Мэри, в его заброшенной башке, содержится склад подержанного барахла, и в самые непредвиденные моменты он, как опытный старьевщик, принимается его извлекать и проветривать?); в общем, когда мы уже переходим к традиции персидского ковроткачества, я перебиваю: а при чем тут Иран? Да при том, легко говорит он, что папина фирма была основана с партнером, его близким другом Джафаром Курошем, с которым они когда-то учились на юридическом и которого расстреляли вместе с женой во время переворота…
– Как – расстреляли?! Когда? За что?
– Да вот так. Ты что, ничего не читала об Исламской революции 1979 года? Фирма папы и Джафара занималась оружейными сделками. К тому же, Джафар был каким-то родственником шаха. Ну, короче, там рухнуло все, но папе – он героически смелый человек! – удалось каким-то чудом в последнюю минуту вывезти из Ирана трехлетнего Генри (единственного сына Джафара), которого, опять же, героически прятали соседи. То есть, конечно, имя его тогда было не Генри, а Маджид, что означает «Благородный», но папе сделали хорошие документы, и он вывез малыша… А вот мама, которая, конечно, любила всех нас очень-очень, она не слишком-то приветствовала появление Генри в семье и сильно огорчалась, что отец разорен… И, словом… через три месяца уехала.
– Куда?
– Неизвестно. Может, куда-нибудь на запад. Сан-Франциско, Сан-Диего, Сакраменто… А может, и Флорида. Она любит… она… очень любила тепло. В общем, может быть, все это случилось вовсе не из-за Генри, и не из-за банкротства папы; просто у нее появился новый друг, и с тех пор никто из нас не знает, где она и что с ней…
Это я тебе пересказываю историю в более или менее связном варианте, а мне она выдавалась кусками, с оговорками, запинками, длинными меланхоличными паузами. Не говоря уже о том, что время от времени он просто исчезал на неделю-другую. Так что я, озадаченная его штучками, научилась вопросов не задавать.
Я уже писала, что приходил он под конец моего рабочего дня и просто таскался за мной по всем моим делам – в химчистку, по магазинам, на почту. У меня язык не поворачивался придумать причину, чтобы отчалить от этого прицепа. В какой-то момент я начала догадываться, что, возможно, встречи со мной и беспорядочные шатания остались единственной ниточкой, связывающей его с человеческим сообществом. И всякий раз мне хотелось сделать что-нибудь с его дурацким видом – например, сорвать с него потертую куртягу, поверх которой он наматывал какую-то странную шаль типа огромной серой арафатки. Но у меня свой кодекс поведения с моими калеками. Терпение и жалость. Терпение. Жалость. Их бин фон айзен!
Короче, мы просто гуляли. Но в дом к себе я его не пускала – понимала, что будет мне крышка: не дай бог, обоснуется навсегда на кушетке в прихожей, а раз угостив своим вишневым пирогом, я его и пинками не выгоню.
Похоже, к определенному возрасту я все же маленько поумнела.
Но таскалась я с ним по улицам иногда часа по три, обсуждая все, что на язык подвернется и что попадется на глаза. Знаешь, удивительно: когда он увлекался разговором, у него начисто исчезали все эти жеманные, якобы женские жесты, словечки, походка. Нормальным мужиком он, конечно, никогда не выглядел, в башке у него полно было патронов, но, скажем так, становился нормальным подростком. Таким здоровенным, долговязым, сорокалетним переростком. Думаю, в какой-то момент жизни он застопорился в эмоциональном развитии (подозреваю, в то лето, когда любимая маманя дала деру из разоренного дома в неизвестном направлении) и не захотел, не дал себе труда вырасти. Хотя искренне пытался встроиться в социум и иногда предпринимал какие-нибудь решительные действия. Например, закончил курсы собачьих парикмахеров и даже работал месяца три в одном собачьем ателье, пока его не выперли (за что? молчок и опущенные долу глаза за стеклами очков). Поэтому с таким уважением относится к моей профессии.
Можешь представить эти наши прогулки.
А я вспоминала свою теть-Таню и ее памятное: «Тебе что, нормальных не хватает?! Сама хочешь сдуреть? Смотри, от него отвалится, да на тебя свалится!»
И вот в один из дней, когда я уже и переоделась, и плащ накинула (торопилась в Бруклин-Хайтс к одной милой даме, отбывающей в Киев, хотела послать с ней денежку нашему соседу Вовчику – он уже много лет ухаживает за моими могилами на Берковецком), – словом, чуть ли не в дверях салона меня перехватил Мэри и, конечно, увязался за мной. Сначала я вспылила, хотела раз и навсегда скинуть наконец эту гирю. Потом глубоко вдохнула… Ладно, думаю, черт с ним, оставлю его постоять на улице, долго-то рассиживаться не собиралась: отдала деньги в дверях, большое спасибо, и дальше пошла. Между прочим, собиралась в спокойном одиночестве, как прежде, погулять там по улицам… Ну, с этим красавцем теперь какое одиночество! Я вышла и направилась к остановке. Мэри плелся следом, торопливо что-то рассказывая мне в спину.
Наконец, нырнули под дерево: дождик уже не накрапывал, а тарабанил по нашим головам и спинам. Стояли против одного особо шикарного особняка: цокольный этаж облицован кофейного цвета гранитом, дверь дубовая, с гранеными вставками цветного стекла, над ней портик с колоннами, бронзовый петушок над дверью, а сбоку – тот же петушок, но маленький – розетка звонка, – и такое изысканное кружево чугунных перил, что даже слишком витиевато, я бы построже сделала.
Стояли мы, стояли… а дождь разгулялся – ой-ёй.
Я рассказывала Мэри, как однажды с парашютом попала в БП – беспорядочное падение. Он слушал, то и дело в ужасе хватаясь за щеку: такой трепетный, просто смешно! Но случай и правда был исключительный – для меня. В том смысле, что исключительно счастливый.
– О, боже, боже… – повторяет Мэри, зажимая ладонью рот. Глаза вытаращены, клюв торчит – обезумевшая курица. – Ты такая смелая, я восхищаюсь тобой!
– Слушай, давай наконец отвалим отсюда, – говорю я ему. – Что мы прилипли к этому роскошному дворцу? Сейчас выглянут хозяева и погонят нас метлой.
А он так виновато:
– Не погонят, я… я и есть тут хозяин…
Ну, и тут открывается та самая шикарная дверь, по ступеням спускается величественная негритянка, разве что не в наколке, а в обычной дождевой куртке с накинутым капюшоном, и говорит:
– Хай, Джонатан, ты очень вовремя: Генри скоро проснется, надо его покормить. Обед я оставила на плите. Часа через полтора придет Кеннет его купать, так что покорми заранее. А я, как обычно, завтра к восьми. Бай!
И, даже не глядя на меня, мощно продефилировала всей своей массой к припаркованной неподалеку красной «Тойоте».
И этот самый Джонатан… в смысле мой… моя Мэри, инвалид мой, прицеп мой бесплатный в зашорканной куртке, в наверченной по самый нос бабьей шали, засуетился, зарделся, стал умолять меня зайти познакомиться с Генри.
Как тебе этот поворот сюжета в духе ничтожных мюзиклов, цена которым – сезон в провинции?
Но именно так я попала в один из домов, о которых только мечтала: заглянуть в приоткрытую дверь, увидеть уголок прихожей…
Интересно, что, попав в этот их дом, я больше смотрела не вокруг, а на Мэри – во-первых, потому, что была потрясена превращением собачьего парикмахера, придурка-недоросля, недоделанной недобабы в… некую, скажем так, персону; я даже не понимала, как сейчас к нему относиться и как с ним себя вести. Во-вторых, он так нелепо, неестественно выглядел в пространстве этого дома, так неловко двигался, точно не я, а он впервые сюда попал. Что-то деятельно бормотал себе под нос, открывая и закрывая дверцы шкафов и рыская на полках в холодильнике.
Наконец выпрямился и жалобно так:
– Галин, май дарлинг… Не могла бы ты что-то найти тут для нас поесть?
– А разве обед не на плите? – спрашиваю. – Вон там, за твоей спиной?
Он обернулся и руками всплеснул:
– О, боже, да. Это ж надо! Удивительно!
В общем, все было более чем удивительно, и это еще мягко сказано…
А кухня там оказалась замечательная: не суперсовременная, как можно было предположить, а добротная деревянная, годов пятидесятых прошлого века, с прекрасной чугунной плитой и целой коллекцией сверкающих медных ковшиков-половников на стенах. Все – настоящее! На плите в старом казанке томилась баранина с овощами, а в кастрюле исходил горячим паром настоящий куриный супчик, да такой, какой я у мамы только и ела.
Я обратила внимание, что посуда – тарелки-вилки-ложки – была самая примитивная, чуть ли не пластиковая, из супермаркета, но вопросов задавать не стала; поняла все гораздо позже и позже тебе расскажу. А пока мы с Мэри сидели и наворачивали супчик за милую душу. Очень он кстати пришелся: у меня день вышел плотный такой, многолюдный, пообедать не получилось. Ну, и под дождем-то мы намокли прилично, так что навернули по полной тарелке, а потом принялись за баранину. И скажу тебе, эта черная тетка знала в баранине толк: и розмарин положила, и базилик, и пряную зиру, и майоран. Главное, много луку. Запомни: баранина требует горы лука.
Вот тогда на сцене и появился Генри. Написала эту фразу и думаю: какая, к чертям, «сцена», что за чушь! Просто спешу все тебе рассказать, а под руку, как обычно, первыми подворачиваются самые стертые слова.
Короче, поели мы и решили глянуть, не проснулся ли Генри. Комната, где его держали, была на том же этаже, рядом с кухней, чтобы сиделкам недалеко бегать.
Мэри заглянул туда и воскликнул:
– О, мы проснулись! Галин, иди, посмотри на нашего дорогого Генри!
На нашего дорогого Генри… Ну я и пошла смотреть.
Вот тут не знаю, какие слова подобрать, даже теряюсь. Как увидела я эту беду…
Потом, уже дома, пробурив насквозь интернет, я кое-что уяснила: эта болезнь, которая у Генри, – та же, что у Стивена Хокинга; называется болезнью Шарко или болезнью Лу Герига. Неизлечимое, медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы: паралич, атрофия мышц и все такое. Ну, ты помнишь фотографии Хокинга, да? Теперь представь его же, только гораздо моложе и темнее – и лицом, и цветом волос. Вот это и есть Генри.
И он улыбался, знаешь. Лежал на такой спецкаталке медицинской и приветливо улыбался, насколько это позволяла гримаса свернутого набок лица. А я пыталась вообразить, какой это был замечательный парень до болезни. Тоже занимался физикой – Мэри потом объяснял, я-то в этом не слишком разбираюсь, кажется, не совсем физика, а астрофизика. Успел сделать докторат и получить степень в NYU, его даже пригласили преподавать на кафедру астрофизики. Тут болезнь и навалилась, лет пять назад. И стадия сейчас – будь здоров какая тяжелая.
В принципе, руки у него еще работают – но медленно и не все пальцы. Он еще как-то щелкает по клавиатуре компа. А вот голову надо держать таким воротником медицинским, поролоновым. И говорит он с трудом и неразборчиво. Мэри его стопроцентно понимает и, если требуется, переводит сиделкам просьбы и желания. И сидит при Генри практически все время, покидая дом иногда, вечерами – вероятно, когда появляется у нас в салоне.
В общем, радость моя, этот их «дорогой Генри» – уж калека так калека! Настоящий калека, без дураков. И вопросов к этой ситуации у меня появилось множество.
– А… отец-то где? – спросила я Мэри. – Что отец?
И он, бедняга, аж позеленел и отшатнулся. Разве я тебе не говорил, пробормотал укоризненно, что папа погиб в автокатастрофе… давно. Сразу после того, как мама уехала.
Я молча смотрела на этих несчастных детей. Один бубнил что-то и прятал глаза и руки, другой улыбался и тоже пытался что-то бубнить.
Папаня-то, если я правильно поняла после расспросов, врезался на своем автомобиле в какую-то стенку. Среди бела дня, где-то за городом, абсолютно трезвый. Чувак почему-то свернул с шоссе и с какого-то бодуна врезался в кирпичную стену заброшенного предприятия. Мэри утверждает, что отец «просто заснул за рулем» и что это «случайная трагедия». Допустим. Допустим, случайная. Хотя мне-то уж не знать, как это манит: свернуть с дороги и расплющить о подвернувшуюся стенку свою непереносимую боль. Я в свое время даже машину продала, чтобы не соблазниться таким легким поводом к встрече с Саньком.
Тогда я села на стул у кровати и стала рассказывать про аэростаты. Все время обращалась к Генри – мол, ты-то понимаешь, как и на чем это работает, да? Мы летим на балансе: подъемная сила… разница давления внутри и снаружи оболочки шара…
Он неподвижно улыбался ужасной гримасой – длиннейшие прекрасные ресницы! – я улыбалась в ответ. Рассказывала, как летала над горами Аризоны, над снежными пиками Колорадо. Обещала, что непременно покатаю его на воздушном шаре. Тут до хрена этих компаний, и желающих покататься достаточно.
– А разве нас… возьмут? – спросил Мэри, испуганно-радостно глядя на Генри. И я немедленно стала уверять, что возьмут-возьмут, тут никаких ограничений, и стариков берут, и всяких-разных… нестандартных пассажиров. Такие корзины есть специальные – с дверцей в стенке. Вкатим туда коляску… А сам аттракцион – привязной: шар удерживают двумя-тремя фалами, которые крепятся к машинам. Однажды я видела, как при сильном порыве ветра привязанный шар потащил за собой и поднял в воздух здоровый джип! Так что не боись: шар медленно поднимается, зависает на высоте метров пятьдесят… ну, и минут десять висит себе, радуя пассажиров.
Сниму минивэн, сказала я бодро, вкатим туда кресло… наймем пилота. Да к черту пилота! – что я, сама не справлюсь, что ли? Это недешево, снять целый шар на маленькую компанию, но мы справимся.
– Мы справимся! – подхватил Мэри с энтузиазмом. Говорю тебе: ему раз и навсегда исполнилось четырнадцать лет.
Словом, мне уже было как-то не до их богатого дома, который внутри оказался совсем не богатым – в смысле обстановки, – хотя и просторным, с высокими потолками, с лепными карнизами, с великолепными вишневыми перилами лестниц того же возраста, что и кухня…
Чуть позже, когда явился Кеннет-филиппинец, сменная сиделка, и мы покинули Генри, я строго допросила Мэри, не давая ему свернуть в сторону и морочить мне голову.
Пересказываю кратко, так как к делу это не слишком относится и тебе мало чем пригодится. Значит, так…
После того как отец (героически смелый человек!) так малодушно распорядился своей жизнью и пацаны – и родной, и сиротка, привезенный с другого конца света, – остались бесхозными, в картинке нарисовалась бабка. Она и раньше с ними жила, но, как говорится, судьба поставила ее перед фактом, и она вынуждена была вникать, хотя не слишком-то горела заниматься этим детским садом.
Между прочим, она еще жива, ныне пребывает в богатейшем доме престарелых, где у нее уютные апартаменты и квалифицированная обслуга. Полагаю, выдает мальчикам на жизнь – если не спятила там окончательно – какие-то приличные деньги. Но главный капитал они должны получить после ее смерти и тоже не полным куском, а в виде ежемесячных выплат под недреманным оком целого взвода адвокатов. Короче, старуха не промах, но Мэри, святой балбес, отзывается о бабке не иначе как о «милой нашей старушке».
Насчет «милой» старушки, и тоже в двух словах: биография у бабки нехилая. Родилась уже здесь, в семье эмигрантов из России; к тому времени у ее папани была налажена торговля всяким пыльным старьем. Не то чтобы утиль, говорит Мэри, но одежда и обувь даже не со вторых, так сказать, а с третьих рук. Девочка росла шустрая, рукастенькая, сообразительная: и папане в лавке помочь, и братикам сопли подтереть, а попутно выискивала проволочки-ленточки, вырезала из старья красивые лоскутки, мастерила миленькие цветы на шляпки и платья. Подросла и нанялась в соседнее ателье к мадам Шапиро – «Изысканные европейские фасоны» – то же старье, но не столь позорное.
Годам к двадцати трем эта леди уже купила собственную пошивочную, а к середине жизни владела и командовала лично – никому не доверяя! – дюжиной салонов дамской одежды, для жилья прикупив в богатом районе города тот самый особняк, где и обитают сейчас Генри и Мэри. Бабка, я поняла, еще вполне ничего – ходит, правда, с ходунками и слегка путает времена и внуков, но насчет денег строга и неумолима: по ее завещанию внуки так и будут получать приличные суммы на жизнь. На жизнь, а не на университетские проекты Генри и не на идиотства Джонатана – интересно, знает ли великая бабка, что этот тип всюду представляется как Мэри? Возможно, и знает – судя по тому, что позаботилась о сохранности столового серебра и немалого антикварного имущества, заблаговременно свезя его в хранилище подобных ценностей.
Нет, все же я рассказываю тебе не с того конца. Хотя конец маячит в недалеком будущем: Генри уже сейчас в тяжелом состоянии, а в ближайшие полгода-год, как поведал мне интернет, можно ожидать «поражения дыхательной мускулатуры и затем смерти от инфекции дыхательных путей». Так что с катанием на воздушном шаре следует поторопиться, пусть даже он и уйдет в вышине. Не худший способ вознестись.
Само собой, он обихожен сиделками – ночными и дневными, и опытным медперсоналом, но… Дальше вступает Мэри: но, как ты понимаешь, наш Генри лишен женской ласки… Он натыкается взглядом на мое недоуменное лицо, вскакивает и начинает мотаться по кухне, бурно жестикулируя, путаясь в доводах, запинаясь. Впадает в рассуждения – самого разного, иногда противоположного свойства.
– Понимаешь, – говорит он, – я просто хочу, чтобы рядом с братом была достойная женщина. Не для секса, ему это не нужно.
– А для чего? – прямо спрашиваю я, не сводя сурового взгляда с его мельтешащей фигуры: бывают такие слишком быстро выросшие подростки, которые никак не могут приспособиться и привыкнуть к своему новому телу.
И он сникает, опускается на стул, мнется, прячет лапы между колен, застенчиво пожимает своими прилично развитыми сутуловатыми плечами.
– Но женское общество – это не только секс… – произносит он укоризненно, умоляюще на меня глядя. – Это обаяние гораздо более тонких, более глубоких отношений…
И переводит взгляд на обшарпанный комод, явно привезенный со склада «Армии спасения»: там стоит фотография здорового Генри, в белых шортах и майке, с клюшкой для гольфа; он обвешан сразу тремя девицами – плейбой и везунчик, и, что там говорить, красавец.
Короче, Мэри, этот самоотверженный идиот, решил предоставить брату женское общество в своем лице.
Такое вот диковинное извращение. Чего на свете не бывает.
Можешь на это не отвечать, я довольно точно воображаю твою реакцию и даже выражение лица…
* * *
…Словом, Мэри исчез на довольно долгое время. Сначала я не обратила внимания, на работе были напряженные недели. Но время от времени задумывалась – не нагрянуть ли к ним просто так, проведать мальчиков. Может, настолько вдохновилась этой идеей – поднять в небо Генри, да и самой подняться, спустя столько лет?
Мэри вдруг сам позвонил и трепещущим голосом (в салоне опять полно было народу, колготня, щебетня, клиентки одна на другой, но я по интонации определила: свершилось! – такой, знаешь, торжествующий полуобморок) объявил, что он «уже один из нас» и скоро придет показаться.
У меня почему-то в глазах потемнело, я даже на стул опустилась. Хотела сказать: «Не приходи!» – но не сказала. В конце-то концов, кто я ему такая, чтобы сцены устраивать, да еще после всего, что он над собой сотворил.
Прошло дня три, и где-то в полдень открывается входная дверь…
Наша Васанта, которая вечно берется чинить испорченные приборы, сидела на корточках, возилась с поломанным принтером. Я успела нагнуться и подать ей знак, чтобы она держала себя в руках.
Впрочем, когда он вошел, я ни капельки не удивилась: именно таким я его себе и представляла, такой вот Хайкой-Балалайкой. На голове парик, как у мамаши религиозного семейства из Бруклина, а все остальное без изменений. Та же куртка, та же махристая шаль. Он близоруко щурился, обводя взглядом присутствующих, и у Ольги – та рядом оказалась – робко поинтересовался, где может меня увидеть. Понимаешь ли, он меня, с понтом, не узнал, как будто это я сменила пол, а не он. Я удержалась, чтобы не спросить, уж не поменяли ли ему по ошибке мозги вместо чего другого, но вовремя спохватилась и с ледяной улыбочкой двинулась навстречу, чтобы дать впечатлительной Васанте минуту прийти в себя.
Ах, говорю, Мэри, это ты, как давно мы тебя не видели и как прекрасно ты выглядишь!
– Тебе нравится мой парик? – спросил он.
– Я бы убрала челочку слегка набок, – ответила я.
Вообще-то у него на башке бросались в глаза только нос-паяльник и придурочный парик, сидевший, как папаха. Впрочем, обычная его двухдневная щетина на физиономии куда-то исчезла, и на линии груди появилась некая приподнятость, будто вспахали борозду на каменистом поле. А во всем остальном он продолжал походить на обычного мужика: волосатые руки, одет в свои старые мужские джинсы – короче, пугало огородное. И это после всего, что он прошел! Страшно представить, сколько здоровья все это ему стоило; гормональные таблетки небось пожизненно будет принимать, а про деньги я уже и не говорю. Интересно, кто ему денег выдал на этот проект, – уж не бабка ли.
Он держал обе руки на уровне груди, как бы в волнении, складывал их лодочкой и поводил перед собой, точно какая-нибудь стеснительная дева. Немедленно сообщил мне, что уверовал в Бога «всем своим женским сердцем» и стал членом местной синагоги. Я тут же подумала, что рабай этой синагоги наверняка хороший бизнесмен: уж как ломанутся сейчас прихожане, чтобы поглазеть на это ухрёпище несусветное.
Да-да, со мной бесполезно говорить о религии – о любой религии. Меня тошнит – помнишь, как у Хармса: «Нас всех тошнит». Вера – то дело другое, это я понимаю; когда человека везут на каталке в операционную или, что еще страшнее, на этой каталке везут его ребенка, а он серыми губами шепчет: «Господи, Господи, спаси его, умоляю, Господи!..» – это, я понимаю, вера. А когда священник или там раввин, или кто там – далай-лама, мулла, мушмулла и еще какой-нибудь хрен моржовый, святой служитель, учит меня смирению и приятию всего дерьма этой проклятой жизни – нет уж, извините, с этим дерьмом я разберусь сама.
Так вот, Мэри явился показаться.
Явилась она, значит, показаться-покрасоваться…
Еще поприставал ко мне со своим «как я выгляжу», и всякий раз я заверяла его, что выглядит она очень феменин. Отчаянно хотелось реветь и материться.
На прощание подала ему руку.
Он схватил ее и потянулся целовать, но вовремя спохватился, что делать этого не стоит, – ведь он теперь настоящая женщина. Потряс мою руку и ушел.
Бедная Васанта стояла онемевшая – сильно впечатлилась. Меня это почему-то привело в ярость.
– Ну что, что-о-о?! – заорала я. – Чем тебя так парализовало? Мало ты этого дерьма нажралась в данном заведении?
Придя в себя, она стала с вытаращенными глазами горячо благодарить меня, что успела подать ей знак, а то, увидев его, она бы… «ой, не знаю даже, что б я сделала… Несчастный, несчастный парень… Такой был симпатичный…».
Да ничего бы ты не сделала, балда, подумаешь – фокус, в наш-то век лукавых оборотней и выдающихся достижений генной инженерии.
На другой день Мэри опять позвонил, потребовал меня к телефону, чтобы спросить еще разок – ну как, все-таки, как она сейчас выглядит? И я лучезарным голосом терпеливо заверила его, идиота, кретина, осла безмозглого! – что выглядит она очень женственно и элегантно, и… да пошел ты к черту, калека, калека, калека! (это уже мысленно, повесив трубку) – раз и навсегда послала его по старинному, добровольно им утерянному адресу…
* * *
…Сегодня посреди рабочего дня в салон заявился Мэри. Мне показалось, что он (она?) немного похорошел(а). Пришел за красной помадой. Тот же дикий парик, те же потертые джинсы, но появились сережки белые, под жемчуг. Голос, впрочем, прежний, вполне густой баритон. Ни черта не понимаю – как там действуют эти гормональные препараты! Вот руки, крупные и мужские, были красными, как клешни у рака. Видимо, пытался убрать волосы лазером.
К счастью, и Наргис, и Васанта занимались клиентами, а то бы слетелись на эту картинку – поглазеть на переделка-недоделка. Мне было тошно так, как если б вдруг я увидела, что калека, который до сих пор передвигался сам, хоть и с палочкой или костылем, вдруг навеки пересел в инвалидное кресло. Но я изо всех сил старалась быть «найс, найс, найс», черт побери!
– Я тебя порадую, Галин, май дарлинг, – сказал он. – Ты будешь просто счастлива услышать, что я устроился волонтером в магазин подарков.
– О, это прекрасно! – ответила я, улыбаясь как ненормальная. Все было кончено с этим несчастным придурком. Все было кончено!
Сегодня он походил на неприкаянную еврейскую кобылу средних лет, которая изо всех сил старается выглядеть женственно и привлекательно в своей последней надежде на замужество. Кстати, его грудь увеличилась за это время раза в два. Меня даже подмывало спросить, как за такой короткий срок ему удалось отрастить такие аппетитные сиськи. Потом сообразила, что, скорее всего, это протез. Здесь такого барахла в магазинах навалом. Он купил красную помаду и тут же, подойдя к зеркалу, накрасил губы. Для его ортодоксального вида эта помада была слишком яркой, но я не стала делать ему замечаний, только сережки похвалила. Хотелось, чтобы он уже свалил отсюда навеки, дабы никто из нормальных клиентов не заподозрил, что мы с ним знакомы.
Наконец, он собрался уходить.
– А как там Генри? – спросила я в спину.
Он мгновенно вернулся, рухнул в кресло, вытянув вперед свои длинные ноги совсем не женским манером.
– О, Генри – замечательно! – воскликнул он. – Генри счастлив, что я так чудесно выгляжу и что наконец наш дом озарен присутствием настоящей женщины.
Клянусь тебе, он так и сказал: «озарен» и «настоящей женщины». Я почувствовала странную дурноту и сказала:
– Ну, прости, что задержала… Ты, вероятно, торопишься.
– Да, я тороплюсь – к нему, моему Генри! – и вскочил. – Хорошо, что напомнила: Клара ведь совсем не может управляться с кислородным аппаратом.
– А что, – спросила я, – Генри полностью перешел на принудительную вентиляцию?
– О да. – Он задумался на мгновение и спросил с озабоченным видом: – Но ведь это не помешает нам прокатиться на воздушном шаре? Генри очень надеется.
Понимаешь, этот наивный подросток, кажется, не понимал, что его брату жить осталось всего ничего. Ну, а я просвещать его на эту тему не собиралась.
В общем, погарцевал он передо мной еще минут пять, на прощание протянул руку и пожал. А через час позвонил, передал привет от Генри и принялся вновь допрашивать меня, вытягивая душу: как он все же, на мой взгляд, выглядит? И вновь я его заверила, что каждый раз, как я его вижу, он выглядит все лучше и лучше. Все женственней и элегантней.
– Ты так ко мне добра! – взрыднул он и со словами «Год блесс ю!» повесил трубку.
И я вспомнила, что, выйдя из салона и проходя мимо наших витрин, он украдкой смотрел на меня, пытаясь захватить врасплох: не смеюсь ли над ним. А я совсем не смеялась, мне выть хотелось от жалости и от странной злости на себя. Но я сохраняла вполне прохладное выражение лица…
* * *
В общем, недели две назад, когда последняя клиентка у меня задержалась до девяти вечера, я в салоне осталась одна – это часто случается. Все девочки давно по домам отправились – им-то есть к кому спешить, – а я так даже люблю эту тишину, вечерние огни за окном и освещенный свой кабинет, пустой от клиентов. Как обычно, сделала кассу, переоделась, выключила свет… Выхожу, запираю дверь и чуть не спотыкаюсь о какого-то бродягу на ступенях.
Наклонилась, вгляделась в него и просто окоченела: Мэри. Сидел на ступенях, сгорбившись, тихо качался. И несло от него густым запахом немытого тела, пота, мочи, какой-то мокрой селедки… И был он без парика, без сережек – и без груди! Был таким, каким я его впервые увидела. И раздетым – в такую-то холодрыгу! Я потрясла его за плечо, спросила:
– Мэри, ты что, Мэри? Что с тобой?
Он не отвечал, сидел, трясся, раскачивался.
Я подхватила его под мышки и потянула со ступеней. Но он обвисал в моих руках и валился опять, как-то странно подскуливая. Я понять не могла, что с ним: накуренный ли он, пьяный ли, больной… или просто не ел несколько дней? И куда его везти сейчас – к нему домой? В приемный покой какого-нибудь госпиталя? Или вызвать амбуланс и отправить в психушку?
Трясу его за плечи, повторяю как заведенная:
– Что с тобой? Что случилось? Мэри?!
Наконец он выдавил:
– Генри умер… И лежит там… И я не могу вернуться уже много дней…
После чего горько зарыдал, как ребенок, затряс головой и сидел так на холодных ступенях, раскачиваясь, обхватив руками колени.
А я стояла над ним, не зная, как подступиться. Вот оно что. Вот, значит, что случилось… Ну, конечно: только ребенок и мог настолько растеряться перед лицом давно ожидаемой смерти.
Надо было немедленно его поднять и где-то напоить горячим. Но как и куда его тащить в эдаком виде? Ни в одно приличное заведение нас бы просто не пустили. Я огляделась…
Все магазины, все лавки уже были задраены рифлеными жалюзи, и только напротив, в дымных глубинах ночной бильярдной, в странном замедленном танце, с киями в руках переплывали зеленое поле бильярдисты.
Я выскочила к проезжей части, подняла руку, и когда минуты через две возле нас остановилось такси, приоткрыла дверцу и сказала шоферу:
– Друг! Помоги, друг, братан заболел…
Таксист, маленький латинос, вытянув шею, пытался разглядеть Мэри – тот по-прежнему сидел на крыльце.
– А он не буйный? Не попачкает мне?
– Что ты! – отозвалась я. – Он смирный, только болен и огорчен…
Ну, вышел он, подхватили мы с двух сторон «братана», запихнули его кое-как на заднее сиденье – тяжелым, сволочь, мужиком оказался эта несчастная баба! – я привалилась рядом с ним, крикнула водителю свой адрес, мы поехали. И всю дорогу Мэри плакал в мои колени так горько, так безутешно, повторяя, что вот, не покатали мы Генри на шаре… не покатали на шаре… А я молчала и думала: замечательно, что он плачет, это гораздо лучше оцепенения, в котором он пребывал до того… не знаю уж где и сколько дней. Пока доехали, он слегка ожил и даже сам вышел из машины, и к дому брел, хотя и с моей помощью, но на своих двоих, а то и не знаю, что б я делала.
В лифте рядом с ним невозможно было стоять: этот запах просто валил с ног. Интересно, по каким помойкам он бродил, где спал… или не спал вообще? И почему не искал меня раньше – простить не мог, что я бросила их обоих? Господи, какой психоаналитик способен проникнуть в этот взбудораженный мозг и что-то в нем понять…
Сначала я собиралась оставить его на лестничной клетке, вынести какие-нибудь свои спортивные шмотки и предложить переодеться тут, чтобы не тащить в дом всю его вонючую рвань. Но он просто на ногах не стоял, бедняга. И я заволокла его в прихожую, сама стащила с него бутсы и куртку, выдала полотенце, запихнула в душ.
– Не выйдешь, – сказала, – пока не вымоешься. Намыливаться трижды!
А сама спустилась на второй этаж и позвонила в дверь к соседу Юре. Он был при деле, кухарил. Вышел ко мне в фартуке – щека в муке.
– Юр, – сказала я. – Одолжи одежку. Трусы-штаны-носки, майку какую-нибудь… свитер… Я потом постираю, отдам.
– А что, – спросил он, – алкаша подобрала?
– Точно, – говорю, – алкаша.
– Зайди, пошуруй там в шкафу, – сказал он. – Я пацанок кормлю. Бухнул в оладьи столько муки, они как камни. Вон, сидят, красавицы, носами крутят.
Я, конечно, первым делом наведалась в кухню, нажарила им на скорую руку оладушек воздушных, как облачка; чего уж там, мне забава на десять минут, а девчонки расцвели.
Когда поднялась к себе с охапкой шмоток (это я хорошо придумала, они с Юрой примерно одной комплекции), открыла дверь и вошла, я чуть все вещи на пол не выронила. Так и стояла, и смотрела в открытую дверь спальни.
В моей постели мертвецким сном спал голый мужик. Растянулся навзничь и спал как бревно. Полотенце, которым он себя обвязал, сползло, обнаружив все то, что и должно быть обнаружено у нормального мужика между ног. Полный комплект, все на месте, ничего не забыто матушкой-природой. Значит, так и не смог поднять на себя руку, вот ведь счастье какое.
Я достала из шкафа одеяло и накрыла его. Знаешь, этот придурок был хорошо сложен: длинные ноги, ни намека на живот, развитая грудная клетка. Все было отпущено, что полагается, этому… Мэри.
Потом я села на телефон и затеяла собственное расследование. Довольно долго возилась, разыскивая по справочной номер роскошного заведения, где процветала бабка, так вовремя удалившаяся от двух своих несчастных внуков; путано объясняла кому-то там ситуацию, и мне терпеливо объясняли в ответ, что «миссис Кремински» уже отдыхает, а у них не принято будить пациентов среди ночи. Но мне могут дать телефон, по которому… И я опять звонила по цепочке телефонов… Наконец, разыскала домработницу, ту толковую черную даму, Кларой ее зовут, очень приятно, – уверенная сильная баба, какой она и показалась мне в первый раз. И ситуация стала проясняться.
Да, Генри, бедный мальчик, скончался пять дней назад, и поскольку Джонатан (тоже бедный мальчик, вы бы слышали, как он кричал-убивался!) убежал и до сих пор мы не знаем, где он, то она сама сделала все, что полагается в таких случаях: позвонила лечащему врачу и 911. А полиция уже вызвала ритуальную службу, и Генри увезли в funeral home, где он, собственно, и дожидается кремации. Разумеется, вечно ждать он не может, но, понимаете, Джонатан всегда говорил, что человек должен быть похоронен по ритуалу веры, в которой рожден… Может быть, вы не знаете, Генри – иранец, и значит, по обычаю ислама… Но тут опять затруднения: нужен гассал, это тот, кто обмывает тело, нужен мулла, саван… К тому же, мы опоздали, у мусульман хоронят в тот же день. Но Джонатан… ах, если б вы знали, мэм, как я волновалась, когда он пропал, я просто ночей не спала и уговаривала миссис Кремински обратиться в полицию…
– Миссис Кремински, – добавила Клара, – она сказала буквально следующее: «Мы не можем ждать, пока этот идиот просрется. Может, сейчас он вообще наблюдает миграции перелетных птиц! Надо кремировать Генри и дать его душе покой, и точка!» Но… дорогая мэм, я знала, что Джонатан НЕ наблюдает полеты птиц, он страдает… И сейчас просто счастлива узнать, что с ним все в порядке. Передайте, что Клара его любит, передайте, что я приготовлю ему баранину, пусть только вернется поскорее. Ведь завтра мы кремируем бедного Генри, и нам уже не до муллы и не до ритуала, все оказалось так сложно…
И я стала вертеть в башке и прикидывать какие-то варианты жизни на ближайшие месяцы, пока эта… ну, тот, кто спал в моей постели, как-то не придет в себя. Я поняла, что впрягаюсь в привычную колею, что все в порядке: при мне мой калека, которого надо как-то ставить на ноги и вправлять ему его подростковые сорокалетние мозги. Я вспомнила, что у Юрки в подвале есть такая складная дачная кровать, которую лет пять назад он безуспешно пытался кому-нибудь сбагрить. Вот и пригодится – на ночь раскладывать ее вдоль окна в гостиной. В крайнем случае, поспит мой пассажир в прихожей на кушетке, хотя она ему и коротка.
И время от времени я заходила в спальню посмотреть на Мэри. А он все спал и спал, не меняя позы, с закинутой рукой, как будто плыл издалека; как будто всплывал из недр чьей-то чужой жизни, к себе всплывал, не в силах прорвать последнюю пелену сна…
В окне на пустынном бордвоке горели желтушные фонари, ветер юзом гонял по деревянному настилу змейки сухого песка. Начался дождь, взъерошил черную воду залива. Пенные глыбы волн обрушивались на черные глыбы волнорезов, а далеко-далеко на горизонте мигали огоньки какого-то сухогруза на рейде, чудесно преломляясь в стеклянном шаре на моем подоконнике.
Я опустила глаза и вдруг встретилась глазами с проснувшимся Мэри.
По выражению его лица поняла, как ему тошно и как он страдает. Видно, ощутив на себе одеяло, понял, что я все знаю и все просекла – и про его идиотства со сменой пола, и про малодушие и болтовню, и про то, что не только посторонние люди, а и сам он никак не определит, кто же он, собственно, такой, мудила годков за сорок?
– Галин, май дарлинг… – пробормотал он, виновато и обреченно зажмурившись, как будто ожидал, что я его ударю. И лицо обеими руками закрыл – ну, смех и грех!
Я вздохнула.
Мне вдруг пришло в голову, что…
Знаешь, однажды я читала интересную статью про таких вот людей, мужчин и женщин, которых принято называть асексуальными, то есть не испытывающими влечения вообще ни к какой особи. Они и сами не могут в себе разобраться, и всю жизнь так и живут одинокими никчемными сколками рода человеческого. И что, оказывается, неправильно – смириться с этим, неправильно опустить руки. Это и правда сбой в программе, недогляд природы, забывшей научить человека сексуальному влечению. Мы-то все рождаемся уже обученные, уже с этой программой внутри, только запускается она позже. А у них, у таких вот мэри, заблудившихся в именах и понятиях, программа не запускается, ибо нет механизма, нет кнопки запуска. И тогда…
…Тогда надо запустить ее вручную; потрудиться надо, терпеливо обучить их стремлению к любви – вот как Оливия учит слепоглухонемых обратиться к этому миру, не отвергать его, сказать ему наконец привет. И, может быть, это – самое милосердное, что можно сделать.
Я вспомнила, что читала об одной женщине, которая даже открыла фирму для таких вот несчастных мужиков, сорокалетних и пятидесятилетних ничейных мальчиков. Их обучали милосердные бабы, которых назвать проститутками просто не повернется язык.
Ну вот, сказала я себе, считай, что перед тобой тяжелый, но не безнадежный случай. Пусть это будет процедурой, таким вот очередным бразильским бикини, что ли. Вытащи его из темноты, в которой он тычется во все углы, не понимая, что делать со своим телом и своей душой. Давай, окажись хоть кому-то полезной. Помоги же ему. Спаси его! – ведь, кроме тебя, у него – никого на свете.
И – я разделась, откинула одеяло и легла к нему.
Он вздрогнул – сильно, всем телом, как проснувшийся испуганный ребенок; и с той минуты дрожал, не переставая.
– Не бойся… не бойся… – шептала я, обеими руками поглаживая его, как на сеансе массажа; разогревая и расслабляя мышцы, пока его кожа не разогрелась, как жаровня. – Не бойся, я тебя научу… Ты мужчина, у тебя все на месте, Джонатан. Ты – мужчина… Тихо, перестань дрожать… Ты научишься… Ты привыкнешь… Я покажу, как надо…
* * *
Нет, моя дорогая, конечно, я не стану шокировать тебя подробностями. Да и какие там подробности, бог ты мой… Можешь и сама все представить. Это как учить человека ходить после тридцати лет пребывания в коме. Скажу лишь, что работенка была не из легких, ничего триумфального. И он долго не верил, бедный, и долго боялся: сделать первый шаг – боялся… Но: их бин фон айзен, и перед рассветом, когда он все-таки мне поверил и я, совершенно измученная, наконец, овладела ситуацией… неплохое словцо для эротической сцены, а?
Потом он сотрясался от слез, выкашливал спазмы в горле, каждую минуту вскакивал и бежал на кухню пить, и громко пил там воду прямо из крана, и возвращался, и будил меня, обнимал, прижимался ко мне всем благодарным уже мужским телом, которое я, как Пигмалион, создала буквально полчаса назад. И боже ж ты мой, как я хотела спать! «Иди, поешь… – бормотала я, засыпая. – Там… поищи в холодильнике…» Мечтала хоть на минуту провалиться в милосердную пустоту, хоть минуту не быть… А он все говорил, говорил без остановки, как декламировал: взахлеб, громко и торжественно. Я засыпала… просыпалась… он все продолжал обсуждать будущее: теперь, когда я настоящий мужчина и мы всегда с тобой будем вместе – до смерти, до самой смерти, Галин, май дарлинг…
* * *
В общем, трудные, хлопотные это были дни. Не хочу нагружать тебя всеми печальными и обстоятельными деталями кремации и похорон, тебе для работы это просто не нужно (а если вдруг понадобится хоронить какого-нибудь литературного покойника в местных декорациях, я отдельно опишу тебе все стадии погребальной культуры империи Великой Предусмотрительности – тут есть чем восхищаться и есть от чего торопеть).
Лучше расскажу, как заставила Джонатана поехать к нему в Бруклин-Хайтс, вытащить на свет божий его лохматый парик, лифчик с накладными сиськами, все эти чертовы потаскушьи мазилки и наглядно выбросить в мусорный бак. Проинспектировала там все шкафы и обнаружила, что ему буквально нечего надеть, все тряпки его – какой-то полумужской, полубабский бомжатник, а вещи Генри ему малы, да и не нужно ему эти вещи носить, плохая примета. Короче, пришлось потащить его по магазинам.
Собственно, все шмотки сейчас можно заказать по интернету. Выбор огромный, посылку доставляют чуть не на следующий день, а если что не подойдет, можно вернуть, а деньги возвращаются тебе на карточку. Для себя я так и делаю – сильно время экономит. Но тут я хотела погонять парня в примерочную и обратно и заставить самого выбирать, что понравится. Научить его хотеть нормально одеться… Короче, сели, поехали.
* * *
В день, когда я наметила приодеть Джонатана и даже взяла для этого выходной, вдруг выпал обвальный, небывалый какой-то снег, и Нью-Йорк заиндевел и огруз.
Здесь такое бывает раз в несколько лет. Не то чтобы Северный полюс, но минус десять по Цельсию, а из-за близости океана и пронзительных ветров телом все ощущается весьма серьезно, вполне по нашим родным стандартам.
Школы, салоны, мелкие бизнесы были закрыты, открылись только моллы и большие магазины, но и там было пусто: улицы и дороги в снегу, народ озяб и забурился по своим норам.
Но мы-то ждать не могли. Ну, не мог он месяц ходить в Юркиной куртке, трусах и брюках! Так что я поволокла клиента в «Маршаллс» неподалеку. И вот – снег, мороз, на парковке перед магазином пусто. В магазине никого, если не считать пары-другой продавцов, которые обрадовались нам, как не радуются богатым родственникам.
И раскинулись перед нами все сокровища Али-Бабы, уцененные до неприличного минимума. На каждом ценнике и так уже была красная наклейка, но вдобавок на выбранной нами вещи рядом с красной продавцы клеили желтую: двойная, тройная уценка! Это было пиршество нищебродов, удачное сочетание климатического коллапса с возможностями кредита. Я бормотала по-русски: «Гайда, тройка, снег пушистый!» – и готова была вспомнить все зимние стишки из своего детства, включая классическую елочку в лесу…
Долларов за сто мы приобрели целый гардероб. Помню джинсы, изначально с понтом оцененные в 70 зеленых, а купленные нами – не поверишь! – за 70 центов. Вот так отовариваются в «Маршаллсе», и пусть твоя героиня одевает своего новообретенного «братана» именно там.
И пусть купит ему шорты посреди зимы, это ведь неотъемлемая часть мужского гардероба. Да, шорты и трикотажную тенниску с воротником поло. И толстовку с начесом, типа байковой.
Главное – джинсы: сегодня в моде голубая джинса. К ней можно и пиджак надеть: даже самые консервативные крутые рестораны, те, что запрещают мужчине вход без пиджака, уже допускают мужика в джинсе.
Пусть купит ему тонкие футболки с приличным принтом. Никаких идиотских слоганов, русалок и признаний типа «I love New York», ему ведь не пятнадцать лет. Непременно: удобные трикотажные брюки на шнурках – мужики всех народов любят ходить в трениках (свободу многострадальным яйцам!). В них путешествуют, бегают, и кое-кто даже ходит в них на работу – обязательно нужно купить! Еще нужны два-три пуловера благородных однотонных расцветок; ветровка, дутая куртка, уютная теплая кофта на пуговицах. «Пиджаки потихоньку уплывают в прошлое, им на смену пришли кардиганы» – это я цитирую интернет, куда на всякий пожарный заглянула, испугавшись, что за эти годы потеряла квалификацию. Вот, пусть и купит ему темно-серый шерстяной кардиган с капюшоном, а-ля старая бабкина кофта с вытянутыми карманами; они молодят, скрывают сутулость, они очень практичны – и в пир, и в мир, и в добрые люди.
Конечно же: вязаную шапку и длинный шарф, и перчатки – темно-синие, под его, как оказалось, весьма недурственные серые глаза. Там же она прикупит ему сумку или рюкзак, носки, трусы и плавки. А под занавес – в обувной отдел: вьетнамки, ботинки и мягкие туфли типа мокасин какой-нибудь хорошей фирмы, вроде Cesare Paciotti или Cole Haan…
Вот, пожалуй, и все на первый раз – для высокого, хорошо сложенного мужчины в прекрасном возрасте за сорок.
Так что на скромном вечере, который мы устроили в память Генри, – пришло довольно много университетских коллег и друзей покойного мальчика, и я наготовила уйму вкуснотищи, а Клара, такая молодчина, мне помогала, – ты бы видела, как чертовски здорово выглядел мой клиент: выбритый до блеска, модно и коротко подстриженный моим парикмахером Любой, в красивом темно-синем пуловере и голубых джинсах, подчеркивающих длинные ноги… Я время от времени посматривала на него прямо-таки с рабочей гордостью! Все же, как говорила теть-Таня, «высокий рост мужику никогда не лишний».
* * *
…Ну, а сейчас необходимо как-то оторвать его от себя; пусть с воплями, пусть со слезами его, с раздраем, но… это надо сделать. Ты спросишь – почему?
Во-первых, как говорила все та же теть-Таня, «он мне нужен, как хрен на ужин»; во-вторых, сейчас, приведенный в порядок, он вполне может заинтересовать собой какую-нибудь милую молодую женщину.
А ты непременно допиши эту повесть.
Ты напиши эту повесть, и пусть она будет ниже пояса и выше облаков – повесть о потерянных людях, которым нет места на земле. Напиши о грусти этой жизни, о неприкаянности человеческого тела, о его хрупком костяке, зябнущей бледной коже, редеющем волосяном покрове…
Напиши о пугающем бездорожье небес и тоске по Богу, который сотворил свое дитя, да и бросил его, разочарованный и равнодушный. И это брошенное дитя – как пятнадцатилетняя девочка, пустившаяся во все тяжкие, в бега, в хищный свет фар попутных автомобилей на ночных шоссе. Она смертельно испугана и мечтает о мамином чае с вишневым пирогом, о прощении, объятии, о слезах…
Это дитя человеческое мечтает о детстве, о чистоте – заблудившееся дитя, очарованное и исковерканное огромным безжалостным миром…
«Человек – как трава, дни его, как цветок полевой…
Ибо ветер прошел по нему, и место его не узнает его».
Проносится жизнь под меркнущим небом, она проносится мимо, цокая каблучками и шелестя плащами и юбками, окликая нас то по имени, то по прозвищу. А бедная душа остается один на один со своим единственным днем и своим последним мигом: человеческая душа, одинокий ребенок в безнадежном поиске материнской любви…
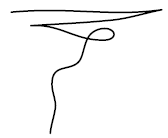
notes
Назад: Цветок сливы
Дальше: Примечания

