Достоевский и отцеубийство
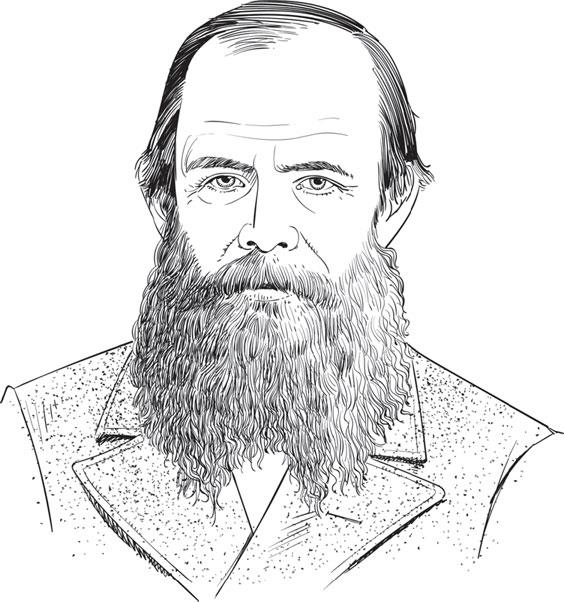
Федор Достоевский
В богатой личности Достоевского хочется выделить четыре фасада: писателя, невротика, моралиста и грешника. Как разобраться в этой приводящей в замешательство сложности?
Меньше всего сомнений в нем как писателе: его место – чуть позади Шекспира. «Братья Карамазовы» – самый грандиозный роман из тех, что когда-либо были написаны, эпизод с Великим инквизитором – одно из наивысших достижений мировой литературы, которое едва ли можно переоценить. К сожалению, перед проблемой писателя анализ должен сложить оружие.
Больше всего уязвим моралист в Достоевском. Когда хотят превознести его как нравственного человека на том основании, что только тот достигает наивысшей ступени нравственности, кто прошел через глубочайшее грехопадение, – не считаются с одним соображением. Нравственен тот, кто реагирует уже на внутренне ощущаемое искушение, не поддаваясь ему. А тому, кто вперемежку грешит, а затем в своем раскаянии выставляет высокие нравственные требования, не избежать упрека, что он слишком удобно устроился. Он не осуществил главного в нравственности, отказа, ибо нравственный образ жизни представляет собой практический интерес человечества. Он напоминает варваров в период Великого переселения народов, которые убивают и каются в этом, и покаяние становится прямо-таки техническим приемом, чтобы сделать возможным убийство. Точно так же ведет себя и Иван Грозный; более того, эта сделка с совестью – характерная русская черта. Да и конечный результат нравственной борьбы Достоевского бесславен. После самых ожесточенных боев за то, чтобы примирить притязания влечений индивида с требованиями человеческого общества, он останавливает свой выбор на подчинении мирскому, равно как и церковному, авторитету, на благоговении перед царем и христианским Богом и на бездушном русском национализме, на позиции, к которой менее значительные умы приходили с меньшими усилиями. В этом слабое место великой личности. Достоевский упустил возможность стать учителем и освободителем людей, он присоединился к их тюремщикам; культурное будущее людей немногим будет ему обязано. Наверное, можно показать, что на такой крах он был обречен своим неврозом. По уровню интеллекта и силе его любви к людям ему был бы открыт другой, апостольский, жизненный путь.
Если рассматривать Достоевского как грешника или преступника, то это вызывает бурное сопротивление, которое не нужно основывать на обывательской оценке преступника. Вскоре обнаруживается настоящий мотив; для преступника существенны две черты – безграничное себялюбие и выраженная деструктивная тенденция; общим для того и другого и предпосылкой для их выражения являются бессердечие, недостаток аффективной оценки (человеческих) объектов. У Достоевского тут же в качестве противоположности вспоминается его большая потребность в любви и его огромная способность любить, которая сама выражается в проявлениях чрезмерной доброты и позволяет ему любить и помогать там, где сам он имел право на месть и ненависть, – например, по отношению к своей первой жене и ее любовнику. Тогда нужно спросить, откуда вообще берется соблазн причислить Достоевского к преступникам. Ответ: на существование таких наклонностей в его душе указывает выбор писателем материала, который отличают прежде всего жестокие, склонные к убийству, себялюбивые характеры; далее – некоторые факты из его жизни, например его страсть к игре; возможно, сексуальное растление незрелой девушки (признание).
В своей работе «Три мастера» (1920) Стефан Цвейг писал о Достоевском: «Он не останавливается перед преградами мещанской морали, и никто не может точно сказать, как далеко он преступал в своей жизни юридические границы, сколько из преступных инстинктов его героев у него самого превратились в поступки». О тесных связях между образами Достоевского и его собственными переживаниями писал Рене Фюлоп-Миллер во введении к книге «Достоевский за рулеткой» (1925), основанной на воспоминаниях Н. Страхова. Тема сексуального растления незрелой девушки всплывает у Достоевского неоднократно, например, в посмертно опубликованной «Исповеди Ставрогина» и в «Жизни великого грешника».
Противоречие разрешается пониманием того, что очень сильное деструктивное влечение Достоевского, которое легко могло бы сделать его преступником, в жизни было направлено главным образом против собственной персоны (вовнутрь, а не вовне) и поэтому выражалось в форме мазохизма и чувства вины. Тем не менее его личность сохраняет довольно много садистских черт, выражающихся в его раздражительности, тирании, нетерпимости – даже по отношению к любимым людям – и еще в том, как он обращается со своими читателями, то есть в мелочах он садист, устремленный вовне, в более крупных вещах – садист, направленный внутрь, стало быть мазохист, то есть самый мягкий, самый добродушный, самый услужливый человек.
Из сложной личности Достоевского мы извлекли три фактора, один качественный и два количественных: чрезвычайно высокую степень его аффективности, извращенные задатки влечений, предрасполагавшие его стать садомазохистом или преступником, и не поддающееся анализу художественное дарование. Этот ансамбль вполне был бы жизнеспособен и без невроза, ведь существуют абсолютные мазохисты, которые невротиками не являются. По соотношению сил между требованиями влечений и противостоящими им торможениями (плюс имеющимися в распоряжении способами сублимации) Достоевского все еще можно было бы классифицировать как так называемый импульсивный характер. Но ситуация омрачается присутствием невроза, который, как уже говорилось, при этих условиях не обязателен, но тем не менее возникает тем скорее, чем богаче содержанием осложнение, с которым должно справиться Я. Невроз – это все же лишь признак того, что такой синтез Я не удался, что, совершая такую попытку, оно поплатилось своей целостностью.
Чем же доказывается невроз, понимаемый в строгом значении слова? Достоевский сам себя называл эпилептиком – да и другие так тоже считали – по причине своих тяжелых припадков, сопровождавшихся потерей сознания, мышечными судорогами и последующим дурным настроением. Вполне вероятно, что эта так называемая эпилепсия была лишь симптомом невроза, который соответственно следовало бы классифицировать как истероэпилепсию, то есть как тяжелую истерию. Полной уверенности нельзя достичь по двум причинам: во-первых, потому, что анамнестические данные о так называемой эпилепсии Достоевского недостаточны и ненадежны, во-вторых, потому, что нет ясного понимания болезненных состояний, связанных с эпилептоидными припадками.
Сначала о втором пункте. Излишне здесь повторять всю патологию эпилепсии, которая все же ничего решающего не приносит, однако можно сказать: в качестве мнимой клинической единицы по-прежнему выделяют старую Morbus sacer, жуткую болезнь с ее непредсказуемыми – по-видимому, не спровоцированными – судорожными припадками, изменением характера в сторону раздражительности и агрессивности и с прогрессирующим ухудшением всех видов умственной деятельности. Но во всех конечных исходах эта картина расплывается до неопределенности. Припадки, проявляющиеся в грубой форме, с прикусыванием языка и мочеиспусканием, учащающиеся до опасного для жизни Status epilepticus, который приводит к тяжелому самоповреждению, могут, однако, ослабляться до коротких абсансов, до простых, быстро проходящих обморочных состояний, заменяться короткими периодами, когда больной, словно находясь во власти бессознательного, делает нечто ему не свойственное. Будучи обычно непонятным образом обусловленными чисто телесно, они все же могут быть обязанными своим первым возникновением чисто душевному влиянию (испугу) или в дальнейшем выступать в качестве реакции на душевные возбуждения. Каким бы характерным ни было интеллектуальное снижение в подавляющем большинстве случаев, по меньшей мере все же известен один случай, в котором недуг не сумел нарушить высшую интеллектуальную деятельность (Гельмгольц). (Другие случаи, про которые утверждали подобное, ненадежны или подлежат тому же сомнению, что и случай самого Достоевского.) Лица, страдающие эпилепсией, могут производить впечатление тупости, задержки развития, поскольку этот недуг часто сопровождается ярко выраженной идиотией и тяжелейшими дефектами мозга, хотя это и не является обязательной составной частью картины болезни; однако эти припадки во всех своих вариациях встречаются также и у других лиц, обнаруживающих полное душевное развитие и скорее чрезмерную, чаще всего недостаточно контролируемую аффективность. Неудивительно, что при таких обстоятельствах считается невозможным придерживаться клинической единицы поражения под названием «эпилепсия». То, что проявляется в сходстве обнаруживаемых симптомов, по-видимому, требует функционального понимания, как если бы механизм патологического отвода влечений был подготовлен заранее, но используется при совершенно разных условиях – как при нарушениях мозговой деятельности вследствие тяжелого тканевого и токсического заболевания, так и при недостаточном управлении душевной экономикой, кризисном использовании действующей в душе энергии. За этой раздвоенностью, по-видимому, скрывается идентичность основополагающего механизма отвода влечений. То же самое не может быть чуждо и сексуальным процессам, имеющим по существу токсическую причину; уже древнейшие врачи называли коитус малой эпилепсией, то есть распознавали в половом акте смягчение и адаптацию эпилептического отвода возбуждения.
«Эпилептическая реакция», как можно назвать это общее, без сомнения, имеется также в распоряжении невроза, сущность которого состоит в том, чтобы соматическим путем покончить с массами возбуждения, с которыми он не справляется психически. Таким образом, эпилептический припадок становится симптомом истерии и адаптируется и модифицируется ею подобно тому, как это делается нормальным сексуальным процессом. Поэтому совершенно правильно отличать органическую эпилепсию от «аффективной». Практическое значение таково: у кого первая, у того болезнь мозга; у кого вторая, тот невротик. В одном случае душевная жизнь подвергается чуждому ей нарушению извне, в другом – нарушение является выражением самой душевной жизни.
Вполне вероятно, что эпилепсия Достоевского – второго рода. Строго доказать этого нельзя, ибо тогда нужно было бы иметь возможность включить первое появление и последующие колебания припадков во взаимосвязь его душевной жизни, а об этом слишком мало известно. Описания самих припадков ничего не проясняют, сведения об отношениях между припадками и переживаниями недостаточны и зачастую противоречивы. Наиболее правдоподобно предположение, что припадки простираются далеко в детство Достоевского, что вначале они были представлены более мягкими симптомами и только после потрясшего его в восемнадцать лет переживания, после убийства отца, они приняли эпилептическую форму.
Особый интерес вызывает сообщение, что в детстве писателя произошло «нечто ужасное, незабываемое и мучительное», чем можно было бы объяснить первые признаки его недуга (отмечал А.С. Суворин в статье в «Новом времени», 1881). Первый биограф Достоевского, профессор литературы Орест Миллер писал: «Правда, о болезни Федора Михайловича имеется еще особое высказывание, относящееся к его самой ранней юности и связывающее болезнь с трагическим случаем в семейной жизни родителей Достоевского. Но хотя это высказывание было сообщено мне человеком, который был близко знаком с Федором Михайловичем, я не могу решиться подробно и точно передать здесь упомянутую информацию, поскольку ни с какой из сторон не получил подтверждения этого слуха». Биографика и наука о неврозах вряд ли могут быть благодарны за такую сдержанность.
Было бы весьма подходящим, если бы подтвердилось, что во время отбывания наказания в Сибири они полностью прекратились, но этому противоречат другие сведения.
Большинство сведений, среди них собственное свидетельство Достоевского, утверждают скорее, что только во время отбывания наказания в Сибири болезнь приняла свой окончательный, эпилептический характер. К сожалению, есть основания не доверять автобиографическим сообщениям невротиков. Опыт показывает, что их память прибегает к фальсификациям, предназначенным для того, чтобы разорвать неприятную причинную связь. Однако кажется установленным, что пребывание в сибирской тюрьме существенно изменило и болезненное состояние Достоевского.
Очевидная связь между отцеубийством в «Братьях Карамазовых» и судьбой отца Достоевского бросилась в глаза многим биографам и побудила их ссылаться на «известное современное психологическое направление». Психоаналитическое рассмотрение, ибо здесь имелось в виду оно, пыталось в этом событии распознать тяжелейшую травму, а в реакции Достоевского на него – исходный момент его невроза.
Если же я попытаюсь психоаналитически обосновать выдвинутое положение, то вынужден опасаться, что останусь непонятным всем тем, кто не знаком со способами выражения и учениями психоанализа.
У нас есть надежный исходный пункт. Мы знаем смысл первых припадков Достоевского в его юные годы, задолго до появления «эпилепсии». Эти припадки имели значение смерти, они сопровождались страхом смерти и заключались в состояниях летаргического сна. Когда им впервые овладело неожиданное, беспричинное уныние (болезнь), он был еще ребенком; чувство, о котором он позднее рассказывал своему другу Соловьеву, будто он должен вот-вот умереть; и действительно за этим следовало состояние, совершенно похожее на настоящую смерть… Его брат Андрей рассказывал, что Федор еще в юные годы имел обыкновение перед тем, как лечь спать, оставлять записки, он боялся, что ночью впадет в сон, внешне напоминающий смерть, и поэтому просил его похоронить только через пять дней.
Мы знаем смысл и намерение таких приступов смерти. Они означают идентификацию с мертвым, человеком, который действительно умер или пока еще жив, но хочет умереть. Последний случай более важен. Тогда припадок имеет значение наказания. Человек пожелал другому смерти, теперь он – этот другой и сам мертв. Здесь психоаналитическое учение утверждает, что этим другим для мальчика, как правило, является отец, а припадок, называемый истерическим, – стало быть, представляет собой самонаказание за пожелание смерти ненавистному отцу.
Согласно известному представлению, отцеубийство – это главное и первичное преступление человечества, равно как и отдельного человека. Во всяком случае оно – главный источник чувства вины, мы не знаем, единственный ли; исследования пока еще не сумели установить душевную первопричину чувства вины и потребности в искуплении. Но совсем не обязательно, чтобы оно было единственным. Психологическая ситуация сложна и требует прояснения. Отношение мальчика к отцу, как мы говорим, амбивалентно. Помимо ненависти, которой хочется устранить отца как соперника, обычно имеет место и некая мера нежности к нему. Обе установки сливаются в идентификацию с отцом, ребенку хочется занять место отца, потому что он им восхищается, хочется быть таким, как он, и поэтому желательно его устранить. Все это развитие наталкивается теперь на мощное препятствие. В определенный момент ребенок начинает понимать, что попытка устранить отца как соперника будет наказана им посредством кастрации. Из страха кастрации, то есть в интересах сохранения своей мужественности, он, стало быть, отказывается от желания обладать матерью и устранить отца. Поскольку это желание сохраняется в бессознательном, оно образует основу чувства вины. По нашему мнению, мы описали здесь нормальные процессы, нормальную судьбу так называемого эдипова комплекса; однако мы сделаем еще важное дополнение.
Дальнейшее осложнение возникает, когда у ребенка оказывается сильнее развитым тот конституциональный фактор, который мы называем бисексуальностью. В таком случае при угрозе мужественности посредством кастрации подкрепляется склонность отклониться в направлении женственности, поставить, скорее, себя на место матери и перенять ее роль как объекта любви для отца. Однако страх кастрации делает невозможным и это решение. Ребенок понимает, что вынужден пойти и на кастрацию, если хочет, чтобы отец любил его как женщину. Таким образом, оба побуждения, ненависть к отцу, равно как и влюбленность в отца, подвергаются вытеснению. Известное психологическое различие заключается в том, что от ненависти к отцу отказываются из страха перед внешней опасностью (кастрацией); влюбленность же в отца трактуется как внутренняя опасность, исходящая от влечения, которая в сущности все-таки сводится к той же самой внешней опасности.
Именно страх перед отцом делает ненависть к отцу неприемлемой; кастрация пугает и как наказание, и как плата за любовь. Из двух факторов, вытесняющих ненависть к отцу, первый, непосредственный страх наказания и кастрации, можно назвать нормальным; патогенное усиление, по-видимому, добавляется другим фактором, страхом перед женственной установкой. Таким образом, сильно выраженная бисексуальная предрасположенность становится одним из условий или подкреплений невроза. Наличие таковой, несомненно, можно предположить у Достоевского, и в приемлемой форме (скрытой гомосексуальности) она проявляется в значимости мужской дружбы для его жизни, в его своеобразно нежном отношении к соперникам в любви и в его превосходном понимании ситуаций, которые объясняются лишь вытесненной гомосексуальностью, как это показывают многочисленные примеры из его новелл.
Я сожалею, но не могу этого изменить, если эти рассуждения об установках ненависти и любви к отцу и их превращениях под влиянием угрозы кастрации покажутся читателю, не сведущему в психоанализе, безвкусными и неправдоподобными. Сам я склонен предположить, что именно комплекс кастрации вызовет всеобщее отвержение. Но я могу только заверить, что именно эти отношения психоаналитический опыт не подвергает никакому сомнению и видит в них ключ к пониманию любого невроза. Его мы должны попробовать применить и к так называемой эпилепсии нашего писателя. Но как чужды нашему сознанию вещи, во власти которых находится наша бессознательная душевная жизнь. Тем, что было сказано ранее, последствия вытеснения ненависти к отцу в эдиповом комплексе не исчерпываются. В качестве нового добавляется то, что идентификация с отцом в конечном счете все-таки добивается прочного места в Я. Она включается в Я, но в качестве особой инстанции противостоит в нем другому содержанию Я. В таком случае мы называем ее Сверх-Я и приписываем ей, наследнице родительского влияния, важнейшие функции.
Если отец был суров, груб, жесток, то Сверх-Я перенимает от него эти свойства, и в его отношении к Я вновь устанавливается пассивность, которую как раз и надо было вытеснить. Сверх-Я стало садистским, Я становится мазохистским, то есть по существу женственно пассивным. В Я возникает сильнейшая потребность в наказании, которая отчасти как таковая готова подчиниться судьбе, отчасти находит удовлетворение в грубом обращении со стороны Сверх-Я (сознание вины). Ведь всякое наказание, в сущности, представляет собой кастрацию и в этом качестве реализацию давней пассивной установки к отцу. Да и судьба – это, в конечном счете, лишь более поздняя проекция отца.
Нормальные процессы при формировании совести, должно быть, похожи на изображенные здесь патологические. Нам пока еще не удалось провести между ними разграничение. Замечено, что наибольшая доля в конечном результате принадлежит здесь пассивным компонентам вытесненной женственности. Кроме того, в качестве акцидентного фактора должно иметь значение то, действительно ли всякий раз внушающий страх отец особо жесток и в реальности. Это относится и к Достоевскому, а факт его чрезвычайного чувства вины, а также его мазохистского образа жизни мы сведем к особенно сильным женственным компонентам. Таким образом, формула для Достоевского такова: человек с особенно сильной бисексуальной предрасположенностью, способный с особенной интенсивностью защищаться от зависимости от особенно сурового отца. Это свойство бисексуальности мы добавляем к ранее выявленным компонентам его поведения. Возникший в раннем возрасте симптом «припадков смерти» можно, стало быть, понимать как допущенную в качестве наказания со стороны Сверх-Я идентификацию Я с отцом. Ты хотел убить отца, чтобы самому быть отцом. Что ж, ты отец, но мертвый отец; обычный механизм истерических симптомов. И при этом: теперь тебя умертвит отец. Для Я симптом смерти – это удовлетворение в фантазии мужского желания и одновременно мазохистское удовлетворение; для Сверх-Я – это удовлетворение потребности наказывать, то есть садистское удовлетворение. И то и другое, Я и Сверх-Я, продолжают играть роль отца. В общем и целом отношение между персоной и отцовским объектом при сохранении своего содержания превратилось в отношение между Я и Сверх-Я, новая постановка на второй сцене. Такие инфантильные реакции, проистекающие из эдипова комплекса, могут затухнуть, если реальность в дальнейшем их не подпитывает. Однако характер отца остается таким же; нет, с годами он ухудшается, а потому сохраняется и ненависть Достоевского к отцу, его желание, чтобы этот плохой отец умер. Когда реальность исполняет такие вытесненные желания, возникает опасность. Фантазия стала реальностью, все защитные меры теперь усиливаются. Теперь припадки Достоевского принимают эпилептический характер, они по-прежнему, разумеется, означают идентификацию с отцом в качестве наказания, но стали такими же страшными, как ужасная смерть самого отца. Какое содержание, в особенности сексуальное, к ним еще добавилось – об этом догадаться нельзя.
Примечательно одно: в ауре припадка переживается момент высшего блаженства, который вполне мог зафиксировать триумф и освобождение при известии о смерти, за чем сразу же следует тем более жестокое наказание. О такой последовательности триумфа и скорби, праздничного настроения и печали, мы догадались также у братьев первичной орды, убивших отца, и находим его повторение в церемонии тотемной трапезы. Если верно, что в Сибири Достоевский был избавлен от припадков, то это лишь подтверждает, что припадки были его наказанием. Он в них уже не нуждался, когда был наказан иначе. Однако это недоказуемо. Такая необходимость наказания для душевной экономики Достоевского скорее делает ясным, что он прошел через эти годы бедствий и унижений несломленным. Осуждение Достоевского как политического преступника было несправедливым, он должен был это знать, но он принял незаслуженное наказание со стороны батюшки-царя как замену наказания, которое заслужил своим грехом перед настоящим отцом. Вместо самонаказания он дал себя наказать заместителю отца. Здесь можно увидеть частичную психологическую оправданность наказаний, налагаемых обществом. Действительно, большие группы преступников стремятся к наказанию. Его требует их Сверх-Я, тем самым избавляя себя от того, чтобы самому их наказывать.
Тот, кто знает сложную смену значения истерических симптомов, поймет, что здесь не предпринимается попытка доискаться до смысла припадков Достоевского, который они приобрели впоследствии.
См. «Тотем и табу». Лучшие сведения о смысле и содержании своих припадков дает сам Достоевский, когда сообщает своему другу Н. Страхову, что его раздражительность и депрессия после эпилептического припадка объясняются тем, что он кажется себе преступником и не может избавиться от чувства того, будто он взвалил на себя не известную ему вину, совершил великое злодеяние, которое его угнетает. В таких жалобах психоанализ усматривает часть понимания «психической реальности» и старается довести эту неизвестную вину до сознания.
Достаточно того, что можно предположить, что после всех последующих напластований их первоначальный смысл остался неизменным. Можно сказать, что Достоевский так никогда и не избавился от угрызений совести из-за намерения отцеубийства. Оно также определило его отношение к двум другим областям, в которых отношение к отцу является решающим, – к государственному авторитету и к вере в Бога. В первой он пришел к полному подчинению царю-батюшке, некогда и в самом деле разыгравшему с ним комедию умерщвления, которое так часто имели обыкновение изображать его припадки. Здесь верх взяло покаяние. В религиозной области у него осталось больше свободы; по кажущимся достоверными сведениям он, должно быть, до последнего мгновения своей жизни колебался между набожностью и атеизмом. Его величайший интеллект не позволял ему не замечать тех или иных логических затруднений, к которым приводит набожность. В индивидуальном повторении всемирно-исторического развития он надеялся в идеале Христа найти выход и избавление от вины, использовать сам недуг, чтобы притязать на роль Христа. Если, в общем и целом, он не пришел к свободе и стал революционером, то это случилось потому, что общечеловеческая сыновняя вина, покоящаяся на религиозном чувстве, достигла у него надындивидуальной силы и осталась непреодолимой даже для его огромного интеллекта. Здесь мы навлекаем на себя упрек в том, что отказываемся от беспристрастности анализа и подвергаем Достоевского оценкам, оправданным лишь с пристрастной позиции определенного мировоззрения. Консерватор принял бы сторону Великого инквизитора и судил бы о Достоевском иначе. Упрек справедлив, для его ослабления можно только сказать, что решение Достоевского, по-видимому, определяется торможением его мышления вследствие невроза.
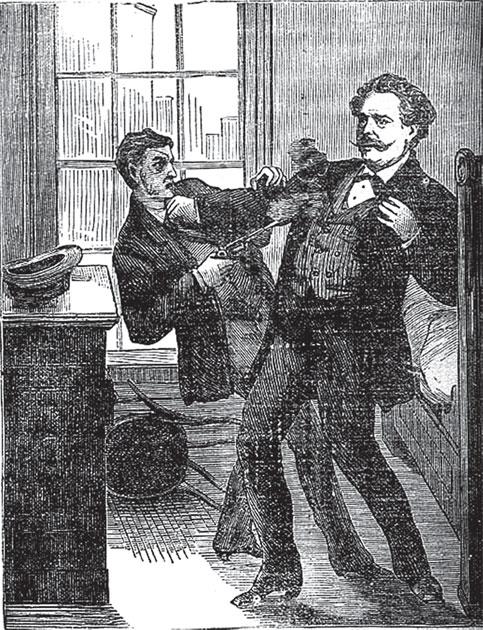
Едва ли случайно, что три шедевра литературы всех времен разрабатывают одну и ту же тему, тему отцеубийства: «Царь Эдип» Софокла, «Гамлет» Шекспира и «Братья Карамазовы» Достоевского. Во всех трех обнажается и мотив злодеяния, сексуальное соперничество из-за женщины. Самым откровенным, конечно, является изображение в драме, примыкающей к греческому сказанию. Здесь еще сам герой совершает деяние. Но без смягчения и маскировки поэтическая обработка невозможна. Неприкрытое признание в намерении отцеубийства, на которое мы нацелены в анализе, по-видимому, без аналитической подготовки невыносимо. В греческой драме необходимое ослабление при сохранении состава преступления мастерски осуществляется тем, что бессознательный мотив героя проецируется в реальность в качестве чуждого ему принуждения судьбы. Герой совершает деяние непреднамеренно и якобы без влияния женщины, однако эта взаимосвязь учитывается, поскольку он может завоевать мать-царицу только после повторения деяния по отношению к чудовищу, символизирующему отца. После того как его вина раскрылась и стала осознанной, не следует попытки свалить ее с себя, обращаясь к вспомогательной конструкции в виде принуждения судьбы, а она признается и карается как полновесная сознательная вина, что разуму должно показаться несправедливым, но психологически абсолютно корректно. Изображение в английской драме не столь прямое, поступок совершил не сам герой, а другой человек, для кого он отцеубийства не означает. Поэтому предосудительному мотиву сексуального соперничества из-за женщины не нужно маскироваться. Да и эдипов комплекс героя мы видим словно в отраженном свете, поскольку мы узнаем воздействие на него поступка другого человека. Он должен был отомстить, но странным образом находит себя не способным на это. Мы знаем, что парализует его чувство вины; совершенно типичным для невротических процессов образом чувство вины смещается на восприятие своей недостаточности для выполнения этой задачи. Проявляются признаки того, что герой воспринимает эту вину как надындивидуальную. Он презирает других не меньше, чем себя самого. «Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки?». В этом направлении роман русского идет еще дальше. Также и здесь убийство совершил другой человек, но тот, кто находился с убитым в тех же самых сыновних отношениях, как и герой Дмитрий, у которого мотив сексуального соперничества признается открыто, другой брат, которого Достоевский примечательным образом наделил своей собственной болезнью, мнимой эпилепсией, словно хотел признаться, что эпилептик, невротик во мне и есть отцеубийца. И тут в речи защитника перед судом звучит знаменитая ирония по поводу психологии, что она, мол, палка о двух концах. Великолепная маскировка, ибо ее нужно только вывернуть наизнанку, чтобы найти глубочайший смысл точки зрения Достоевского. Не психология заслуживает насмешки, а метод судебного дознания. Ведь совершенно неважно, кто на самом деле совершил деяние, для психологии имеет значение только тот, кто хотел этого в своем чувстве, а когда оно произошло, его приветствовал, и поэтому все братья, вплоть до контрастной фигуры Алеши, одинаково виновны: импульсивный сластолюбец, скептический циник и эпилептический преступник. В «Братьях Карамазовых» есть в высшей степени характерная для Достоевского сцена. В беседе с Дмитрием старец осознал, что тот таит в себе готовность к отцеубийству, и бросается перед ним на колени. Это не может быть выражением восхищения, это должно означать, что святой отказывается от искушения презирать или ненавидеть убийцу и поэтому склоняется перед ним. Симпатия Достоевского к преступнику поистине безгранична, она выходит далеко за пределы сочувствия, на которое притязает несчастный, напоминает благоговение, с которым в древности относились к эпилептикам и душевнобольным. Преступник для него – чуть ли не избавитель, взявший на себя вину, которую в противном случае должны были бы нести другие. Уже нет надобности убивать, после того как он убил, но надо быть ему благодарным за это, иначе пришлось бы убивать самому. Это не просто милосердное сострадание, это идентификация на основе одинаковых импульсов к убийству – собственно говоря, незначительно смещенный нарцизм. Этическая ценность такой доброты не должна этим оспариваться. Быть может, это вообще механизм милосердного участия к другому человеку, который особенно легко разглядеть в крайнем случае писателя, оказавшегося во власти сознания вины. Нет сомнения в том, что эта симпатия на основе идентификации в решающей степени определила выбор сюжета у Достоевского. Но вначале он изображал обычного преступника – из корыстолюбия, – политического и религиозного преступника, прежде чем в конце своей жизни вернуться к первопреступнику, отцеубийце, и сделать на нем свое поэтическое признание.
Публикация его наследия и дневников его жены ярко осветила один эпизод в его жизни, время, когда Достоевский был в Германии одержим страстью к игре. Явный приступ патологической страсти, который нельзя было расценить иначе ни с какой стороны. Не было недостатка в рационализациях этого странного и недостойного поведения. Чувство вины, как это нередко бывает у невротиков, создало себе осязаемое представительство через бремя долгов, и Достоевский мог приводить в оправдание, что через выигрыш хочет получить возможность вернуться в Россию, не опасаясь быть заключенным своими кредиторами в тюрьму. Но это был лишь предлог, Достоевский был достаточно проницателен, чтобы это понимать, и достаточно честен, чтобы в этом признаться. Он знал, что главным была игра сама по себе, le jeu pour le jeu.
«Главное – сама игра, – писал он в частном письме. – Клянусь вам, дело вовсе не в корыстолюбии, хотя я, конечно, прежде всего нуждался в деньгах».
Все детали его продиктованного влечением безрассудного поведения это доказывают и еще нечто другое. Он никогда не успокаивался, пока не терял всего. Игра была для него также способом самонаказания. Бесчисленное множество раз он давал своей молодой жене слово или слово чести не играть больше или не играть больше в этот день, и, как она говорит, почти всегда его нарушал. Когда проигрышами он доводил себя и ее до крайней нищеты, то извлекал из этого второе патологическое удовлетворение. Он мог перед нею поносить себя, унижаться, просить ее его презирать, сожалеть, что она вышла замуж за него, старого грешника, и после этого облегчения совести на следующий день игра продолжалась. А молодая жена привыкла к этому циклу, поскольку заметила, что литературная работа, то, от чего на самом деле единственно можно было ждать спасения, никогда не продвигалась лучше, чем после того, как они все теряли и закладывали свое последнее имущество. Разумеется, взаимосвязи она не понимала. Когда его чувство вины утолялось наказаниями, которые он сам на себя налагал, его торможение в работе пропадало, тогда он позволял себе сделать несколько шагов на пути к успеху.
О том, какая часть давно засыпанной детской жизни добивается повторения в навязчивой игре, можно без труда догадаться, опираясь на новеллу одного более молодого писателя. Стефан Цвейг, посвятивший, кстати, один этюд самому Достоевскому («Три мастера» (1920)), в своем сборнике из трех новелл под названием «Смятение чувств» (1927) рассказывает историю, которую он озаглавил «Двадцать четыре часа из жизни женщины». Этот маленький шедевр хочет лишь показать, насколько безответственным существом является женщина, к каким неожиданным для нее самой выходкам может ее подтолкнуть неожиданное жизненное впечатление. Однако новелла, если подвергнуть ее аналитическому толкованию, говорит гораздо больше, изображает без такой извиняющей тенденции нечто совершенно иное, общечеловеческое или, скорее, мужское, и подобное толкование напрашивается столь настоятельно, что от него нельзя отмахнуться. Для природы художественного творчества характерно, что писатель, с которым мы в дружбе, в ответ на мои вопросы меня уверял, что сообщенное ему толкование было полностью чуждо его знанию и намерению, хотя в этот рассказ вплетены многие детали, кажущиеся рассчитанными именно на то, чтобы указать на тайный след. В новелле Цвейга одна благородная пожилая дама рассказывает писателю о событии, коснувшемся ее более двадцати лет назад. Рано овдовевшая мать двоих сыновей, которые в ней больше не нуждались, отказавшаяся от всех надежд в жизни, на своем сорок втором году жизни во время своих бесцельных странствий попадает в игорный зал казино в Монако, и среди всех удивительных впечатлений от этого места она вскоре оказалась очарована видом двух рук, с потрясающей откровенностью и интенсивностью выдававших, казалось, все ощущения горемычного игрока. Эти руки принадлежали красивому юноше – писатель словно непреднамеренно дает ему возраст первого сына зрительницы, – который, после того как все проиграл, в глубочайшем отчаянии покидает зал, видимо, чтобы в парке покончить со своей безысходной жизнью. Необъяснимая симпатия заставляет ее последовать за ним и предпринять все попытки для его спасения. Он принимает ее за одну из столь многочисленных в этом городе навязчивых женщин и хочет от нее отделаться, но она остается с ним и самым естественным образом считает себя обязанной разделить с ним его кров в отеле, а в конце концов и его постель. После этой импровизированной любовной ночи она заставляет вроде бы успокоившегося юношу самым торжественным образом поклясться, что он никогда не будет снова играть, снабжает его деньгами, чтобы он мог вернуться домой, и обещает встретиться с ним на вокзале перед отходом поезда. Но затем у нее пробуждается огромная нежность к нему, она хочет всем пожертвовать, чтобы его удержать, решает путешествовать вместе с ним, вместо того чтобы с ним распрощаться. Превратные случайности задерживают ее, в результате чего она опаздывает на поезд; тоскуя по исчезнувшему, она снова заходит в игорный зал и в ужасе видит там те же руки, вначале воспламенившие ее симпатию; забывший о долге вернулся к игре. Она напоминает ему о его обещании, но, одержимый страстью, он бранит мешающую игре, велит ей уходить и бросает ей деньги, которыми она хотела его купить. Испытывая глубочайший стыд, она вынуждена бежать, а впоследствии узнает, что ей не удалось уберечь его от самоубийства.

Эта с блеском рассказанная, безупречно мотивированная история, разумеется, жизнеспособна сама по себе и, несомненно, оказывает огромное воздействие на читателя. Однако анализ показывает, что первопричиной ее создания является фантазия-желание пубертатного возраста, которая у иных людей сознательно вспоминается сама по себе. Фантазия гласит: пусть мать сама введет юношу в сексуальную жизнь, чтобы спасти его от внушающих страх вредностей онанизма. Столь часто встречающиеся художественные произведения об избавителе имеют ту же самую первопричину. «Порок» онанизма заменяется пороком страсти к игре, подчеркивание страстной активности рук выдает это происхождение. Действительно, одержимость игрой является эквивалентом давнего навязчивого онанизма: манипуляции с гениталиями в детском возрасте другим словом, кроме как слово «игра», не назывались. Невозможность противостоять искушению, святые и все же никогда не выполняемые намерения впредь этого не делать, дурманящее удовольствие и нечистая совесть, желание погубить себя (самоубийство) – все это при замене осталось неизменным. Правда, новелла Цвейга рассказывает о матери, а не о сыне. Должно быть, сыну лестно думать: «Если бы мать знала, каким опасностям подвергает меня онанизм, она, несомненно, спасла бы меня от них, позволив мне всячески ласкать ее тело». Уравнивание матери с девкой, осуществляемое юношей в новелле Цвейга, входит во взаимосвязь той же фантазии. Оно делает недоступное легко достижимым; нечистая совесть, сопровождающая эту фантазию, определяет печальный конец художественного произведения. Интересно также отметить, как заданная писателем внешняя форма новеллы пытается скрыть ее аналитический смысл. Ибо довольно сомнительно, чтобы любовная жизнь женщины находилась во власти неожиданных и загадочных импульсов. Анализ скорее раскрывает достаточную мотивацию для неожиданного поведения женщины, доселе отказывавшейся от любви. Верная памяти своего умершего супруга, она вооружилась против всех сходных с ним притязаний, но – в этом фантазия сына сохраняет свою правоту – как матери ей не удалось избежать совершенно не осознаваемого ею переноса любви на сына, и в этом неохраняемом месте ее подстерегает судьба. Если страсть к игре вместе с безуспешными попытками от нее избавиться и ее поводы к самонаказанию представляют собой повторение онанизма, то мы не будем удивляться тому, что в жизни Достоевского она завоевала такое большое пространство. Ведь мы не встречаем ни одного случая тяжелого невроза, в котором аутоэротическое удовлетворение не играло бы своей роли в раннем детстве и в пубертате, а отношения между попытками его подавить и страхом перед отцом известны слишком хорошо, чтобы потребовалось больше одного этого упоминания.
Большинство представленных здесь мнений содержится также в опубликованном в 1923 году прекрасном сочинении Иолана Нейфельда «Достоевский, наброски к его психоанализу».
Назад: Х
Дальше: О сновидении

