Три ступеньки
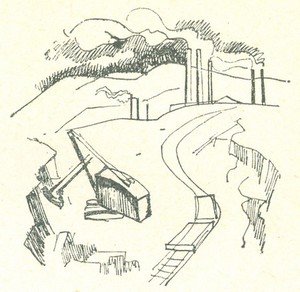
Да будет вам известно, что город этот — как вселенная грека Гераклита, полагавшего, что начало всех начал — огонь.
Да будет вам известно, что людям этого города внутренний огонь помогает плавить сталь, крушить рудные горы.
И если взять нам хотя бы одного человека из этого города, — скажем, паровозного машиниста Дуню Донскую, то она загорела не только от солнца. Ее загар, думается, солнечно-электрический. В этом городе можно загорать даже ночью — так много в нем всяких огней и прожекторов.
А экскаваторщику Шацу первое время все казалось, что горит барак, в котором он поселился. Небо над бараком горело от огней доменных печей.
Но время от времени на этот город огненных плавилен обрушиваются мощные ливни, словно для того, чтобы остудить его.
В такие дни Шацу трудно взбираться на рудную гору, как в тот памятный первый день, когда он четыре раза поднимался и так и не удалось ему достичь вершины. Гора состоит из пяти ступеней. Снизу видна лишь первая из них. Поднявшись на нее, ты вдруг видишь, что перед тобой выросла другая гора. Взобравшись на эту гору, ты видишь новую гору. Потом идет четвертая, потом — последняя, пятая.
Усаживаясь в кабину экскаватора, Шац чувствует некоторую усталость. Как только ковш своими железными зубами вгрызается в землю, как только Шац чувствует, что он сидит в кабине и крушит мощную гору, он снова начинает ощущать прежнюю легкость. А когда он видит подъезжающий паровоз, ему становится совсем легко. Ему, кстати, нужно что-то сказать Дуне.
— Надо бы горнякам собраться и потолковать насчет снижения добычи из-за ливня.
Сказал и замолчал. Словно осекся, словно кто-то на полуслове перебил его.
— А больше тебе нечего мне сказать? — говорит ему Дуня таким тоном, что трудно понять, о чем она думает.
— Нет, — говорит он и резко отворачивается и этим выдает себя, ибо кто это вдруг так осекается, а потом вдруг так резко отворачивается? Все ясно, все ясно. Не время теперь. Не место здесь. Пневматические буры вгрызаются и дырявят гору, взрывы аммонала сотрясают ее, экскаваторы растаскивают ее, железнодорожные составы развозят ее — где тут думать о посторонних вещах.
Но вот снова подплывает дым Дуниного паровоза, он все обволакивает прозрачным туманом, и окружающее становится неясным, полуреальным, полусказочным, и Шац думает: «Где-то со мной уже такое было, но, хоть убей, не помню где, и тогда тоже было такое настроение».
И тут-то рождается фраза:
— А может, ты мне что-то хотела сказать?
— А может, ты мне еще что-то хотел сказать?
И так без конца.
Можно было бы целые страницы исписать этими фразами.
В туманном свете появляется небольшого роста горный инженер, влачащий за собой свою длинную-длинную тень, сообщающую ему в сумраке какую-то величавость.
— Товарищ Шац, — говорит он, — у Ахматова ливнем снесло крышу дома. Он не сможет вас сменить. А нам наверстывать надо. Из-за ливня снизились темпы… Я могу, значит, положиться на вас?
И, не дожидаясь ответа, инженер исчезает. Он, видать, уверен, что Шац не подведет.
«Я могу, значит, положиться на вас?» — с какой уверенностью он это сказал. Отличные, приятные слова. Может быть, они прогонят эти возбуждающие навязчивые фразы?
И снова показывается Дунин паровоз, появляется и исчезает, появляется и исчезает, словно манящее видение. И это разнообразит его работу. Так можно трудиться и трудиться, горы ворочать.
Ему очень приятно, когда Дуня вдруг заявляет:
— Я, Шац, тоже буду работать вторую смену. Надо наверстывать.
И он решает:
«Хватит. Сегодня я обязательно должен поговорить с ней».
Они работают вторую смену. Когда бодрствуешь ночь, то как бы завоевываешь добавочный, внеочередной отрезок жизни, каждая минута — выигрыш. Когда работаешь в часы, отведенные для сна, в голову приходят необычные, не каждодневные думы, наплывают ночные, ясные мысли, пробуждаются особые мечты.
…Пройдут годы, огненные годы, яркие, как наш город, и от горы не останется следа, и наши светлые дети будут играть здесь в песке.
Такие мечты приносят сюда освещенные клубы дыма с Дуниного паровоза. А тут наудачу пошла более мягкая порода. Отгрузка пошла быстрее. Скоро они поедут домой. Вот-вот приедет машина, которая развозит их с работы, благо и дождь перестал.
В стороне от других сидят они на бревнах и ждут. Необычное самочувствие у него. Не усталость он чувствует, а какую-то странную легкость в теле, как будто он стал меньше весить.
Тихая ночь. Менее крикливыми стали огни. Словно и они в легкой дымке дремоты. Хорошо в такой тиши беседовать. Отчетливо чеканятся слова. И он все говорит и говорит. Ему так хорошо, так хорошо, и ему хочется высказать все, все, что у него теперь на сердце.
И откуда у него это стремление говорить и говорить, когда она так тихо приникла к его груди? И вдруг ему кажется, что на светлой горе огромной толпой стоят металлурги и подают ему реплики:
— А ты конкретней, яснее!
Ему, собственно, нужно сказать ей простые, ясные слова, а он рассказывает ей сказку о влюбленной паре, встретившейся ему когда-то, и как она на его предложение пойти в загс сказала: «Погоди, миленький, немножко. Дай-ка мы раньше достроим город». И тут он произносит речь о том, что для того, чтобы построить свое собственное семейное счастье, свое собственное гнездышко, необходимо прежде всего настроить дома, построить города с парками, с заводами, похожими на сады, с театрами и планетариями, чтоб весело было жить, и — с крематориями, чтобы можно было спокойно, деловито уйти из жизни.
О эти толпы металлургов на светлой горе! Опять они реплики подают:
— Конкретнее! Яснее!
«И в самом деле, — думает он, — к чему это митингование, чтобы объясниться в любви? Это привычка говорить речи не дает слова сказать». И он говорит коротко:
— Дуня, я люблю тебя!
Дуня молчит.
Он заглядывает ей в глаза. А глаза у нее, оказывается, закрыты. Она наработалась за две смены и уснула спокойным детским сном.
И все его пылкие речи, все слова его сказаны были луне и звездам, а Дуня их не слышала, ни одного слова не слышала.
Как хорошо, что автобус пришел! Желтым светом светит луна.
А вот и крылечко.
А вот три ступеньки, ведущие в ее дом.
И он поднимается на эти три ступеньки и толкает дверь. Почему же он вдруг поднялся на ступеньки? Чего ради, спрашивается, он поднялся на ступеньки?
Он, правда, уже достаточно высказался, но она ведь ничего не слышала, ни одного словечка.
Так что же он вдруг поднялся на эти три ступеньки?
И, держась за ручку двери, он виновато, растерянно смотрит ей в глаза. А она быстрым взглядом словно говорит: «Ладно! Не надо слов!»

