Предприниматели

Домовитых на селе уважают, потому и зовут их исключительно по имени-отчеству. Это в глаза. А вот как кличут подобных мужиков за их спинами, это от одного народного таланта зависит.
Ивана Сергеевича величали за глаза просто и без фантазии – Куркуль. Зато в лицо обращались уважительно – Иван Сергев, на местный манер так выходило.
При советской власти он, как и его соседи-односельчане, работал слесарем на заводе в райцентре. Соседи с получки расслаблялись, а Иван Сергев – нет. Он спешил домой и непременно прихватывал с работы всякий непотребный сор – то пару-тройку электродов, то моток проволоки, то гайку. «В хозяйстве всё годится, нечего тут добру ржаветь». Когда пришла пора идти на пенсию, от подобного «добра» у него ломился чердак и лопался сарай. Его одногодки-пенсионеры, старея, как один ударялись в рыбалку, а Иван Сергев глупостями не страдал: он варил по дворам угольные котлы и монтировал отопление. Работал не торопясь, благоговейно, будто священнодействуя. Сдавая работу, степенно кланялся, по три раза пересчитывал гонорар и прятал его в мешочек, что болтался на шее под одеждой. Прощаясь, желал хозяевам жить и богатеть.
Он не отказывался, если просили сработать в долг. А потом каждый вечер навещал должника. Будто просто так. Придёт покурить по-соседски, про погоду что-нибудь скажет, усядется у калитки с хозяевами и кряхтит. Так и ходит, пока должника от этих визитов не затошнит. Тогда уж несчастный займёт-перезаймёт, вывернется весь, но с Куркулём рассчитается.
Самодельные котлы в первую же зиму закипали и раздувались, батареи начинали течь. Тогда Иван Сергев подряжался это хозяйство ремонтировать. А что делать? Других спецов по этой части в селе всё равно не водилось.
Жил Иван Сергев с дочерью и внуком. Когда внук пошёл в школу, дочка решила записать его и на музыку тоже. Иван Сергев узнал, во сколько станет ему Внукова музыкалка, и похолодел. Но потом кое-что подсчитал и согласился. Согласился, правда, с условием, что внук непременно пойдёт по баяну. «Вырастет – на свадьбы станет наниматься. Баянист всегда деньгу зашибёт. И руки притом чистые». Внука в музыкалку не взяли, слуха не обнаружили. Иван Сергев узнал, что внук не заколотит барыша, и затужил. Но потом вспомнил, сколько кровных могло бы утечь на Внуково обучение, и успокоился. Если б Ивана Сергева в последние двадцать лет кто-нибудь звал погулять на свадьбе, он бы знал, что в нынешний век компьютеров профессия свадебного баяниста навсегда умерла.
Так бы и жил, добра наживал, слесарь-самородок, если бы в одну нехорошую весну в село не пришла жуткая беда под названием «газификация». По кривым сельским улочкам потянулись жёлтые трубы. Это был конец. Угольные котлы всё лето массово сдавались скупщикам лома, и знаменитый котельный Кулибин оказался в пролёте. Иван Сергев тужил всё лето, и как жить дальше, ему не представлялось…
Как-то вечером он тосковал на лавочке возле двора. По селу несло дым – соседи палили ботву, вырыли картошку. Дочь пропадала на работе, внук где-то отирался. Иван Сергев глядел на остывающий сентябрьский закат, курил и вздыхал.
С дальнего поля долетало ворчанье трактора – заезжий фермер осваивал заброшенные местные угодья. Возле бывшего котельного мастера затормозил на велике кум:
– Здорово, Сергев!
– И тебе не хворать. Далеко ли, на ночь?
– Да вон, слышу, пашут. Дай, думаю, доеду до тракториста, может, согласится огород вспахать. – Кум уложил велосипед, примостился на лавочке рядом. – У меня ж сорок соток. То дети из города наезжали, лопатили, а нынче что-то хитрят: «заняты», говорят. Ага.
– Конечно, заняты. И я б тоже на их месте занятым прикинулся… Хех – сорок соток под лопату!
– Ну ты-то понятно, – ухмыльнулся кум, – а положи б тебе, скажем, по тыще за сотку?
– По тыще… Кто ж по тыще положит? Ты, что ли? По тыще ты и сам бы…
– Да вот. Ты не знаешь, почём нынче берут, чтоб трактором? Прошлый год, говорили, будто по три червонца?
– Не знаю.
– Ладно, как-нибудь договорюсь. Помнишь, как раньше – за магар. Что вот за магарыч бы не вспахать, а? Что им всем сделалось? Упёрлись все в эти червонцы! Ещё сват звонил, просил за его огород тоже спросить. Ладно, поеду.
– Давай. Кати.
Кум укатил. А Иван Сергев от нечего делать принялся умножать три червонца на сорок кумовых соток. Получалось не то, как за котёл, маловато. Потом вычел из результата стоимость солярки и расходы на амортизацию. Вышло уже совсем жиденько. Зато когда умножил жиденький результат на количество огородов сперва на своей улице, потом на улице Ленина, прибавил огороды в Кривом переулке, на Ершовке и за Маминым оврагом, даже присвистнул. Трясущимися руками достал «Приму», закурил.
– Вот это ж какие деньжищи загребёт тракторист!
Солнце село, ветерок стих, дым с огородов придавило книзу, и глаза защипало. Зависть изнутри больно торкала в рёбра, стучала в виски. В сумерках кум скрипел на своём раздолбанном велике обратно. Иван Сергев слышал, как он бросил кому-то через забор, что не договорился, и ещё добавил что-то склизкое про морду тракториста. Дочь вернулась с работы, прибежал внук. Иван Сергев докурил и отправился в хату. Ужинать не стал, прошёл сразу в свою комнатушку, поднял матрац, достал жестяную коробочку и долго пересчитывал её содержимое. Ночью Иван Сергев ворочался, вздыхал. Несколько раз выходил покурить, спотыкался, хлопал дверью. Утром, чуть свет, Ивана Сергева видели на остановке, откуда автобусы идут в райцентр…
Бабье лето в тот год получилось таким, как полагается. Было всё: и кленовое золото на взлобке за оврагом, и паутинки в лицо, и запах грибов в пёстром лесу. Народ сносил в погреба картошку, палил ботву – тянуло горьковатым дымком. Как-то на закате кум выполз на лавочку, закурил, задумался. Бог его знает отчего. Так уж само получается – если погожая осень, то вечерами обязательно думается. Осеннее обострение – так нынче говорят.
Солнце незаметно село. За оврагом, под гаснущими облаками почернел лес. По просёлку, что выбегает к селу из леса, запрыгал огонёк. Вот огонёк спускается в балку – пропадает.
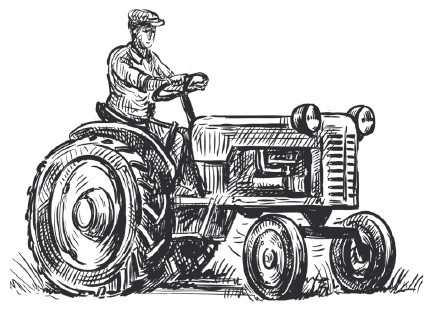
Снова выныривает, дрожит. Потом огонёк провалился в овраг, а когда вылез, кум услыхал трактор. Спустя пять минут ржавый раздолбанный МТЗ въехал в улицу, прокоптил мимо кума, дохнул в лицо солярочным теплом, звонко протряс развинченным четырёхкорпусным плугом, встал возле двора Ивана Сергева, уронил плуг и заглох. Дверей нет, морда набекрень, крылья и стёкла отсутствуют. В сумерках куму показалось, что подобную технику он уже видал: это когда внуки гостили, показывали ему боевик про апокалипсис и восстание машин. Из кабины высунулся сапог Ивана Сергева, стал нащупывать подножку. Не нашёл подножки и убрался. Взамен сапога из кабины показался промазученный зад тракториста и тот же сапог – пяткой вперёд. Кум подошёл, пособил спуститься, кивнул на сельхозтехнику:
– Это чево?
– Чево-чево! Сам не видишь? – Иван Сергев сиял.
– Твоё, что ли… это?
– Моё.
– Купил?
– Ээ… Понимаешь, по дешёвке, грех было отказаться.
– Грех, говоришь, отказаться? А я всё думаю-думаю, как эта марка называется… А это – «Грех»! – Кум ткнул пальцем в трактор марки «Грех» и загоготал. Единственный подбитый глаз – фара – примотан проволокой, вместо подножки к раме приварен кусок арматурины, под двигателем по земле растекается масляная лужа, тонкая струйка масла из трещины в шланге орошает отполированные до сияния отвалы и полусъеденные лемеха. Кум засомневался: – Ну, и что с этой развалиной делать? Он же… – Кум не договорил. Раздался хлюп, и на пожухлую траву из радиатора пролился кипяток. – Ладно, положим, представим, что в порядок ты это приведёшь. Но объясни мне: зачем? От скуки?
– Ээ, бестолковый! Я ж для вас стараюсь!
– В смысле?
– Ну, охота тебе твои сорок соток лопатить, а? А тут – р-раз, и всё!
– Ага. Ты его сперва заведи.
– Щас! – Иван Сергев достал с пола кабины тросик, намотал на пускач, напружинился, рванул. Пускач чихнул, трос вырвался, ожёг трактористу руку и засвистел на крышу дома.
Иван Сергев собрался за ним лезть, но только тут обнаружил, что на дворе совсем стемнело. Приобретая, богатея и заботясь, он не заметил, как прошёл короткий день позднего сентября.
Кум кивнул ему: «Ну-ну», – и пошёл домой.
Скоро проснулась луна. Она выглянула из-за разрушенной силосной башни, осмотрелась, медленно встала и засияла.
Кум бродил дома по комнате, маячил, выглядывал из-за шторы. В лунном сиянии старый МТЗ возле соседского двора казался мастодонтом. Он подозвал свою старуху взглянуть в окно:
– Гляди, чего наш Куркуль учудил.
Старуха увидала мастодонта, облитого зеленоватым лунным светом:
– Эт чего, никак трахтор?
– Ага. Куркуль говорит, что пахать на ём будет. Хех!
– Ну и молодец он. Это ты, обормот, всё чего-то торкаешься. Шоркаешься, торкаешься… И чего торкаешься, дери тебя? А Куркуль всегда свою копейку возьмёт.
– Эт как? По три червонца-то? Ну да, много он возьмёт.
– Много не много, а ты прикинь: у тебя, дурака, по три червонца, в Кривом по три червонца, на Ершовке опять же… О-хо-хо…
– Эк ты, мать честная! – удивился кум. Он вдруг озадачился, остолбенел. Старухина математика тлеющим угольком свалилась за пазуху, прямо в душу упала. Ох…
Когда включил новости, так и не углядел, что же там в Сирии: решили бомбить или как. Что-то жаркое припекает рёбра изнутри.
Старуха погремела на кухне, позвенела посудой и отправилась спать…
Огни на улице погасли. За оврагом выбрехала свою заботу последняя бессонная дворняга, и село стихло.
Луна медленно плывёт на запад. Над кумовым лежаком потукивают ходики – тик-так, тик-так, тик-так. Кум ворочается, ерзает, скрутил жгутом свою заплатанную простыню. Вздыхает:
– Эт сколько ж Куркуль загребёт? Ты подумай! В Кривом, на Ершовке… А ещё ведь наша улица есть, улица Ленина опять же. Ещё и за Маминым оврагом огороды имеются. Эк ты, мать честная! О-хо-хо…
Всю ночь кум выходил на крыльцо, курил, мозговал. Хлопал дверью, скрипел половицами – будил старуху, и та ворчала. Позвонил свату, поделился. Сонный сват выслушал его молча и послал. А тлеющий уголёк в душе разгорался в большой всепожирающий пожар, и с этим пожаром надо было непременно что-то делать.
Когда проорали третьи петухи и за окошком побелело, он таки выдумал, как объегорить Куркуля.
Мешкать было нельзя. Вот-вот совсем рассветёт, Иван Сергев выйдет к своему мастодонту, примется дёргать пускач. Наверняка у него и масло имеется – заправит свой металлолом. Чего доброго, этот хлам и правда заведётся. И тогда…
– Эк ты, мать честная! Не дай Бог! – Кум натянул штаны, влез в галоши и решительно шагнул с крыльца. Просунулся в сарай, долго там гремел – искал в сумерках потребный инвентарь: – Мешкать нельзя! Нельзя мешкать!
Наконец он обрёл инструмент, который искал…
С лопатой кум вышел на огород, поплевал на руки и вогнал её в борозду:
– Сорок соток по три червонца? На-ка! Хрен тебе мои денежки! Предприниматель!..
Медленно-медленно поднялось снулое сентябрьское солнце, насилу пробудилось и уж тогда только разлилось повсюду. Мир начинал просыпаться. Где-то мычала корова, гремел своей цепью Барбос, во дворах хлопали двери. Живописное осеннее утро растекалось по миру, лилось по всей вселенной. В перелесках к последнему теплу лезли сквозь золото, торопились опята.
Кум потел, торопился, кум скрипел жёлтыми зубами, налегал на лопату:
– Этот жук придёт наниматься, а я ему – кровопийце – шиш!
Ладони у кума горели, отнималась нога, а край огорода ни вот настолечко не приближался. Зато костёр в душе затухал, жар унимался…
А на Ершовке в это время, матерясь и охая, налегал на лопату сват.


