ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Грохочут выстрелы. Это расстреливают Алексея Ивановича Муругова и его товарищей. Их расстреливают под открытым небом, под голубым сияющим небом 21 июня 1943 года. Они всего в каких-нибудь пятидесяти метрах от нас, стоящих внутри барака. Они падают мертвые — Алексей Иванович Муругов и его десять товарищей, наших товарищей, евреев, советских военнопленных.
Мы стоим внутри барака — человек семьдесят. Лица белые, почти окаменевшие, чуть дрожащие. Тишина. Но тишина только снаружи, а в сердце, повторяясь, как эхо, еще стучат выстрелы. Грохочут выстрелы. Наши товарищи уже мертвы…
Мы в Австрии, в концентрационном лагере Маутхаузен. Когда четыре дня назад два охранника привели меня из тюрьмы прямо в вагон, который они называли вагоном смертников, и я, очутившись в нем, сказал, что нас везут убивать, мне не поверили. В вагоне были мои друзья и знакомые по зондерблоку (были и незнакомые, доставленные после моего побега), они радостно встретили меня, они думали, что меня уже нет в живых, но они не поверили, что мы в вагоне смертников. Они говорили: это бессмыслица, нас вымыли в бане, нам дали чистое белье и обмундирование; зачем бы немцам это делать, если нас собираются убивать? Но я-то своими ушами слышал, как один из охранников спросил у часового, который прохаживался по платформе вдоль состава: «Где тут вагоны смертников?» — и как тот ответил: «Zwei letzte» («Два последних»). Меня втолкнули в самый последний, а Муругов был в предпоследнем, и я еще жалел, что не могу рассказать ему, как меня поймали и что было потом…
Мы все еще стоим, прислушиваясь к ударам собственного сердца. Наших товарищей уже нет. Их, как и нас, по прибытии в Маутхаузен постригли, побрили, вымыли под горячим душем, переодели в свежее белье, и вот их расстреляли… Зачем же стригли и брили? Зачем везли сюда через три страны?..
За окном, за густыми рядами колючей проволоки, натянутой на каменные столбы с белыми изоляционными катушками, погромыхивает тележка. На ней — что-то, прикрытое брезентом. Тележку, сгибаясь от натуги, тянут двое в пестрой одежде. Они катят ее в ту сторону, где из-за крыши соседнего барака торчит верхушка закопченной трубы с тоненькой струйкой дыма. Внезапно мы все понимаем: это что-то — тела расстрелянных, и их отвозят в крематорий.
Скоро от них останется лишь грудка пепла, серая горка золы… Нет, не так. Не пепел, не зола — они, убитые, уже стали частью нас самих, и, пока бьется наше сердце, они будут жить в нас, в нашей памяти, в нашем сердце.
Тишина… Прощайте, товарищи!
Открывается узкая дверь, входит толстый сутулый человек с сильно развитой нижней челюстью. В руках у него белые прямоугольные тряпицы и коробка с железными номерами. Вслед за ним двое уборщиков втаскивают носилки с одеждой. Они выдают нам куртки, брюки и шапки — мы в одном нижнем белье, — сутулый человек вручает каждому по две тряпицы и по железному номеру. Он объясняет на ломаном русском языке, что тряпицы с намалеванными на них цифрами и красным треугольником мы должны пришить — одну к куртке, над сердцем, другую к брюкам с правой стороны, пониже кармана; жестяной номер с выбитыми на нем теми же цифрами мы обязаны прикрепить проволочкой к левой руке. Это наши документы, и мы должны беречь их, если не хотим вылететь в трубу… Молча принимаемся за работу.
Через полчаса мы готовы. Толкачев щупает свои красные суконные штаны, Затеев ворочает плечами— пиджак ему явно тесен, — Жора Архаров внимательно исследует подкладку голубой куртки: а вдруг там что-нибудь спрятано? На наших спинах — красная масляная полоса, такие же полосы по бокам брюк — вроде коротких лампасов.
— Кто же мы теперь? — озадаченно спрашивает Савостин, мой новый знакомый.
— Клоуны какие-то, — подавленно замечает Жора. В помещение, где мы стоим, вносят два стола и несколько табуретов. На них рассаживаются молчаливые люди, облаченные в гражданскую одежду, но тоже с тряпицами и красными полосами. Они раскладывают перед собой какие-то формуляры. Сутулый приказывает подходить к ним. Вероятно, собираются регистрировать.
Я не ошибаюсь. Мы называем свою фамилию и имя, национальность, год рождения, вероисповедание. Нас спрашивают на исковерканном русском языке, и когда, отвечая на последний вопрос, я говорю, что неверующий, меня не понимают.
— Католикер? Протестант? Православный? Магометанец? — пытаясь разобраться, торопливо произносит тихий, словно пришибленный человек.
— Атеист, — говорю я, но он все равно не понимает. — Gottlos, — догадываюсь наконец сказать по-немецки.
— Ach, Gottlos! — восклицает человек и пристально глядит мне в глаза. — И ты не маешь… как это… страха?
— Почему?
— Как это?.. Ад? Да?.. Попадать ад?
— Нет, ада нет, — уверяю я его.
Когда отхожу от стола, кое-кто из товарищей пеняет мне: для чего нужно декларировать тут свои убеждения, лучше уж так, записаться каким-нибудь православным, магометанином или даже католикером, вроде Коли Янсена. Черт с ними! А то, говорят, в концлагере верующих только расстреливают, а безбожников обязательно вешают. Впрочем, Архаров и Савостин тоже записались неверующими. Они тоже не знали.
После регистрации нас выгоняют во двор, мощенный крупным булыжником. Печет солнце. Я и Толкачев подходим к железной сетке, протянутой от угла нашего барака к углу соседнего. У замкнутых проволочных ворот сидит человек с маленькими свирепыми глазами.
За сеткой видны ряды зеленых стандартных бараков и высокая каменная стена — она тоже оторочена колючкой, прикрепленной к изоляционным катушкам. Справа над барачными крышами возвышается сторожевая башня, из ее открытого окна глядит тупое рыло пулемета.
— Вот, Леша, — говорю я, — отсюда совсем не уйдешь.
— Да, — отвечает он. — И Алексея Ивановича тоже нет…
На крыльце нашего барака появляется кряжистый седоватый немец.
— Antreten (Строиться)!
На рукаве его темного френча белая нашивка со словом «Blockältesler» («Старшина блока»). На груди, как и у нас, белая матерчатая полоска с красным треугольником. Только номер у него четырехзначный, а у нас — пятизначный.
Мы строимся. Старшина приказывает подравняться, проходит мимо, поглядывая на наши номера, потом заставляет поворачиваться налево и направо, кругом, стоять смирно и вольно. Убедившись, что мы хорошо понимаем его команды, он требует снять шапки и надеть их вновь, снять и надеть. Наконец и эту команду — «Mützen ab» и «Mützen auf» — как будто усваиваем.
Где-то внизу, у лагерной стены, раздается мелодичный удар колокола. Человек со свирепыми глазками, распахнув ворота, становится в наш строй. Из барака выбегают уборщики, какой-то толстяк с папкой под мышкой. Они тоже подстраиваются к нем. Старшина командует: «Stillgestanden!» («Стоять смирно!»), — потом шагает к раскрытым воротам — оттуда, взбираясь по ступеням, показывается серо-зеленая фигура эсэсовца.
Эсэсовец, выслушав рапорт старшины, пересчитывает нас. Примерно через полчаса во двор вносят несколько закрытых железных бачков, и нам выдают по миске горячей брюквенной похлебки.
2
От обеда и до вечера, все еще подавленные расстрелом товарищей, мы продолжаем тихо бродить в загородке под палящими лучами солнца. Когда тень от соседнего барака добирается до середины двора, мы вновь слышим мелодичный удар колокола и по команде старшины опять становимся на проверку.
Вся процедура повторяется: подравниваемся, глядим прямо, снимаем шапки; старшина рапортует эсэсовцу, именуя нас «хефтлингами».
Вскоре в ворота вступает колонна до предела худых, запыленных с ног до головы людей. Все они в полосатых шапках, в пестрой одежде с номерами, в деревянных колодках. Колонна растекается по двору, и вдруг кто-то сзади хватает меня за рукав. Я оборачиваюсь и не верю своим глазам. Передо мной Ираклий, изможденный, черный, состарившийся Ираклий.
Мне кажется, что это — злое наваждение. Я трясу головой. Я вижу в его глубоко запавших, затравленных глазах слезы.
— Думал, что хоть ты не попадешь сюда, — шепчет он.
— Так здесь плохо? Он кивает.
— А где остальные наши?
— Частью расстреляны, частью еще работают.
— А Худяков?
— Пока жив.
— Виктор?
— Жив еще…
Снова приказывают строиться. Я слышу вокруг французскую, польскую, немецкую и русскую речь — все вперемешку.
— Anlrefen! — резко повторяет старшина и достает из-за спины резиновую палку.
— Бьют?
Ираклий только кивает.
Друг за другом подходим к раскрытому окну. Сутулый сверху вниз сует нам по куску хлеба и кружочку фиолетовой колбасы. От окна сворачиваем к железным бачкам, поставленным в центре двора, и получаем по маленькому черпаку кофе.
Я нагоняю Ираклия.
— Кто этот раздатчик?
Ираклий, не ответив, шагает в дальний угол загородки и садится на камни.
— Почему ты такой бледный?
— Я месяц провел в тюрьме, немного ослаб, — отвечаю я.
— Бас завтра погонят на работу?
— Не знаю. Пока ничего не объявляли.
— Тебя убьют в первый же день, — быстро шепчет он. — Тебе нельзя сейчас на работу. Тебя убьют.
— Почему?
— Слабых убивают сразу. Тебе нельзя. Надо что-то делать.
Он даже не ест.
— Ты все-таки ешь…
Он выпивает кофе, а хлеб и колбасу кладет в котелок. Я принимаюсь за хлеб.
— Колбасу не трогай, — предупреждает он. — Может, выменяем брюквы.
Он ищет кого-то глазами. Я тоже: мне хочется побыстрее увидеть Худякова и Виктора.
— Кого расстреляли, Ираклий? Когда?
— В конце марта. Большую группу. Ребята пытались резать стену вагона, но не успели. Их накрыли. Всех потом расстреляли.
— А Зимодра, Костюшин, Типот?
— Они были в другом вагоне, пока живы. Ираклий отламывает хлеб маленькими кусочками и старательно пережевывает, как старик. До нас долетает сиплый крик сутулого — он высовывается наполовину из окна.
— Кто он?
— Это штубовой, чех по национальности, но редкая скотина. Сами чехи-заключенные ненавидят его. Бывший адвокат, — негромко говорит Ираклий. — А старшина блока, блоковой, как мы его зовем, немец, — кажется, социал-демократ — Штумпф. Зверь, но с причудами. Писарь, толстый такой — заметил? — поляк Проске, профессор-химик, бывает ничего, но временами тоже звереет… Подонки, выжившие на костях других, — шепчет Ираклий и поспешно добавляет: — Поменьше попадайся им на глаза… Но что делать с тобой?
Он опять ищет взглядом кого-то.
— Игнат! — вдруг выкрикивает он и поднимается. — Игнат, возьми две наши колбасы.
Я встаю и вижу Зимодру. Он окружен группой товарищей, лица которых будто знакомы. Все просят его о чем-то. Зимодра сильно осунулся, потемнел, но глаза, как и прежде, смелые, с отчаянным холодком.
Ираклий забирает мою колбасу, прикладывает к своей и через головы протягивает Зимодре.
— Обождите, ребята, — медленно говорит Зимодра. — А если засыплюсь?
Взгляд его падает на меня, он кивает так, словно мы расстались вчера.
— Ладно, давай, — говорит он Ираклию. — Попытаю счастья… Ты что-то очень бледный. Болел?
— В тюрьме сидел, — отвечаю я.
— Это плохо. Плохо. — Спрятав котелок с колбасой под куртку, Зимодра исчезает в толпе.
Мы с Ираклием находим Виктора — его лицо отекло, а шея стала тонкой, как у ребенка; разыскиваем Худякова — меня кидает в дрожь, когда я вижу его усохшие, узенькие плечи; Костюшина — черного, печального; маленького, сгорбленного Типота…
Плохи, видно, наши дела… Мы направляемся снова в дальний угол двора. Ираклий рассказывает, что на работе бьют. Бьют палками, черенками лопат, кирками, ломами. Бьют уголовники-надсмотрщики, бьют и эсэсовцы-командофюреры. Бьют и убивают не только на работе, но иногда и в бараке, на блоке, как здесь выражаются…
Перед отбоем нас загоняют в спальную комнату барака, в «шлафзал». Тут по всему полу расстелены тощие тюфячки. Выстраиваемся в несколько рядов лицом друг к другу, раздеваемся, затем по команде сутулого штубового: «Ab!» — ложимся. Мы почти падаем, чтобы успеть занять место: на каждом тюфячке должны поместиться четверо. Укладываемся впритирку, свернутую одежду убираем под голову.
Ираклий возвращает мне фиолетовый кружочек колбасы. Сегодня Зимодре не удалось прорваться в общий лагерь, где можно выменять у заключенных иностранцев хлеб или брюквенную похлебку — тут некоторые иностранцы получают посылки и не едят лагерной баланды… Ираклий огорчен. Я не очень. Что-то будет с нами завтра?
3
Нас, новичков, на работу пока не посылают. Мы проходим «карантин». И весь наш барак — по-здешнему, восемнадцатый блок — считается почему-то карантином.
Мы встаем, как и все, в половине седьмого, умываемся и получаем во дворе кофе. Затем старшина блока Штумпф приказывает строиться. Мы, новенькие, становимся своей группой, старожилы — своей; точнее, они выстраиваются в колонну по рабочим командам: политруки, мои давние товарищи, образуют так называемую баукомандо-айнс, советские военнопленные, доставленные сюда еще осенью 1941 года, — команду каменотесов, часть иностранцев, размещенных на нашем блоке, — команду чернорабочих каменоломни.
После их ухода и утренней проверки нас на короткое время распускают. Мы сидим на камнях, прогуливаемся или издали через окно наблюдаем, как завтракает штубовой. Скоро мы снова видим кряжистую фигуру Штумпфа. Снова — «Antreten!». Под его водительством мы маршируем, бегаем, ходим гусиным шагом, тренируемся в исполнении различных команд, особенно в снимании и надевании шапки…
В наше первое маутхаузенское воскресенье, знойным ярким утром, Зимодра знакомит меня с одним из старых военнопленных. Это невысокого роста светлоглазый человек с кривым носом. Его зовут Леонид Дичко. Он работает в команде каменотесов, а по вечерам делает уборку в комнате, которую занимают Штумпф и писарь Проске. Дичко — лейтенант, он хорошо понимает по-немецки, он серьезен и держится с достоинством. Штумпф почему-то уважает его.
— Где ты был в тюрьме? — спрашивает Дичко.
— В Польше, в городе Хелм.
— За побег?.. И оттуда в Маутхаузен?
— Он еще тиф перенес до этого, — говорит Зимодра. — Угробят завтра парня, в момент.
— Ваша группа пойдет завтра на работу, — говорит Дичко, — но я попробую потолковать со Штумпфом, может, удастся придержать тебя некоторое время на блоке, уборщиком каким-нибудь… Ты знаешь немецкий?
— Да, но я не хотел бы…
— Тогда будет капут, милый. А что зазорного в том, что ты побудешь уборщиком?
— Хорошо. Если это так, — я согласен. Дичко усмехается.
— Согласен… Дай бог, чтобы Штумпф согласился.
— А Смольянинова нельзя подключить? — спрашивает Зимодра и поясняет мне: — Тут вечерами приходит на блок один художник-академик, бывший эмигрант Смольянинов, он пишет картины для коменданта лагеря…
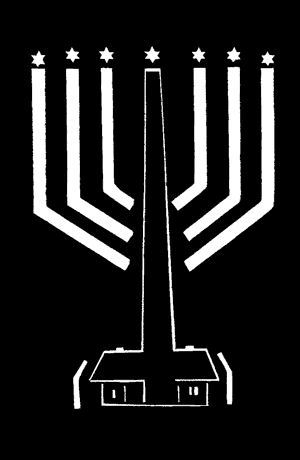
— Со Смольяниновым я тоже поговорю, думаю, он не откажет, — отвечает Дичко. — Ну, пока.
Он уходит в барак, а Зимодра по секрету сообщает мне, что Дичко хранит орден Красного Знамени, который ему, Зимодре, удалось незаметно протащить в лагерь.
— Тебя же могли повесить, Игнат.
— И Дичко могут повесить. В Маутхаузене это запросто…
Я горячо благодарю Зимодру за поддержку.
— Ты погоди, погоди, — чуть смущается он. — Еще ничего не сделано. Как там еще блоковой, шут его знает. У него всякие бывают заскоки: то зверь, то вроде н? человека смахивает.
— Важно, что мы на него не смахиваем.
— Оно, конечно, — улыбается Зимодра. — Самое важное в войсках — высокий моральный дух… Однако вопрос наполнения желудка тоже существен, а посему я займусь небольшой рекогносцировкой… По-позднее увидимся.
Он плывущей походкой направляется к воротам, возле которых сидит человек со свирепыми глазками. Я вижу, что Зимодра пытается о чем-то договориться с ним и что тот — он из числа старых военнопленных, его зовут Володей, — что этот Володя, кажется, торгуется с Зимодрой.
Я разыскиваю Толкачева и говорю, что нашу группу завтра погонят на работу. Ребята хмуро молчат: они тоже достаточно наслышаны о том, какая здесь, в концлагере Маутхаузен, работа.
4
Двор пустеет. Расходятся после утренней проверки те немногие, кто остается на блоке. Уборщики — мне это видно с улицы через распахнутые окна — начинают натирать полы в комнатах. Я занимаю свой пост у ворот вместо свирепого Володи, который сегодня отправился с командой каменотесов.
Сегодня не жарко. Небо затянуто легкими облаками. Солнце выглянет на секунду, брызнет горячим светом и снова прячется в белых барашках, прыгает от облачка к облачку, плывет за тонкой пушистой пеленой светлым диском.
Нынче тревожный день. Товарищи из моей группы работают там, за лагерной стеной. У меня такое чувство, будто они воюют и им приходится очень плохо: они воюют безоружные, окруженные врагом, они опять пытаются прорваться сквозь вражеское кольцо.
А я в тылу, пока в тылу. У меня передышка. Потом я тоже пойду туда, я знаю…
Я стою у замкнутых проволочных ворот. Штумпф сам объяснил мне мои обязанности, и одна из них — открывать ворота перед эсэсовцами…
Я открываю. По каменным ступеням поднимается приземистый, с болезненным лицом эсэсовец-блокфюрер.
Он поднимается, не сводя с меня глаз. У него тяжелый и какой-то липкий взгляд. Поравнявшись со мной, он еще некоторое время молча озирает меня, словно чего-то ждет. Я смотрю на него.
— Что, недавно тут? — спрашивает он.
— Недавно.
— За что попал?
— За побег.
— Ну, отсюда ты уже не убежишь, мой дорогой друг (Mein lieber Freund), — злорадно произносит эсэсовец и, гремя подковками, шагает к бараку…
Я стою. Я слышу, как внизу, в общем лагере, раздается крик «Блокшрайбер!».
— Блокшрайбер! — кричу я, повернувшись к открытым окнам.
Это тоже моя обязанность — передавать на блок команды, которые подаются в общем лагере.
Писарь Проске, оплывший от жира, в широченных штанах, проносится мимо меня, на ходу вытирая вспотевшую лысину.
Он возвращается минут через сорок, кроткий, с умиротворенными глазками.
— Ты всегда так делай, — говорит он мне по-русски и кивает головой. — Так громко кричи и потом растворяй брому, эти ворота, как ты сегодня делал. Понимаешь?
Он задерживает на мне голубенькие глазки, глазки-цветочки. Очевидно, он сейчас в хорошем расположении духа.
— Ты служил где? — подумав, спрашивает он с рассеянной улыбочкой на круглом, украшенном тройным подбородком лице.
Я понимаю, что ему хочется поговорить со свежим в лагере человеком — просто так, по-людски поговорить.
Отвечаю, что в последнее время я служил в штабе дивизии.
Проске кивает. У него на розовой шее пониже затылка шрам крестиком: видимо, вырезали лишний жир.
Он кивает, и розовая кожа натягивается, и шрам чуть разглаживается.
— И я служил в штабе, — сообщает он. — Я служил в штабе корпуса. Понимаешь?
— Понимаю.
— Я был майор. Понимаешь?
— Понимаю.
Проске кивает. Шрам разглаживается. Он еще раз взглядывает на меня голубенькими цветочками-глазками и, немножко оступясь на неровностях булыжника, идет в барак.
Тоже экземпляр, думаю я. Обжирается, наверно. А ведь и он числится политическим заключенным…
По-видимому, для богатых людей в Маутхаузене — один режим, а для бедноты — другой.
Солнце, прорвавшись в прогалину облаков, окатывает двор жарким светом… Ребята воюют. Они воюют за жизнь. Окружение продолжается, война продолжается.
Где-то за тысячу километров отсюда громыхает фронт. Там гибнут и враги и наши — здесь гибнут только наши.
Неужели они все-таки дойдут до нас, придут и освободят? Когда это будет? Уцелеем ли мы до той поры? Неужели возможно такое счастье?
— Кострегер! — доносится снизу. «Кострегер» — это доставщики еды. Странное слово, думаю я. — Кострегер! Кострегер!
— Кострегер! — кричу я.
Из барака выходит штубовой с двумя уборщиками. Они отправляются за обедом. Мелко постукивают колодки по камням.
Холодной тушей проплывает мимо фигура штубового. Меня он не замечает: он меня сразу невзлюбил, я это чувствую…
Хочется есть.
Я ощущаю, как болезненно сжимается мой желудок. Есть, есть! Вот уже почти год, как непрерывно хочется есть.
Голод, все время голод. Сегодня почему-то особенно хочется есть.
Брюквы бы этой самой побольше бы! Я бы съел три, нет, четыре котелка этой брюквы — горячей, нарубленной тонкими кусочками и плавающей в желтоватой дымящейся воде.
Только приносят бачок с похлебкой — начиняется дневная проверка.
Потом штубовой берет круглый блестящий черпак. К моему удивлению и радости, он наливает мне, как и уборщикам, двойную порцию. Я ем дрожа, словно голодный пес.
Я съел бы четыре таких порции и все равно, наверно, не наелся бы. Я съедаю половину, а остальное, закрыз котелок крышкой, прячу под табурет.
Вечером, когда товарищи, запыленные, усталые и мрачные, возвращаются с работы, я разыскиваю Худякова и украдкой отдаю ему остаток обеденной похлебки.

