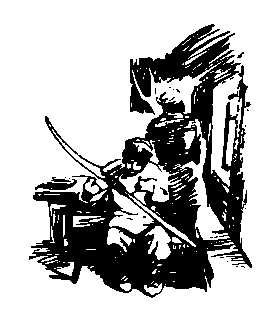А. Смирнов
СИГИЗМУНД СЕРАКОВСКИЙ
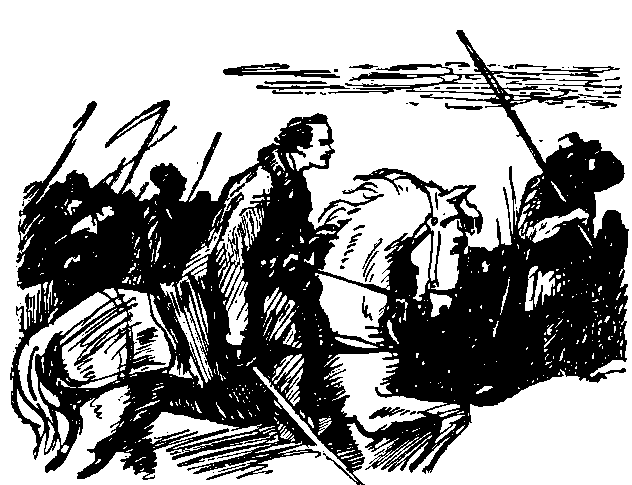
I
Стоявший у стола жандармский поручик докладывал генералу Дубельту.
— 21 апреля сего года у местечка Почаев на австрийской границе при подозрительных обстоятельствах задержан студент здешнего университета Сигизмунд Герасим Иосиф Гастра Сераковский, двадцати двух лет, католик, из дворян Луцкого уезда Волынской губернии. При задержании у него найден пистолет, впрочем, незаряженный, шпага дворянская, старый сюртук и баранья шапка. По заявлению корчмаря, Сераковский намеревался бежать за границу, расспрашивал о дороге, обещал деньги за услуги проводника. Однако положительных доказательств вины нет. Задержанный — местный уроженец, имел к тому же отпускной билет, выданный ректором университета, для поездки на родину и свидания с родными. Сам задержанный заявил, что ехал к дальнему родственнику, графу Сераковскому, которого почитает как отца родного, чтобы с его помощью собрать недостающие бумаги для утверждения в дворянском достоинстве.
— И это все, поручик? Есть ли у вас данные о его, Сераковского, поведении в университете? Из какой он семьи? Ведь он поляк? Где его отец?!
— По собранным данным, отец Сераковского Игнатий был одним из организаторов прошлого мятежа на Волыни, командовал шайкой бунтовщиков и убит под Уманью в 1831 году. Задержанный воспитывался в доме бабки своей Марии Моравской, также вдовы бунтовщика, обучался наукам в Житомирской гимназии, которую окончил одним из первых. В Петербурге в 1845 году был студентом математического факультета, затем перешел на камеральное отделение. Проживает на Васильевском острове — Пятая линия, дом Иконникова. Среди товарищей пользуется заметным влиянием. По отзывам начальства, поведения положительного и ни в чем предосудительном замечен не был. Имеет знакомства среди здешних обывателей поляков, принят в доме графа Ржевуского, у которого, по слухам, исполняет обязанности секретаря. Частным образом удалось узнать, что в доме у графа Сераковский произносил речи в коммунистическом, мятежническом духе, заявляя, что давно пора вырезать всех дворян, чем весьма смутил гостей графа.
— Кто же они?
— Епископ Головинский — ректор римско-католической духовной академии; профессор Сенковский, впрочем, более известный в литературном мире под псевдонимом барона Брамбеуса; статский советник Вацлав Пршибыльский — издатель газеты «Тыгодник». Посещают они дом Ржевуского более для ученых и литературных собеседований, коих граф — поклонник муз и покровитель талантов — большой любитель. Говорят, что он и сам пописывает и некоторые из его вещиц удостоились похвалы Адама Мицкевича. Задержанный помогал графу в его литературных трудах, был обласкан их светлостью, но ответил черной неблагодарностью. Говорят, в тот вечер, когда он, распалясь, грозил истребить дворян, графине сделалось дурно, Сенковский хотел доложить о случившемся университетскому начальству, да граф отсоветовал, боясь, что это уронит честь дома.
Выслушав доклад, Дубельт отпустил чиновника и в задумчивости несколько раз прошелся по кабинету.
В молодости он сам слыл либералом. Кочуя с полком по имениям западного края, любил при случае произнести красивую фразу о высоком назначении человека. С годами, однако, некогда пылкий прапорщик обрюзг и полысел, сменил скромный армейский сюртук на расшитый золотом голубой мундир, сохранив привычку пофилософствовать на досуге. Дубельт любил во время допросов пускаться в «откровенные» излияния, чтобы увлечь очередную жертву в западню и склонить к «чистосердечным сознаниям». Старым, опытным сыщиком был Леонтий Дубельт, и недаром наблюдательные современники сравнивали его с лисой.
В этот солнечный майский день генерал поеживался и хмурился. Вести, полученные им, были не из приятных. Он обдумывал прочитанные депеши, глядя в окно на Марсово поле. Обычно, наблюдая движения войсковых колонн, любуясь молодецким видом солдат, он быстро возвращал себе утраченное спокойствие, приобретал уверенность и решимость. Однако на сей раз возникшее беспокойство и смутные подозрения не исчезали. Изученное им дело Сераковского невольно связывалось с последними сообщениями о революционном движении в Европе. Побеги молодых людей, особенно поляков, за границу его не удивляли. Весной 1848 года они были особенно частыми. Правда, с тех пор как гвардия была расквартирована вдоль западной границы, там стало спокойнее. И вот опять побег. Да и побег ли это? Студентик, наверно, не так уж чист, как представляется с первого взгляда.
Пройдясь по кабинету и потирая самодовольно руки, генерал позвонил и, приказав привести к нему Сераковского, сел к столу. Перелистывая бумаги, он думал, с чего начать разговор, как склонить арестованного к откровенности. Пальцы привычно перебирали прошитые, украшенные двуглавым орлом листы. Глаза бегали по четко выведенным строкам, а мысли генерала унеслись далеко. Было о чем подумать управляющему Третьим отделением императорской канцелярии. Время наступило тревожное. Весенние грозы проносились над Европой. В Париже свергли короля. В Вене народ строил баррикады. В Польше и Литве неуловимые эмиссары агитировали в пользу мятежа. Даже в Петербурге молодежь толковала с социализме. Ах, уж эти студенты! Ведь и мундиры пожаловали им, а все какая-то вольница. Глаз да глаз за ними нужен! Все чем-то недовольны. Пора кончать с вольнодумством, с польской крамолой.
Не Сераковский ли этот у них за предводителя? Уж больно ловок в ответах. Интересно, каков молодчик с виду? Только бы зацепить его, а там, глядишь, распутается и весь клубок.
Дубельт все более склонялся к мысли, что Сераковский попал на границу не случайно, что он много знает и нужно только вытянуть из него нужные сведения.
Доложили, что арестованный доставлен. Дубельт приосанился. И вот перед ним невысокий худощавый блондин. Генерал немного разочаровался. Ничего, казалось, примечательного в облике студента не было. Он казался даже каким-то сутулым, болезненным.
Привычно скрывая свои истинные чувства, Дубельт начал с выражения удовольствия от встречи с представителем молодежи, воплощающей надежды нации на будущее, с человеком, прекрасно понимающим тревожное время, заслуженно снискавшим уважение коллег и любовь профессоров.
Сераковский молча поклонился в ответ и опустился на предложенный стул.
— Как вы относитесь к требованиям введения конституции? — продолжал Дубельт. — Ведь подлинные патриоты не могут в такое тревожное время
оставить страну без твердого руководства. Возьмем пример: разве можно на козлы посадить несколько кучеров? Ведь они, чего доброго, перепутают вожжи и опрокинут экипаж. Куда лучше вручить бразды правления одному хорошему и сильному человеку.
— О, конечно, — подал реплику Сераковский, — я за хорошего кучера, но, когда он умрет, я передам вожжи не его сыну, а выберу другого опытного человека. Ведь далеко не всегда сыновья наследуют отцовские качества.
— Да знаете ли вы, как мы поступаем в подобных случаях? Посмотрите на этот замок! — и Дубельт указал на Инженерный замок, в котором был в свое время задушен император Павел.
— Согласитесь, — спокойно парировал Сераковский, — что подобные крайние меры не всегда нужны. Если человеку нельзя доверить вожжи, то его лучше сразу послать пахать землю, а не сажать на отцовские козлы.
— Неужели все ваши коллеги считают себя хорошими кучерами? Да ведь не хватит на них и карет! — Генерал самодовольно откинулся в кресле. «Ну, на сей раз я его, кажется, срезал», — подумал он и пристально стал наблюдать за собеседником.
Сераковский сидел у стола, упираясь в колени широкими ладонями. Солнечные лучи, проникая через шторы, освещали его скуластое лицо. Из-под густых, косматых бровей на Дубельта смотрели проницательные глаза. Не каждый мог выдержать взгляд генерала, но этот, не смущаясь, смотрел, казалось, не в глаза, а в самую душу. Кашлянув, генерал встал, прошелся по кабинету.
— Ваши коллеги почитают себя наиболее разумной частью народа. Они вечно чем-то недовольны, всех и вся порицают. Для них нет ничего святого. Высочайше утвержденный университетский устав кажется для них стеснительным. Теперь вот многие направились за границу. Несколько человек задержано при попытке нелегального перехода. К чему все это может привести? Ведь вы же безрассудно губите себя.
— Генерал! Ваши слова полны живого сочувствия к молодому поколению. Я и мои товарищи видят в них образец высокого христианского служения человечеству. Бог всемогущ и всеблаг, но согласитесь, генерал, что он не прямо, а через лиц, проникшихся христианским милосердием, несет людям добро, помогает попавшим в беду. Я счастлив, что имею честь беседовать с человеком, готовым пожертвовать всем ради ближнего. Генерал, не каждый может понять, как много означал для вас переход из армии в это ведомство. Молодым орлам нужно научиться летать. Позвольте же им это и направьте их полет. Ваши слова окрыляют. Я готов служить отечеству. Направьте меня в действующую армию на Кавказ. У меня только одна просьба. Позвольте мне в армии продолжить учение в университете, подготовиться и сдать экзамен за полный курс… Ваше внимание и помощь помогут мне преодолеть все преграды!
Дубельт не успел ответить. В дверях появился адъютант.
— Ваше высокопревосходительство! Граф вернулся из Зимнего.
Спеша на доклад к шефу жандармов графу Орлову, Дубельт почти на ходу заканчивал разговор с Сераковским.
— Мой юный друг! Вы невинная жертва странного недоразумения. Я сделаю все, повторяю, все, что в моих силах, чтобы недоразумение было улажено и ваше желание служить отечеству и науке было удовлетворено. Я не забуду вас. Все мы помним слова августейшего монарха о нашем назначении. Что может быть выше и благороднее этого?
Дубельт явно желал напомнить собеседнику басню о платочке. Император Николай I вручил его графу Бенкендорфу при организации Третьего отделения, сказав: «Вытирай им слезу невинно обиженных!» Кто в России не знал этого! Но многие знали и о том, к чему приводила опека Третьего отделения. Об этом говорил печальный удел Пушкина, Лермонтова, Шевченко.
Что скрывается за лицемерным участием жандарма? Хотелось быть подальше от подобного источника тепла, чтобы не брать потом холодные сибирские ванны. Но первая и главная цель, кажется, достигнута: следствие идет к концу, и Дубельту не удалось вырвать у него признания.
На другой день Дубельт докладывал шефу жандармов графу Орлову:
— Полагаю, что Сераковского нельзя оставить в университете. По собранным мною фактам, он имеет пагубное влияние на товарищей. Вокруг него группируется молодежь — выходцы из Литвы и Волыни, недовольные существующим порядком вещей. Они не могут скрыть радости по поводу начавшейся в Европе революции, зачитываются Мицкевичем и Пушкиным. Вот посмотрите список книг, отобранных у Сераковского. Взгляните, граф, здесь наши старые знакомые — Данте, Вольтер, здесь же стихи Мицкевича, прославляющие Рылеева, сочинения французского историка Мишле, проникнутые самыми что ни на есть коммунистическими идеями. Я полагаю, что Сераковский стремился к мятежническим действиям. Идеи коммунизма весьма сильны в Западном крае, а он имеет там обширные знакомства. На днях мне донесли, что литовские и украинские мужики скупают в пограничных местностях оружие, шляются по корчмам, ведут разговоры о необходимости вырезать всех дворян поголовно. Такие, как Сераковский, только и мечтают встать во главе пьяного мужичья. Ведь он вел пропаганду даже в здешней римско-католической духовной академии. Епископ Головинский сообщает, что еще в прошлом году приказал Сераковского и в ворота академии не пускать. Он среди воспитанников хвастал тем, что его предки были мясники и умели пускать кровь дворянству. Я полагал бы удобным не ссылать Сераковского на Кавказ, против чего он, кажется, и сам не возражает, а послать его рядовым в линейные оренбургские батальоны. Там романтики поменьше, а порядок у генерал-губернатора Обручева потверже. Соответствующие бумаги мною заготовлены.
Орлов пробежал глазами докладную и задержался на заключительных строках; «Хотя улик к прямому обвинению нет, а сам Сераковский ни в чем не сознался, но тем не менее обстоятельства дела навлекают на него некоторое подозрение в намерении скрыться за границу, и потому необходимо принять в отношении его меры осторожности».
— Нахожу ваши соображения весьма здравыми и соответствующими воле его императорского величества. Пошлите Сераковского, не мешкая, в Оренбург в сопровождении толкового офицера.
* * *
Почтовые смотрители были людьми многоопытными. Задолго до прибытия очередной тройки они по звону колокольчиков и столбам дорожной пыли узнавали, кого бог несет. Влетая в ворота станции, фельдъегерская тройка заставала там уже готовую смену лошадей, и коляска мчалась дальше.
Мелькали деревни, позади оставались многие уездные городишки. Ночью промчались через Москву. Сигизмунд так и не успел рассмотреть первопрестольную. И вот опять те же знакомые картины: перелески, зеленеющие нивы, серая лента убегающей вдаль дороги. Который день мотало Сераковского в коляске, а привыкнуть не мог. Усталое тело казалось чужим. На ухабах подбрасывало и трясло.
За долгую дорогу Сераковский привык видеть перед собою широкую спину ямщика, слышать его песни. Под их монотонный заунывный напев посапывал сбоку сопровождавший его поручик. В душе Сераковский был даже благодарен ему: хоть с расспросами не приставал, не бередил душу. Хотелось замкнуться, побыть наедине с тревожными мыслями. Горько усмехнулся, вспомнил, как писал друзьям на прощание, успокаивая их: «Клянусь вам, что я спокоен. Я нимало не думаю о погребении. Будьте здоровы и веселы, как я здоров и весел. Ура! Отче наш! Да будет воля его на земле, как на небесах!»
А старую жандармскую лису он провел! Ведь так и не узнали голубые мундиры, зачем он ездил в Почаев. Правда, в Галицию пробраться не удалось, но цель была достигнута. Неподготовленный взрыв он предотвратил. Как горячились его друзья, узнав о революции в Европе, о победах Кошута! Казалось, что час выступления в Польше близок. Находились и такие, что требовали немедленного восстания в Вильно и Петербурге. Он вызвался поехать за границу, связаться с эмиграцией, заручиться поддержкой ее. В душе он надеялся, что радужные известия окажутся верными. Ему уже мерещились польские революционные легионы, марширующие из революционной Венгрии к границам Польши, но он считал необходимым тщательно все проверить, прежде чем принять решение о восстании. В пути его арестовали, но время было выиграно. Обстановка прояснилась, и преждевременно вспыхнувшие страсти улеглись. Не беда, если ему пришлось покинуть друзей, университет, родных.
Что ждет его в загадочных оренбургских степях? Ведь там зародилась пугачевщина. На берега Урала царица Екатерина сослала повстанцев Костюшко. Ее внук Александр выслал туда же друзей Адама Мицкевича, а его венценосный братец пожелал ознакомить с суровым краем молодого автора «Кобзаря», властителя дум украинской молодежи. Да только ли украинской? Ведь и среди товарищей своих Сераковский видел восторженное преклонение перед вдохновенным певцом. По рукам ходили списки его стихов. Царь запретил сосланному писать и рисовать, говорят, даже и петь. Но разве можно связать птице крылья? С далекого Арала он продолжает звать друзей к борьбе, к единству. Сераковский шепчет стихи Шевченко:
Вот так же польский друг и брат!
Мы и поныне в мире б жили,
Но нас, поссорив, разлучили
Коварный ксендз и враг магнат…
Сераковский улыбается при мысли о возможности встречи с Шевченко в оренбургских степях. Царь Николай стремится разрушить крепнущую дружбу украинцев с поляками, а они наперекор судьбе образовали бы славное содружество!
Коляску сильно тряхнуло. Ямщик привстал на облучке и, гикая, крутя вожжи над головой, перевел лошадей вскачь. Тройка помчалась над обрывом по наезженной дороге. Прямо перед глазами Сигизмунда открылась безбрежная водная ширь. Передняя кромка ее, обрамленная зеленой каймой, казалось, начиналась где-то под копытами лошадей, а дальше синева уходила к горизонту и словно терялась в небе. Над белыми барашками мягко катившихся волн взмывали чайки.
«Дорога в рай не может быть прекраснее», — подумал Сигизмунд.
— Куда завез, борода? — заворочался рядом поручик, протирая заспанные глаза. По привычке он поднял кулак, намереваясь ткнуть кучера в спину, как делал это всякий раз, просыпаясь. На этот раз рука осталась висеть в воздухе, а поручик так и застыл, не отрывая глаз от раскрывшегося перед ним вида.
— Это Волга-матушка, ваше благородие.
Тройка катилась вниз, к песчаной отмели.
Речная волна мягко бьет в замшелый борт парома. Нет надоевшей тряски, пыли, забивающей нос и рот. Только иногда вздрагивает тяжелый паром. Река, подобно могучему исполину, вздымает свою грудь, словно стремясь стряхнуть караваны барж и уйти свободной в зелень берегов.
Сераковский сидит в коляске, опустив подбородок в широкие ладони. Голубая, безмятежно веселая жизнь реки будит новые воспоминания. Уже не берега могучей реки, а зелень литовских дубрав видит он. Не всплески волн, а звуки родных милых голосов слышатся ему. Прошлое — далекое, дорогое, недоступное! Иные дороги, другие реки встают перед ним.
…Лето 1846 года. Друзья пригласили Сераковского на вакации в Литву. Несколько недель, проведенных на берегах Немана, теперь сливались в его памяти в зеленый сгусток лесных пущ, тихий шелест сказаний о прошлом, задорный спор молодых о завтрашнем. Как живые, стояли перед ним друзья.
Он приехал в гости к старшему из сыновей Деспота-Зеневича и был встречен, как человек близкий и дорогой. Сколько он пробыл там — неделю или вечность? Да и не все ли равно, сколько прошло дней, если наполнили они его душу солнцем, счастьем, ощущением молодости, избытка сил, безграничной любви к людям, желанием что-то свершить для блага их. Все казалось прекрасным; и мужики, с которыми он убирал сено, а потом жарким полднем бросался с обрыва в прохладные струи реки, и седые старцы сказители, и даже старый пан — отставной николаевский офицер.
Над всем витал, все скрашивал задорный смех Рашель. Что полюбилось в ней? Да и любил ли он ее? А может ли быть молодость не прекрасной, если непосредственность, простота пробивают себе дорогу через лабиринт условностей, прививаемых дочери пана с детства француженкой-гувернанткой?
В первый же день Рашель увела Сигизмунда в заброшенный угол старинного парка. Протащив через разросшиеся кусты роз, вывела на небольшую поляну, усеянную цветами. Нет, то были не цветы! Перед ним колыхались пышные султаны и сверкающие кивера. Милая угловатая девушка была поклонницей наполеоновской стратегии. Начитавшись реляций о сражениях и победах, она воспроизводила в цветнике движения колонн, причудливые схемы маршей и битв. В тот первый день он даже посмеивался над ребяческими забавами избалованного панского дитяти. Сигизмунд не мог принять всерьез ее слов, что отечество ждет от молодежи великих свершений.
А теперь он видит перед собой ее лицо, не может забыть ее голос, глаза, с такой надеждой устремленные на него. Как ошибался он, слывший среди товарищей знатоком человеческих душ!
Навеки запомнил он полутемную гостиную, голос, звучавший в вечерней тиши:
Отчизна, милая Литва! Ты как здоровье:
Тот дорожит тобой, как собственною кровью,
Кто потерял тебя! И я рисую ныне
Всю красоту твою, тоскуя на чужбине…
Кто бы мог подумать в те дни, что строки эти окажутся для него пророческими?
…Рашель уверяла, что если бы все поляки, как один, заявили императору о необходимости воскрешения отчизны, то не пришлось бы соотечественникам скитаться на чужбине. Наивные мечты! Она, кажется, и впрямь писала что-то подобное царю. А теперь вот и он, ее оппонент, — гонимый бурей странник.
…Тихий августовский вечер. Густые сумерки прорезаны мрамором белоствольных берез. Отгремел прощальный фейерверк. Разъехались гости, простившись с отъезжающими в столицу студентами. Вздрагивает колокольчик стоящей у крыльца тройки. Грузно шагает по гостиной старый пан, то и дело поглядывая на часы. Рушится привычный распорядок в усадьбе. Скорее бы уезжал этот непонятный друг сына. Зачем только привезли его, что такого нашла в нем дочь? Уж не думает ли связать с ним свою судьбу? Но нет! Горлинка не для воробья, а его дочь не для безродного шляхтича, какие б там таланты ни признавали за ним. Молодо-зелено. Вот, пожалуйста, сегодня весь вечер вдвоем и никак не могут распрощаться.
А молодые люди молча стоят у окна, запрокинув головы. Долгое молчание прерывает девичий голос.
— Я подарю тебе на память звездочку. Ты не забудь ее! Нет, не эту, смотри выше от Полярной и считай — раз, два…
— Да подари ты ему хоть все небо! Только скорее, — гремит негодующий бас отца.
В Оренбург приехали на рассвете. Это было 31 мая 1848 года. В тот же день Сераковский свалился в лихорадке. Только и успел, что поменять партикулярное платье на солдатский мундир. Две недели метался в горячке, был между жизнью и смертью.
Чудилось, что наклоняется к нему затянутый в чемарку отец. Мягкие пшеничные усы его приятно щекочут разгоряченное лицо, слышится отцовский голос: «Спи спокойно, мой малыш. Собственной грудью прикрою тебя». Хочется обхватить шею отца, припасть к его широкой груди, плакать слезами радости и облегчения. Взметнулись руки и упали бессильно на грубое солдатское сукно.
— На, испей водицы, — шепчет молодой солдат, склоняясь над изголовьем. — А то кваску принесу холодненького аль соку березового.
Голос солдата певуч, в нем что-то родное, близкое. Стучат зубы о жесть кружки, льется вода на смятую шинель.
…В середине июня по тракту на Уральск пылит караван. Под жгучим солнцем шагает солдат Сераковский. Обливается потом. Его путь далек. Где-то Ново-Петровский форт. Там определено служить рядовым в 1-м Оренбургском линейном батальоне воспитаннику Санкт-Петербургского императорского университета. Что-то там впереди? Пыль, клубы дорожной пыли. Зной.
II
Груда корректурных листов лежит перед склонившимся к конторке человеком. Глаза, проворно и привычно бегавшие по страницам, устали. Протерев очки, редактор вновь углубляется в чтение. Уже месяц, как он один ведет «Современник». Перед самым отъездом Некрасова за границу в редакции произошел раскол. Грянула давно назревавшая буря. Старые сотрудники во главе с Дружининым ушли из журнала. Они надеялись, что в последнюю минуту Некрасов сдастся и удалит из редакции Чернышевского; ну, а если нет, то журнал растеряет подписчиков, захиреет, и тот же Некрасов придет к ним на поклон. Дружинин шумел о том, что-де Чернышевский губит созданный Пушкиным лучший орган российской литературы, когда вводит в чистый храм искусства мужиков в лаптях, засоряет изящную словесность грубыми простонародными словами.
Читавший усмехнулся, вспомнив свои недавние споры с хранителями «чистого искусства». А ведь они всерьез воображают, что продолжают традиции Пушкина. Полноте, что общего может быть между «Посланием в Сибирь» и стряпней того же Дружинина! Нет, он не пойдет к ним на поклон, и Некрасов не пойдет. И если б пришлось остаться одному, не изменил бы своего решения. Но он верит, что в одиночестве не будет. Придут новые сотрудники, лучше понимающие запросы дня. Среди молодежи так много талантов. Да и Некрасов выстоял, не согнулся. А ведь работал с ними добрый десяток лет, и не только работал, жил с ними, как с братьями родными, душа в душу, но пошел на разрыв.
Как быстро они сработались с Николаем Алексеевичем! Ведь, кажется, и разговоров-то об идеалах не было. Объяснение произошло как-то незаметно. Вдруг открылось им, что вместе они идти должны, а порознь быть не могут. Тряхнул головой, словно отгоняя не вовремя нахлынувшие воспоминания, и опять углубился в корректуру.
Скоро, очень скоро оживут эти листки и разнесут по Руси добрые, правдивые слова народных заступников. Ради этого стоит жить, бороться.
Без стука открылась дверь.
— Здравствуйте, Николай Гаврилович! Посмотрите, кого я к вам привел!
Оторвавшись от конторки, Чернышевский пошел навстречу. Капитана генерального штаба Яна Савицкого он знал давно, но прапорщика, который пришел с ним, он видел впервые и невольно задержал на нем взор. Широкие плечи, казалось, вот-вот прорвут ветхое сукно. Скуластое волевое лицо было уставшим и загорелым, мохнатые крылья бровей выцвели.
— Не удивляйтесь, Николай Гаврилович, — сказал меж тем Савицкий, пожимая ему руку. — Мой друг только что закончил путешествие из Оренбурга в столицу. И я рад представить вам давнишнего приятеля моего Сигизмунда Игнатьевича Сераковского!
— Наслышан о вас. Еще в бытность студентом знал о вашей прогулке, сначала во Львов, впрочем, кажется, неудавшейся, а затем в Оренбург! Уж не кумыс ли пить послал вас Дубельт? Ох, уж этот врачеватель! Больному Белинскому обещал теплый казематец в Петропавловской, Лермонтова отправил на воды, а подорожную выписал на тот свет. Ну, а вас с Шевченко — на кумыс.
Неожиданная встреча с Сераковским взволновала Чернышевского. Он действительно знал о нем, о его нелегальной деятельности, о настойчивых усилиях вырваться из ссылки. Высоко ценил его, верил, что судьба Сераковского должна перемениться к лучшему непременно, но не думал, что так скоро. Желал высказать Сераковскому все это, но, взволнованный встречей, он не находил нужных слов. Он как-то стушевался, поняв, что говорит не то, что хотелось, потом засмеялся, скрывая неловкость, желая показать, что произнесенные слова не нужны. Чернышевский радовался встрече и тому, что изнурившая его вычитка корректур закончена.
Сераковский был утомлен долгой дорогой. Загоняя тройки, он мчался в Петербург, отсчитывая каждый день, каждую версту, томясь от дорожного безделья. Долгие восемь лет солдатчины, когда он не принадлежал себе и делал не то, что хотел, казались теперь какой-то краткосрочной вынужденной остановкой. Пролетавшие же в клубах пыли один за другим дни тяготили. Теперь руки были раскованы, ощущение обретенной вновь свободы пьянило. Радость собственного освобождения сливалась с ощущением перемен, о которых говорили ему и потрепанные книжки журналов, доходивших до Оренбурга, и растерянность николаевских служак, не знавших, куда деть кулаки. В столице он надеялся отыскать старых друзей, обрести новых.
Едва стряхнув с одежды дорожную пыль, он помчался к Савицкому, с которым был давно знаком, переписывался, встречался в Оренбурге. Забросав его вопросами и не выслушав до конца ответов на добрую половину их, он потащил друга на Невский.
Зная привычки петербуржцев, он надеялся, что встретит там, в эти вечерние часы, старых знакомых. Неожиданное ненастье обезлюдило тротуары. Экипажи, мчавшиеся по мягкой торцовой улице, были закрыты. На мосту, у бронзового юноши, усмирявшего коня, постояли, любуясь панорамой города.
У Литейного Савицкий вдруг заявил, что они в двух шагах от редакции «Современника» и квартиры Некрасова, что поэта теперь в городе нет, но там, наверное, можно увидеть Чернышевского.
— Лучший, правдивейший журнал, благороднейший, неподкупнейший редактор, — так, кажется, выразился Савицкий.
Сераковский про себя тогда еще отметил, что его сдержанный друг волнуется, заговорив о «Современнике». Сигизмунда обрадовало и это волнение Савицкого и его неожиданное предложение зайти вот так, запросто, и познакомиться с Чернышевским.
Он не сказал тогда Савицкому, что давно, очень давно, полюбил этого человека, хорошо знал статьи его, следил за его покоряющим умы словом. В душе Сераковский давно считал себя единомышленником выдающегося публициста, привык искать в его статьях ответы на все сомнения. Он не раз мечтал о том, как встретится с выдающимся публицистом России, как скажет ему, что разделяет его мысли. Скажет, что в пору юности, совпавшей с революцией 1848 года, суровый мороз убил цветы весны народов. Скажет, что теперь, когда над Европой занялась заря свободы, поляки и русские, объединившись, должны, наконец, опрокинуть трон Романовых, дать народам волю, крестьянам — землю!
И вот он видит перед собой не исполина, каким рисовал себе вождя революционных сил, а уставшего смущенного человека. Он долго трясет протянутую ему руку и тоже говорит какие-то слова, а потом умолкает недоумевая.
Затянувшаяся пауза становится тягостной. Выручает Савицкий. Непринужденно говорит о том, что Сераковскому надо помочь. Ведь он сильно нуждается в деньгах после восьмилетней солдатчины, должен к тому же содержать старушку мать и сестру, разбитую параличом. Хорошо было бы найти ему какую-либо работу в журналах. Он владеет несколькими иностранными языками и, как человек неглупый и образованный, сумеет быстро войти в курс дела. Почему бы ему не сотрудничать в «Современнике»?
Чернышевский подхватывает предложение Савицкого, которое, как видно, пришлось ему по душе. Тут же решено, что Сераковский возьмется вести отдел «Заграничных известий», приняв его у Александра Пыпина.
— Да смотрите, — шутя замечает Николай Гаврилович, — не следуйте примеру Саши. Не увлекайтесь придворными балами да нарядами красавиц. Пройдитесь по окраинам Парижа и Лондона.
Тут же Чернышевский советует обратить внимание на события в Северо-Американских Соединенных Штатах, где, по его мнению, борьба угнетенных против плантаторов-рабовладельцев грозит перерасти в войну. А это весьма напоминает обстановку в России.
Так в сентябре 1856 года Сераковский стал сотрудником «Современника». Более года вел порученный ему отдел. С ворохом газетных вырезок на многих европейских языках часто приходил запросто к Николаю Гавриловичу. Подолгу сиживали вместе, спорили, обсуждали обзоры и статьи. Не во всем и не всегда соглашались. Чаще Сераковский сдавался и вносил предложенную Чернышевским правку.
Однажды в присутствии Савицкого речь зашла об адресах, подаваемых дворянами западных губерний на высочайшее имя. Дворянство Подолии и литовских губерний просило присоединить край в административном управлении к Царству Польскому и даровать ему национальную автономию. Савицкий, поддержанный Сераковским, заметил, что осуществление таких требований дворян было бы шагом вперед и способствовало бы возрождению независимого польского государства. Чернышевский резко возразил: Польша кончается на Буге, а голос дворянской общественности нельзя принимать за изъявление чувств коренного населения; что скажут еще сами белорусы и украинцы, пока неизвестно. Революционеры не должны уподобляться псам, дерущимся за кость!
Часто в перерывах между подготовкой материала в очередную книжку «Современника» разговор заходил о жизни Сераковского в Оренбурге. Как-то за вечерним чаем Сераковский долго говорил о тяжелой участи солдат, о том, что он решил посвятить свою жизнь облегчению этой участи и счастлив иметь такую благородную цель. Он пришел к убеждению, что первым шагом на пути освобождения народа является отмена варварского обычая наказания солдат шпицрутенами, при котором солдат не может чувствовать себя человеком, а офицер превращается в зверя. Ободренный вниманием собравшихся, Сераковский долго говорил о жизни в ссылке.
Он рассказывал, как в 1848–1849 годах находился в маленькой крепостце на берегу Каспийского моря, в глуши, где многие спивались. Да и как не запьешь, если зимой метет вьюга, а летом ничего не видишь, кроме песка? Вот и все красоты природы! К тому же жили вначале в землянках и шалашах. Форт только строили. Из-за недостатка в офицерах и отсутствия грамотных фельдфебелей поручили как-то Сераковскому вести с солдатами уроки «изящной словесности», как в шутку называли зазубривание бессмысленных «пунктиков» об обязанностях солдата. Вручил ему фельдфебель эти самые «пунктики». Читает он — и глазам не верит: «Солдату надо знать: немного любить царя…» Что за чушь! Протер глаза, смотрит — то же самое! Видно, писарь спьяну перепутал знаки препинания.
— И что же, вы думаете, исправили ошибку? Бумага-то прислана была из Уральска, из батальонной канцелярии. Никто не осмелился подвергнуть сомнению присланный свыше текст.
Как ни убеждал Сераковский фельдфебеля исправить ошибку, не убедил служивого. Так вся рота и заучила, что царя особенно любить не следует. Только на инспекторском смотре обнаружилась ошибка. После этого случая фельдфебель проникся к Сераковскому доверием и поручил евангелие читать. Комментировал тексты Сераковский так, что солдаты задумывались над причинами своего тяжелого положения и судьбами родины.
— Скажите, Сигизмунд Игнатьевич, — спросил как-то Чернышевский, — шесть лет служили вы с Шевченко в одной дивизии, а говорят, что так ни разу там и не встретились.
— Долгая история. Надобно сказать, что, еще подъезжая к Оренбургу, мечтал я об этой встрече. С Тарасом Григорьевичем мы земляки — оба с берегов Днепра; с поэзией его я давно знаком. Когда я прибыл в Оренбург, Шевченко был в экспедиции капитана Бутакова, изучавшей Аральское море. Вскоре меня направили в форт Ново-Петровский. А Шевченко, вернувшись с Бутаковым в Оренбург, обрабатывал материалы Аральской экспедиции и близко в то время сошелся с тамошними польскими ссыльными. Среди них были и мои добрые знакомые по Вильно и Киеву. Стойкие люди. Дружили очень, помогали друг другу книгами, табаком — словом, кто чем богат, а Тарасу Григорьевичу все краски добывали. Говорят, в кругу друзей он преображался, оживал, забывал на минуту о невзгодах, пел украинские песни, стихи читал. Он хорошо знал польский язык и мне писал иногда по-польски. А увидеть его так и не привелось.
В 1857 году Сераковский поступил в академию Генерального штаба и был вынужден прекратить работу в «Современнике». Однако связь его с журналом не оборвалась. Частым, желанным гостем был он в доме Чернышевского, в квартире Добролюбова.
Иногда Сераковский с друзьями навещал мастерскую Шевченко в Академии художеств.
— Поэт, настоящий поэт! — воскликнул Шевченко, беседуя с польским другом, вкладывая в эти слова свое восхищение его возвышенными, гуманными стремлениями, его чутким отношением к людскому горю. Не мог без волнения Тарас Григорьевич говорить о том, как подружился он в ссылке с польскими революционерами. Своими соизгнанниками оренбургскими называл он ссыльных друзей Сераковского.
Сераковский и его товарищи приняли горячее участие в судьбе родных Шевченко, в организации выкупа их из крепостной неволи, не дожидаясь готовящегося правительственного «освобождения» крестьян.
Шевченко, много натерпевшийся во время «мрачной, монотонной десятилетней драмы», ненавидел царскую армию и ее офицерский корпус. Однако, когда он узнал о поступлении Сераковского в академию Генерального штаба, одобрил этот шаг друга, согласившегося остаться на всю жизнь в армии, чтобы иметь возможность участвовать в борьбе за освобождение солдатских спин от шпицрутенов.
В академии вокруг Сераковского сгруппировался кружок польских и русских офицеров, принявший вскоре революционный характер и просуществовавший вплоть до восстания 1863 года. Молодые друзья Сераковского помогали ему готовить проект реформы военно-уголовного законодательства. В 1862 году они дали достойную отповедь царскому флигель-адъютанту князю Э. Витгенштейну, выступившему в печати с прославлением палок и стремившемуся доказать, что можно избивать солдат даже на. виду у неприятеля на биваках и перед боем. Более ста офицеров разных родов оружия опубликовали в «Северной пчеле» протест, высмеяв пруссака на царской службе. Общественность высоко оценила это выступление офицеров, поставивших человеческое достоинство выше мнимой чести мундира.
По вечерам на квартире Сераковского собиралось многочисленное общество. Тут на своеобразных литературных вечерах мешались роскошные мундиры гвардейцев со скромными сюртуками канцеляристов. Выделялись студенты университета и Медико-хирургической академии — они демонстративно носили мужицкие свитки. Пили чай, пели песни, но больше спорили, разбившись на группы. Тут все выходило на сцену: история, философия, религия, стратегия, прошлое и будущее. Слышались польская и русская речь, изящные французские выражения мешались с украинскими и белорусскими. Читали «Колокол» и «Современник». По рукам ходили прокламации на русском и польском языках.
Как-то вечером разнеслась весть: в Петербурге закрыта единственная польская газета «Слово», близкая к «Современнику». Ее редактор Иосафат Огрызко — частый посетитель литературных собраний у Сераковского — посажен в Петропавловскую крепость. Кто-то прочел экспромт Некрасова: «Плохо, братцы, беда близко, арестован коль Огрызко». Грустное предсказание Некрасова приняли за неудачную шутку. Верили все в безоблачное будущее, не придавали значения тучам, собиравшимся над головой.
В кругу друзей Сераковский, восторженно импровизируя, рисовал радужные картины будущего. Он мечтал о временах, когда Россия и Польша, освободившиеся от царского деспотизма, заживут, как добрые соседи, в мире и согласии. Валерий Врублевский однажды шутя предложил избрать Сераковского президентом федерации свободных славян. Маленький, ладно скроенный, Ярослав Домбровский — «Локоток», как любовно называли его друзья, — добавил, что доброе время, о котором повествует Сигизмунд, конечно же, придет, но не само собой, что одних мечтаний о нем мало. С ним все согласились. И тут все заговорили о том, что прежде благородные умы были заняты разработкой основ справедливого общественного порядка, основанного на уважении естественных прав человека, но ныне одних мечтаний о воцарении разума, конечно, мало. Все сошлись на том, что честные люди должны стремиться к воплощению идеалов в жизнь, в этом знамение времени.
Сераковский был душой этих бесед. Прирожденным трибуном, неодолимым в диспутах диалектиком называли его товарищи. Отличительной его чертой было превосходно развитое чувство жизни, он умел схватить суть, живую душу науки и блестяще применить ее к делу, которому служил. Даже оппоненты, оспаривая выдвинутые им положения, не могли отрицать силы и благородства высказанных им мыслей.
Кто бы мог подумать в те дни, следя за оживленными задорными спорами друзей, что среди них находятся будущие революционеры, руководители и участники польского восстания и первой в мире пролетарской диктатуры!
А ведь из среды офицеров, группировавшихся вокруг Сераковского (их было не один десяток!), большинство вошло в ряды нелегальной революционной организации «Земля и воля», примкнуло к польскому национально-освободительному движению, а некоторые впоследствии сражались на баррикадах Парижской коммуны.
* * *
В шумных спорах с друзьями, в занятии литературой, штудировании воинских уставов Петра Великого и Александра Суворова незаметно прошли два года. Занятия в академии Генерального штаба шли к концу. Успешно заканчивалась и разработка проекта реформы военно-уголовного законодательства, призванного, по мысли Сераковского, освободить, наконец, солдат от унизительных телесных наказаний. В этой работе много помог Сераковскому профессор Петербургского университета Владимир Спасович, некогда его студенческий товарищ, ставший известным юристом. Спасович удивлялся обширности познаний Сераковского и не раз говорил, что место его друга не в армии, а на университетской кафедре. Не без умысла он представил однажды Сигизмунда профессору Кавелину. Однако Сераковский не поддерживал разговоров об ученой карьере, равно как и рассуждений Кавелина о необходимости уравнять в гражданских правах русских и поляков: «О каком равенстве может идти речь? — возражал Сераковский профессору. — Ведь и права-то русских граждан до смешного ничтожны. К тому же и существующие законы постоянно нарушаются!»
С профессором академии Генерального штаба гвардии полковником Николаем Обручевым Сераковский познакомился благодаря своей близости к редакции «Современника». Обручев тоже был там частым гостем.
Возмущенный крепостническими порядками, царившими в армии, он тяжело переживал позор крымского поражения русской армии и принял близко к сердцу проекты Сераковского. Обручев оказал деятельную помощь в их разработке и продвижении. Он же познакомил Сераковского с бывшим профессором академии Генерального штаба Дмитрием Милютиным, занимавшим пост товарища военного министра. Вынашивая планы реформы в армии, Милютин сочувственно отнесся к проекту Сераковского и обещал поддержать его.
Генералы николаевской закваски, не мыслившие армии без мордобоя, встретили в штыки самую мысль о возможности отмены шпицрутенов. Им казалось диким признание в солдате человеческого достоинства. Однако время шло вперед, и новые веяния, носившиеся над Россией, а пуще всего недавнее крымское позорище властно требовали отмены крепостного права и перемен в армии и флоте. Сераковский чувствовал жизненность своего проекта.
— Отмена крепостного права, — говорил он, — вызывает потребность уничтожения телесного наказания. Когда огромная масса крестьян, из которых преимущественно составляется армия, пробуждается к новой жизни, когда ей предоставляются новые права, когда во вчерашнем рабе увидели, наконец, человека, необходимо возвысить в глазах народа звание солдата, признать за ним гражданские права. Повсюду содержание постоянных крупных армий стоит народу огромных средств, отрывает от производительного труда миллионы рук. Если хотеть этому горю хотя бы отчасти помочь, нужно стремиться к тому, чтобы армия стала грандиозным рассадником образования, чтобы солдат во время мира овладевал элементарной грамотой, а со временем, после окончания службы, мог бы занять место учителя в народной школе. Офицеры должны вместо карт и попоек заняться умственным трудом, литературой и стать представителями умственной и нравственной силы нации. Когда народ гордится своими офицерами, солдаты охотнее, без палок и мордобоя повинуются им во время мира и закрывают их грудью в бою. Только насилие может заставить повиноваться грубому, необразованному человеку, но охотно повинуешься тому, в ком видишь нравственное превосходство.
В конце 1859 года после блестящего окончания академии Генерального штаба капитан Сераковский по инициативе Н. Обручева, поддержанной Д. Милютиным, получил предписание военного министра выехать за границу и принять участие в работе русской делегации на Международном статистическом конгрессе в Лондоне.
Холодные бритты были удивлены поведением русского делегата. В программе значился вопрос, имевший отношение к военной статистике. Кто мог предполагать, что он станет одним из центральных в работе конгресса? Зацепившись за него, капитан Сераковский заговорил, но не о военной статистике, а о тяжелой участи солдата.
— Если во времена Фридриха Вильгельма, — говорил Сераковский, — можно было сколачивать палкой толпы наемных бродяг в непобедимые колонны войск, то сегодня наличие палочной дисциплины — анахронизм, подрывающий боеспособность войск, оскорбляющий граждан, находящихся на военной службе во имя защиты отечества.
Чопорные дипломаты и степенные профессора были удивлены, обнаружив в своей среде человека, до деталей изучившего солдатскую жизнь, неопровержимыми фактами убеждавшего, что преступность, недисциплинированность солдат являются следствием палочной дисциплины. А когда Сераковский заговорил, что в стране, так гостеприимно встретившей делегатов конгресса, до сих пор существует наказание кавалеристов стременами, а матросов — кошками, дипломатический ритуал был нарушен окончательно. Царившие на конгрессе плохо скрываемые равнодушие и скука пропали. Все заговорили о загадочном, необыкновенном делегате России, пожимали недоуменно плечами, строили самые фантастические предположения, стремясь найти объяснение его поведению. Любопытство возросло еще более, когда стало известно, что блестящий офицер Генерального штаба, личный представитель военного министра могущественной державы — недавний изгнанник, проведший в азиатских пустынях лучшие годы молодости. Шептались, изумлялись, недоумевали и… спешили познакомиться, выразить свое уважение человеку со столь необычайной судьбой
А вчерашний изгнанник и в фешенебельных особняках, и на придворных балах, и на дипломатических приемах не переставал действовать в пользу своих бывших сослуживцев — солдат. Его необычайная настойчивость в этом деле привлекла внимание журналистов. О Сераковском заговорила пресса Великобритании.
Однажды военный министр сэр Сидней Герберт устроил прием в честь делегатов конгресса. Когда подошел Сераковский, Герберт, успевший услышать о его, как казалось министру, чудачествах, движимый привычкой представляться любезным и внимательным, заговорил о гуманности. Русский офицер тут же поддержал разговор на эту тему. Вскоре Герберт понял, что попал в западню. Спорить было неуместно, согласиться же с русским делегатом он не мог, не поставив под удар дисциплинарные основы королевского флота. Стремясь уйти от поставленных в упор вопросов, сэр Герберт шутливо заметил, что провинившиеся и наказанные матросы будут со временем благодарны своему строгому начальству, как бывают благодарны повзрослевшие дети своим старикам родителям, некогда наказывавшим шалунов.
— Можно наказать и розгой? — спросил, улыбаясь, Сераковский.
— А почему бы и нет? — в тон ответил министр. — Ведь отец думает только о благе своих детей.
Медленно расхаживая по залу вместе с Сераковским, министр не сразу сообразил, что намерен предпринять его собеседник. Он опомнился, оказавшись рядом с супругой в окружении многочисленных гостей. Отступать было поздно и некуда.
— Миледи, — звучал рядом голос Сераковского, — разве можно поверить, что ваш супруг собственной рукой может выпороть ребенка?
Жена Герберта, смеясь, отрицательно повела головой. Заручившись ее поддержкой, неугомонный русский делегат развил мысль о том, что в хорошем доме исчезает необходимость прибегать к жестоким наказаниям. А кто может сомневаться, что Англия— хорошая мать для своих подданных?
— Господа, — продолжал он, — я, может быть, недостаточно знаю английских матерей, но я помню собственную мать, простую польскую женщину. Ее отношение к сыну не было лишено гуманности.
Сераковский заговорил о родине и своем детстве. Был, по его мнению, только один случай, когда он заслужил суровое наказание. Ему было тогда около шести лет, когда в их дом прибыл чиновник, производивший по приказу царя набор детей из мелкопоместных польских семей в кадетский корпус. Мать, не желая расставаться с сыном, переодела его в платье сестры и выдала за дочь. Чиновник уже вносил поправки в свои списки, когда из-за спины матери появилась фигура и звонким голосом произнесла: «Я не дочь, я сын, Сигизмунд Сераковский!»
Когда смех поутих, Сераковский добавил:
— Заметьте, господа, мать и тогда не наказала меня. Ведь я все же остался дома, хотя фамильное серебро уехало с чиновником!
Многие выходцы из Польши и России, жившие в Лондоне, осуждали Сераковского. Но один эмигрант безоговорочно встал на его сторону в борьбе за облегчение участи полкового раба. Это был Герцен. Он понимал истинный смысл поведения Сераковского. Последний сознательно вел дело так, чтобы падкая на сенсации западноевропейская пресса заговорила о необычных заседаниях конгресса. Нужно было привлечь внимание общественности к делу, которому он служил, склонить на свою сторону видных ученых и военных деятелей. Надо было использовать их либерализм и авторитет Запада (ведь к мнению деятелей западных держав прислушивались придворные круги России!). Надо было повлиять, наконец, на «дантистов», как любил называть Герцен любителей зуботычин, обитавших в Зимнем дворце, положить конец затянувшемуся обсуждению проекта реформы военно-уголовного законодательства. В Лондоне Сераковский продолжал добиваться решения об отмене наказаний шпицрутенами.
Далеко за полночь, возвращаясь с очередных приемов и затянувшихся заседаний, Сераковский спешил к Герцену. Он знал, что застанет его за письменным столом работающим. А если утомленный издатель «Колокола» отдыхал, Сигизмунд будил его, и друзья часами просиживали, составляя планы очередных выступлений Сераковского на конгрессе. Не раз они вместе встречали солнце, встававшее над лондонскими предместьями. Рассвет казался им зарей всеобщей свободы — близкой, желанной, а личная дружба поляка в царском мундире и случайного представителя крестьянской Руси в Европе — символом братства наций.
Частым гостем в доме Герцена был Сераковский и в следующую поездку за границу — в первой половине 1862 года. Изучая военно-уголовное законодательство крупнейших стран Западной Европы, он побывал в Англии, Франции, Италии, Австрии, Пруссии.
Некоторые политические деятели Европы, стремившиеся использовать польское национально-освободительное движение в своих целях, делали Сераковскому прозрачные намеки о сотрудничестве, а Кавур даже предложил ему перейти на службу в итальянскую армию. В таких случаях Сераковский обрывал собеседника на полуслове, ясно понимая, какую роль отводили его отечеству мнимые друзья, не желая таскать для них каштаны из огня.
Совсем по-другому складывались его отношения с европейскими демократическими деятелями. Всюду он стремился познакомиться с лидерами парламентских оппозиций, с эмигрантами и вождями революционных и национальных движений, находил у них понимание трагических судеб польского народа, искреннее желание содействовать его социальному и национальному освобождению. Особенно близко к сердцу принял польские дела Джузеппе Гарибальди, которого Сераковский посетил весной 1861 года в ссылке на острове Капрера. Гарибальди с горечью говорил, что не может пока принять личное участие в борьбе за свободу Польши, что судьба обрекла его на вынужденное бездействие, но готов, как только это позволят обстоятельства, возглавить отряд волонтеров и будет рад видеть Сераковского своим начальником штаба. Прощаясь с Сераковским, Гарибальди отечески благословил его, пожелав удачи в предстоящих боях. Позже Сераковский говорил, что беседа с Гарибальди удесятерила его силы, и он покинул отечество Данте и Микеланджело, очарованный его освободителем.
Знакомясь всюду с деятелями революционных и оппозиционных партий, Сераковский пришел к выводу, что мир стоит на пороге новых социальных потрясений, что борьба против подневольного труда крестьян в Европе, рабов в Америке и городских низов всюду изменит облик земли. Он был убежден, что его родина внесет достойный вклад в дело всеобщей свободы, что время воскрешения Польши не за горами и произойдет оно при самом деятельном участии революционных сил России и Европы.

С. И. Сераковский.

Н. Г. Чернышевский.
Возвращаясь из первой поездки за границу, по пути в Петербург Сигизмунд навестил в Вильно семью Далевских, с которой был близок со студенческих лет. Старшие братья Далевские — Франтишек и Александр — были его друзьями-единомышленниками по нелегальным кружкам. Почти в одно время с ним попали они под суд и были приговорены к каторжным работам в забайкальских рудниках. По амнистии 1856 года Далевским было разрешено возвращение на родину, чем они не преминули воспользоваться. Встреча со старыми друзьями после долгой насильственной разлуки буквально потрясла Сераковского.
В гостеприимном доме Далевских он пробыл всего несколько часов, но и их оказалось достаточно, чтобы сердце Сигизмунда осталось в Вильно. А виновница этого — одна из пятерых сестер Далевских, Аполлинария, — и не подозревала, что друг любимых братьев уехал в Петербург с думами о ней. Казалось, все говорило против их любви: она только еще вступала в жизнь, а он так много успел увидеть и пережить. К тому же Аполлинария была девушкой необыкновенной красоты. А мужественное лицо Сераковского, никогда не отличавшееся особо тонкой красотой, несло на себе печать пережитого.
Он тяжело страдал, боясь отказа молодой девушки, и потому долго не решался предложить ей свою руку. Несколько раз, используя представлявшиеся по службе возможности, Сераковский приезжал в Вильно по только что введенной в действие Петербургско-Варшавской железной дороге, бывал у Далевских, но о своих чувствах к Аполлинарии не говорил. Девушка сама пошла ему навстречу, ибо горячо полюбила Сигизмунда, о котором многое знала из рассказов братьев. Она полюбила в Сераков-ском не только высокие качества человека, но и черты несгибаемого революционера. Иным своего друга эта гордая, умная девушка, выросшая в семье революционеров, не представляла.
В июле 1862 года в Кейданах Ковенской губернии, где служил один из братьев Далевских, состоялась свадьба Сигизмунда и Аполлинарии.
Со стороны Сераковского на торжестве присутствовал только его давнишний друг — оренбургский соизгнанник, офицер Генерального штаба Ян Станевич. Вместе они вступили на путь борьбы накануне революционных битв 1848 года; вместе отбывали ссылку в оренбургских батальонах, вместе добивались производства в офицеры и возможности продолжать образование; вместе готовили проект отмены палок в царской армии; вместе разрабатывали план вооруженного восстания. Словом, неразлучные друзья все делали вдвоем. Может быть, поэтому Сераковский и попросил Яна быть шафером на его свадьбе.
Празднество удалось на славу. Присутствовавшие назвали его позже последней мазуркой на Литве, ибо через несколько месяцев грянуло восстание. Но в июле 1862 года его еще не ждали. Гости, посвященные в нелегальную революционную деятельность жениха, говорили о весне 1863 года как о вероятном сроке вооруженного выступления. Спорили о том, можно ли рассчитывать на помощь революционных сил России в борьбе за независимость Польши, или следует опереться на помощь Франции. Сераковский и Станевич говорили о своих русских друзьях, о деятельности «Земли и воли», о желании соратников Чернышевского выступить вместе с поляками. Однако это желание разделяли не все. Многие из молодых дворян, мечтая о восстановлении независимой Польши, склонялись к мысли о необходимости заручиться помощью Наполеона III. При этом вспоминали о симпатии его деда к их отчизне. Так и не переубедив своих оппонентов, Сераковский вместе с молодой женой выехал за границу. Через Вену он отправился во Францию и далее — в Алжир, где предстояло выполнить специальное поручение военного министра.
Летом и осенью 1862 года проездами из Вены в Петербург Сераковский остановился на несколько дней в Варшаве.
Столица Польши напоминала осажденный город. Казармы были переполнены солдатами. Жерла орудий Александровской цитадели смотрели на предместье. На опустевших улицах раздавалось цоканье копыт.
Царские власти были охвачены тревогой, и не без основания. Непрекращавшиеся волнения в Польше сливались с крестьянскими «бунтами» в России, со студенческими демонстрациями, массовым недовольством народа реформой 19 февраля 1861 года. С каждым днем крепло единство действий русских и польских революционных сил, совместно выступавших против царских властей.
Остановившись в Варшаве, Сераковский был намерен встретиться со своим другом Ярославом Домбровским, возглавляющим варшавскую революционную организацию и фактически руководившим Центральным национальным комитетом — центром, который координировал действия революционных сил в Польше и за границей. Сераковский хорошо знал и офицера Андрея Потебню, вставшего во главе Комитета русских офицеров в Польше. Буквально накануне приезда Сераковского царские власти расстреляли группу русских офицеров за распространение в войсках сочинений Герцена и революционных прокламаций. В качестве ответной меры польские и русские революционные организации устроили покушение на царского наместника в Варшаве генерала Лидерса, окончившееся неудачно. С каждым днем террор усиливался. Спасаясь от преследования, Потебня перешел на нелегальное положение. Домбровский был арестован и заключен в Александровскую цитадель.
Сераковскому все же удалось встретиться с представителями Центрального национального комитета и Комитета русских офицеров в Польше. Во время этих встреч, продолженных затем в ноябре — декабре 1862 года в Петербурге, русские и польские революционеры решили весной 1863 года начать вооруженное восстание и свергнуть царизм объединенными усилиями.
Восстание должно было начаться в Польше, Поволжье, на Дону и Урале. Отряды восставших должны были двинуться со всех окраин страны к ее центру, на Москву и Петербург, провозглашая повсюду клич: «Земля и воля».
Сераковский был не только связующим звеном между русскими и польскими революционными организациями, но и принимал деятельное участие в разработке этого плана вместе со своими друзьями Ярославом Домбровским, Андреем Потебней и Сигизмундом Падлевским.
События, однако, развивались не так, как рассчитывали революционеры. В Польше народные массы взялись за оружие не весной 1863 года, а в лютую январскую стужу. Революционные силы России были в то время не в состоянии немедленно поддержать восставших поляков вооруженным выступлением против царских войск. К тому же из рядов русских тираноборцев были вырваны многие революционные деятели. Крестьянские выступления против крепостничества в течение двух предыдущих лет были подавлены вооруженной силой.
Царское правительство маневрировало и стремилось бить своих противников поодиночке.
III
Весна 1863 года. Третий месяц полыхает восстание. Начавшись в Царстве Польском, оно вскоре перекинулось в Литву, Белоруссию, на Правобережную Украину. Борьба, назревавшая долгие годы, началась по инициативе молодежи и горожан. Теперь в нее все более широко втягивались крестьяне.
Немалые силы были брошены царем против повстанцев. В состав карательных корпусов были включены отборные войска, имевшие опыт боевых действий, гвардейские дивизии и казачьи полки. Во главе отрядов стояли офицеры, знакомые с приемами партизанской войны горцев Кавказа.
Трехсоттысячной вышколенной армии противостояли отряды восставших, общая численность которых не превышала 40 тысяч вооруженных бойцов. Но какое у них было оружие! Большинство повстанцев имело старые охотничьи ружья, уцелевшие от конфискаций во время многочисленных обысков и облав. Многие имели косы, вилы, топоры, иные вооружались дубинами. Редко можно было встретить в руках повстанцев дальнобойный штуцер. Несмотря на превосходство сил, каратели с начала боев не одержали решающей победы. Опираясь на сочувствие и поддержку местного населения, хорошо зная родные леса, повстанцы вновь и вновь уходили звериными тропами из окружения.
В дремучие, труднопроходимые леса стекалась городская молодежь. Из университетов Петербурга, Москвы, Дерпта, Казани, Киева сотнями съезжались студенты…
Общее руководство восстанием в Литве осуществлял Виленский революционный комитет, в составе которого было несколько друзей Сераковского. Крестьяне Литвы и Белоруссии нападали на воинские команды, расставленные по селам, и не принимали условий грабительской реформы. Однако склонить чашу весов борьбы в свою пользу повстанцы все еще не могли. Время шло, лучшие люди гибли в неравной борьбе.
…Последние известия из Вильно и Варшавы потрясли Сераковского. Воспользовавшись отъездом революционной молодежи на театр военных действий, к руководству организацией повстанцев пробрались лица, страшившиеся крестьянских топоров более, чем царских войск. Друг Сераковского, пламенный белорусский революционер Кастусь Калиновский был отстранен от руководства восстанием. Правда, большинство повстанческих отрядов Литвы и Белоруссии не признавало новое руководство. Уж слишком явно защищало оно интересы польской аристократии.
В конце марта 1863 года Сераковский выехал из Петербурга. Официально он получил двухнедельный отпуск для поездки за границу. На самом же деле он намеревался пробраться к восставшим в Литву, а из Вильно послать военному министру рапорт об отставке. До сих пор он помогал повстанцам, оставаясь в столице, тайно руководя отправкой офицеров, оружия и боеприпасов, поддерживая контакт с русскими революционными организациями. Теперь, когда пламя борьбы уже бушевало, он не мог оставаться в столице. В Литве и Белоруссии решался вопрос, перейдет ли польское национальное движение в крестьянское, распространится ли оно далее на восток, удастся ли восставшим польским дворянам найти общий язык с литовскими и белорусскими крестьянами. Товарищи звали Сераковского в Литву, и он не мог не откликнуться на их зов.
В Вильно Сераковский остановился в гостинице Нашковского и в первый же день приезда нанес визит генерал-губернатору Назимову — командующему войсками Виленского военного округа. Это был несколько необычный визит. Нужно было не только выполнить формальность, но и попытаться разузнать о намерениях царского командования. Назимов, однако, больше интересовался новостями из столицы, жизнью двора, расспрашивал о здоровье членов августейшего дома — он был в молодости воспитателем Александра, в то время еще наследника. В завязавшейся беседе он «бросил все же несколько фраз, из которых было видно, что командующий войсками считает мятеж уже подавленным и в этом духе составляет донесение военному министру.
Сераковский, слушая светскую болтовню Назимова, рассеянно поддакивал ему и кивал головой. Мысли его были далеко. Что противопоставить царским войскам, стянутым в Литву? Как поднять народ, крестьян, чем вооружить их?
Вечером в номере у Сераковского собрались несколько офицеров, вместе с ним готовившихся перейти к повстанцам. Разложив на столе военно-топографические карты, долго обсуждали сложившуюся обстановку. Было решено, что Сераковский выедет в Жмудь и возглавит повстанцев, действующих у морского побережья. Звеждовскому — капитану генерального штаба, старому товарищу Сигизмунда — предложили выехать в восточную Белоруссию и поднять там восстание местных крестьян. Остальные офицеры должны были выехать в отряды, действовавшие на Виленщине и Гродненщине. Было решено, что к концу апреля отряды повстанцев продвинутся на восток. К этому времени должны были начать активные действия революционные силы внутренней России. Революционные эмигранты в Лондоне и Париже должны были закупить и доставить к месту боев оружие и боеприпасы. Решающим участком борьбы считали приморские районы Литвы.
Ночью, проводив друзей, Сераковский написал военному министру Милютину письмо, в котором сообщил, что переходит на сторону восставших соотечественников и иначе поступить не может.
* * *
10 апреля 1863 года командующий карательными войсками в Ковенской губернии генерал-лейтенант кавалерии Лихачев получил тревожное сообщение о концентрации крупных повстанческих сил в окрестностях уездного города Поневежа. Доставивший донесение раненый офицер заявил, что его обстреляли и он едва ушел от погони.
Сообщение это не было для Лихачева полной неожиданностью. Уже несколько дней губернский город был как бы в невидимой осаде. Паромы бездействовали. Почтовая связь прервалась. Лишь два-три раза в неделю из Вильно приходили под сильным конвоем транспорты. В уездные города пробиваться было трудно. Распоряжения губернских властей не доходили на места, а если и доходили, то их некому было выполнять. Большая часть канцеляристов ушла в леса к повстанцам. Оставшиеся чиновники если и сохранили верность престолу, то не имели сил ему служить. Полиция повсеместно была объята страхом и бездействовала. Крестьяне прекратили отбывание повинностей в пользу владельцев имений. Налоги не собирались. Колонны войск, посланные против восставших, кружили по лесам, и нельзя было понять, то ли они преследуют повстанцев, то ли повстанцы гоняют на корде царских генералов.
— Умы в отчаянии! Народ потерял веру в силу законной власти, — твердили Лихачеву чиновники, требуя принятия энергичных мер.
Об этом же писал теперь и барон Мейдель — старый сослуживец Лихачева, командовавший войсками в северо-восточной части губернии. Барон доносил, что в жмудских лесах у мятежников объявился новый предводитель — Доленга. Он вполне оправдывает свою кличку, ибо в самом деле действует ловко. По слухам, он назначен на пост военного руководителя мятежных сил всей Литвы. Начальники шаек — так именовал барон командиров отрядов восставших — приняли назначение Доленги с радостью, и многие поспешили к нему на соединение.
Среди примкнувших к Доленге отрядов Мейдель назвал отряд Болеслава Колышко (в прошлом студента Московского университета) и отряд Антона Мацкевича — местного ксендза, первым поднявшего знамя восстания в губернии. Лихачев уже многое слышал и о них. Не раз Колышко и Мацкевич били карательные отряды, но более всего генерала тревожило сочувствие населения к этим партизанским предводителям.
Мейдель писал, что у Доленги до 10 тысяч бойцов, и если не принять неотложных мер, то нельзя поручиться за последствия. В занятых селах мятежники повсюду провозглашают низложение с престола государя императора, обещают крестьянам землю. Хуже всего, что крестьяне верят коммунистическим посулам атаманов и сотнями пристают к ним. Во многих деревнях все взрослое мужское население ушло в леса. При приближении войск села пустеют. Повстанцы безнаказанно разъезжают по всему краю, их конные отряды врываются в крупные местечки. Собирая народ у костелов, инсургенты оглашают какие-то манифесты о безвозмездном наделе мужиков землей, об уничтожении налогов и повинностей, разоружают полицию и мелкие воинские команды, призывают народ встать на защиту обретенной земли и свободы. Мейдель сообщал далее, что наличных войск едва хватает для охраны уездных городов и местопребывания епископа Велончевского.
По опыту трех месяцев борьбы Лихачев знал, что барон преувеличивает, как это делают все отрядные командиры, выдавая разъезд повстанцев за кавалерийскую колонну, а сотню вооруженных косами мужиков— за несметные скопища. Однако задуматься было над чем. Полученные из Вильно депеши, прибытие в Палангу личного представителя военного министра настораживали.
Вызвав адъютанта, Лихачев продиктовал ряд приказов, решив наступать. Барону Мейделю он предложил немедленно атаковать лагерь Доленги, извещая, что вышлет в том же направлении сильную колонну со стороны Ковно, дабы совокупными действиями взять мятежников в клещи и принудить сложить оружие. В Вильно под усиленным конвоем было направлено обширнейшее донесение с просьбой выслать в губернию один из вновь прибывших гвардейских полков. Затем Лихачев принял депутацию немецких колонистов и помещиков— владельцев имений в Ковенской губернии. Он выслушал жалобы растерявшихся и напуганных дворян; они сетовали на судьбу и правительство, соблазнившее их приобрести имения в таком известном мятежническими традициями крае. Лихачев посоветовал им не скорбеть об утраченных окороках и конфискованной восставшими старке. Затем генерал предложил помещикам создать из числа преданных слуг и охотников-егерей несколько подвижных отрядов в помощь войскам, которые, плохо зная местность, без пользы блуждают по лесам.
Беседа с помещиками, усердно поддакивавшими генералу, исполнительность штабных офицеров, дававших понять, что они одобрительно относятся к решимости, проявленной, наконец, их начальником, — все это несколько успокоило генерала. Подписав приготовленные бумаги, он пообедал с предводителями дворянства, а затем пошел к себе вздремнуть часок-другой.
Успел ли Лихачев досмотреть сон, осталось неизвестным. Разбудивший его адъютант доложил: прибывший из Паланги гонец сообщил, что к побережью Литвы приближается морская экспедиция мятежников. Она намерена высадить на берег где-то между Мемелем и Палангой крупный десант с пушками, которых до сих пор, слава богу, у мятежников пока не было. Во главе экспедиции будто бы стоит Михаил Бакунин. А это еще хуже пушек!
— Что-то будет! — тревожно шептал Лихачев, застегивая мундир. — Господи! Спаси Россию, государя и нас, грешных!
* * *
В повстанческом лагере, разбитом в дремучем лесу в окрестностях местечка Шоты, царило оживление. Голоса людей, стук и лязг, конское ржание стояли над пущей. То и дело скакали всадники, подходили и уходили партии вооруженных и безоружных людей. В стороне, в походной кузне, лили пули, катали дробь, гнули железные полосы, ковали наконечники копий. Тут же тесали свежесрубленные березы, ладили к палкам косы и готовые наконечники копий. На небольшой поляне группы молодых крестьян обучались воинскому делу. Особенно оживленно было около старого дуба, на сучьях которого висел портрет царя вверх ногами — мишень для стрелявших. Удачные выстрелы сопровождались шутками и смехом, что, впрочем, было не так часто. Большинство обучавшихся впервые держало в руках огнестрельное оружие. У шалаша в окружении группы мужиков, как видно недавно подошедших к лагерю, стоял Доленга.
В редколесье метнулся всадник и вскоре осадил у шалаша взмыленного коня.
— Пан воевода! Со стороны Рогова идут солдаты, видимо-невидимо! И пехота и пушки, а впереди казаки да уланы. Янек проводником у них. Ведет, видно, по дороге через греблю.
Доленга благодарит гонца, жмет ему руку. Расторопный адъютант воеводы спешит собрать офицерский совет. Разговор, прерванный гонцом, продолжается. Крестьяне просят дать оружие. К ним присоединяется вновь прибывший гонец. Он просит и ему дать «стрэльбу». Гонец добавляет, что сверстники ушли из села, а его держали для связи, потому что имел доброго коня. Он старший в семье и не может оставаться дома. Земли у них нет, кто же добывать будет?!
Плотное кольцо мужиков колыхнулось. Загомонили все сразу. Доленга поднял руку, попросил высказаться кого-либо одного.
— Да вот он уже высказал, — показывает на гонца пожилой загорелый крестьянин со шрамом на лице. — Земли нет! Как добыть ее, где? Все мы, — крестьянин повел рукой вокруг, — пришли к тебе, воевода, за правдой. Говорят, глубоко ее, правду-то, паны запрятали. А теперь настало такое время, что всякий по-своему ее толкует. Был у нас на страстной неделе становой. В имение всех нас согнали, читали бумагу, что царь волю дает и справедливость в подушном обещает. Эконом рядом стоял, тоже головой кивал. Так на наш мужицкий разум выходит, что тут обман. Как же так? Добро нам, мужикам, обещано, и пан эконом вроде бы с тем согласен.
Толпа вновь гудит. Крестьянин продолжает:
— А намедни были у нас панычи верхами. Тоже читали «манихвест», всем землю сулили, а подушного, говорили, совсем не будет и станового тоже. Всяк, значит, себе сам хозяин. А вот про пана нашего ничего не сказали. А мы все, — крестьянин опять повел рукой, — батрачим у пана. Земли-то у нас нет. Да что там земли! Халупы своей не имеем. И вот он, — говорящий показал на молодого гонца, — тоже, как и мы, кутник в графской экономии. Ты нас, воевода, за правду поднял, а где же правда? Землю-то панскую нам дадут аль нет?
Не раз уже говорил Доленга с мужиками, влившимися в его отряды. Но впервые перед ним так ясно, в простых, бесхитростных словах крестьянина встали вопросы, мучившие и его. Как часто спорил он с товарищами, обсуждая замыслы восстания. Кажется, обо всем тогда договорились, все предусмотрели. Теперь долгожданный миг наступил. Поднялся народ. Сотни глаз смотрят с надеждой. Что-то скажет воевода!
Знал Сераковский, каких слов ждут от него мужики, Литва ждет. Душой и сердцем был с ними.
Национальное правительство в Варшаве — верховный вождь восстания — строго запретило всякие покушения на помещичьи земли. Не согласен был Доленга с приказом, но ослушаться не мог. Надеялся, что со временем, подняв народ, можно будет изменить состав временного правительства. Вот тогда во всю мощь развернется крестьянская война. Потекут под его знамена мужики со всех сторон, пойдут на Петербург, на Москву и Варшаву, пойдут на помещиков с кличем: «Вся земля мужицкая! Выкупу никакого! Убирайтесь, помещики, пока живы!» Что сможет остановить эту лавину?!
Пронеслись и исчезли радостные надежды, молнией опалив мозг. Всего этого сразу не выскажешь столпившимся вокруг косинерам. Эти-то, пожалуй, поймут его, но ведь в отряде не одна сотня дворян. Согласятся ли они с потерей дедовских вотчин? Тревожно на душе. Но он заговорил спокойно, уверенно.
— Братья! Национальное правительство над всем краем Литовским и Белорусским поручило мне поднять вас, братья, на святую борьбу за волю, за землю. В отечестве, которое мы отстоим собственной грудью, всем будет хорошо. Кто бы ты ни был — мужик или пан, мещанин или ксендз, еврей или литвин — будешь свободным. Все будут равны, все свободны!
Говорил и следил за обращенными к нему лицами. Видел, как загораются надеждой и доверием глаза. Звенит голос Доленги над поляной, распрямляются плечи крестьян, крепче сжимают они в руках свое немудреное оружие.
— Братья! Мы встали против кривды, против глума. Как брат братьям, как вольный вольным говорю вам. Все будут иметь свою землю, свою хату! Без этого нет счастья человеку!
— Верно, — гудели в ответ сотни глоток. Потрясая оружием, повстанцы требовали, чтобы воевода вел их в поход.
Доленга говорил, что народное войско уже прогнало из сотен сел и деревень становых и казаков. Паны экономы не глумятся над народом, не требуют больше дани, не гонят мужика на панщину. Асессоры не собирают подушный. Попы, чиновники, офицеры дурят народ, говоря, что царь дал новую волю, что посредники отмеряют землю мужику.
— Не верьте! — восклицает Доленга. — Идите к односельчанам, скажите им: теперь настало время, когда каждому достанется столько земли, сколько сам себе отмеряет и нарежет саблей. Так я говорю, братья?! — И слышит гул восторженного одобрения. — А кто встанет против того, толкните своей мужицкой рукой, гоните в шею! Кто бы он ни был — пан или асессор, хоть сам губернатор! И будет у нас справедливая воля!
— Ура! — крикнул мужик со шрамом, и возглас его подхватила толпа.
— На виселицу пана! — крикнул гонец.
И вновь толпа отозвалась могучим эхом:
— На виселицу!
Поплыли над лесом звуки рожков. Загремели фурманки, зазвенело оружие. Вдоль строившихся рядов в голову колонны пронесли знамя. На колыхавшемся голубом шелке земной шар серебрился в золотистых лучах солнца. Броско на русском и польском языках было выведено: «За вашу и нашу, свободу!» Повстанческое войско Доленги-Сераковского выходило навстречу карательным отрядам барона Мейделя.
С высокого дуба отчетливо виднелись гребля, разрезавшая болотистое редколесье, казачий разъезд, крутившийся на опушке, узкая змейка дороги, терявшаяся вдали. Лес был безмолвным. Казаки проскакали. Показалась колонна войск: всадники, пехота на подводах, артиллерийские упряжки. Отряд явно спешил. Очевидно, офицеры надеялись атаковать на рассвете повстанческий лагерь, а до него оставался еще добрый десяток верст. Когда колонна вышла на греблю, Доленга подал условный знак. Стреляя из-за завалов, почти в упор, повстанцы первым же залпом произвели большое опустошение в рядах неприятеля. На гребле все смешалось. Лошади вставали на дыбы, рвали постромки, телеги падали под откос. Солдаты катились вниз в коричневую грязь. Крики людей, лязг железа.
Выстрелы вдруг заглушило громкое нестройное «ура». Часть солдат, развернувшись под огнем в цепь, с ружьями наперевес пошла в атаку на заросли, решив, очевидно, проложить дорогу штыками. Один из повстанческих офицеров (Доленга узнал в нем Болеслава Колышко), крутя клинком над головой, вел навстречу солдатской цепи густую волну косинеров.
«Горячится Болеслав, — подумал Доленга, — надо бы еще дать залп, другой, а потом уже поднять людей». Но, захваченный горячкой боя, уже сам рвался вперед, бросаясь во главе резерва в гущу дравшихся врукопашную.
Через полчаса, когда кровавый диск солнца встал над лесом, все уже было кончено. Часть солдат пробилась через ряды повстанцев и ушла по ковенской дрроге, многие рассеялись в лесу. Казаки и уланы ускакали. Гребля была покрыта трупами. В болоте торчали застрявшие артиллерийские передки и опрокинутые пушки со снятыми замками. Повстанцы перевязывали раненых — своих и чужих.
Победа под Роговом позволила повстанцам закончить формирование. В лесу между местечками Кнебье и Оникшты был разбит лагерь. Собравшиеся отряды и партии добровольцев — всего около двух тысяч человек — были разделены на батальоны и роты. Из-за недостатка огнестрельного оружия только треть бойцов была вооружена ружьями и трофейными штуцерами. В каждый батальон, помимо стрелков, входили роты косинеров. Усиленно обучали собранных людей воинскому искусству. По окрестным селам, как и прежде, рассылались небольшие конные партии для ознакомления населения с программой восставших, вербовки добровольцев, уничтожения местных органов царской администрации.
Из лагеря при Кнебье Доленга намеревался двинуться под Динабург — сильную крепость на Двине, прикрывавшую железную дорогу Петербург — Варшава. В гарнизоне крепости действовала революционная группа. При подходе повстанцев к цитадели она намеревалась поднять восстание и содействовать взятию крепости. В случае удачи в руки восставших переходили огромные запасы оружия и снаряжения, коммуникации карательных войск перерезались, открывалась возможность продвижения в глубь страны на соединение с крестьянами центральных губерний. В Поволжье русские революционеры должны были поднять восстание и двинуться на Москву с востока.
К этому же времени ожидалось прибытие из Лондона к побережью Литвы морской экспедиции, подготовленной революционной эмиграцией с участием Герцена, Бакунина, Маццини. Для обеспечения высадки десанта Сераковский выслал к Паланге два лучших отряда под командованием Яна Станевича-Писарского и Болеслава Длусского-Яблоновского, имевших большой военный опыт. Прославленные командиры уже не раз одерживали победы в боях с превосходящими силами карателей. Их отряды были лучше вооружены и обучены. Доленга полагал, что военное счастье будет сопутствовать им и в этой операции.
Пять дней провели повстанцы в лагере под Кнебье и двинулись к Динабургу. Двигались по почтовым трактам плотной колонной, выслав вперед и по сторонам кавалерийские разъезды.
Каратели, разбитые под Роговом, все еще не решались нападать на сильный повстанческий отряд. Используя передышку, Сераковский хотел показать населению военную мощь повстанцев, ободрить крестьян и жителей местечек, а заодно и поднять моральный дух своей небольшой армии.
Поход повстанческого войска напоминал триумфальное шествие. Жители селений выходили навстречу с хлебом и солью. Сотнями прибывали добровольцы. Крестьянки подводили к воеводе своих сыновей, прося зачислить их в отряд. Можно было образовать ополчение в десятки тысяч бойцов, но не было оружия и командиров.
Доленга принимал в свое войско только добровольцев с оружием. Энтузиазм населения, однако, был так велик, стремление сражаться так владело молодежью, что за колоннами повстанцев шли толпы молодых крестьян, ожидая зачисления в отряды.
В местечке Субочь Доленга получил известие, что заговор в Динабурге раскрыт, там идут аресты офицеров — членов нелегальной организации. Движение к мощной цитадели становилось в этих условиях не только ненужным, но и опасным. Собственными силами, не имея ни одного артиллерийского орудия, нечего было и думать о штурме крепости. Не было отрадных сообщений и о морской экспедиции. Назначенные сроки высадки десанта прошли. Отряды Станевича и Длусского вели упорные бои, маневрируя вблизи побережья, куда царское командование стянуло дополнительные контингенты войск.
Приходилось на ходу менять план борьбы.
На экстренном военном совете было решено: минуя укрепленный район Динабурга, прорваться в Курляндию, где царских войск было сравнительно мало, и поддержать борьбу крестьян-латышей с немецкими баронами. Доленга полагал, что таким путем в тылу карательной группировки войск, находившейся в Литве, возникнет новый очаг восстания с перспективой дальнейшего распространения пламени борьбы на восток. Сподвижники согласились с его предложением.
За Субочем в лесу Доленга остановил отряды и, разбив их на три колонны, приказал двигаться по лесным дорогам параллельным маршем к местечку Биржи, что у самой границы с Курляндией. Там колонны должны были соединиться вновь. Многие недоумевали, почему после блистательной победы надо прятаться от дружески настроенных крестьян, обходить населенные пункты, где к услугам повстанцев было все, что нужно. Между тем принятое решение было, по-видимому, единственно верным. Доленга получил сообщение, что в район Кнебье вышел гвардейский Финляндский полк и форсированным маршем двинулся по следам повстанцев, на ходу присоединяя к себе встречающиеся карательные отряды. Надо было избежать преждевременного столкновения с хорошо вооруженной гвардией царя и вывести из-под удара еще не окрепшие, плохо вооруженные повстанческие силы. Приходилось маневрировать, путать след.
Одного только не знал вождь восстания. Каратели тоже кое-чему научились за три месяца борьбы с повстанцами. Командир Финляндского полка генерал Ганецкий получил в свое распоряжение специальный отряд, сформированный немецкими баронами. Отряд состоял из егерей — метких стрелков, следопытов, знавших леса Литвы и Курляндии. Они-то и вели теперь отряды Ганецкого. Укрыться от них в лесных дебрях было невозможно.
25 апреля в редколесье неподалеку от местечка Биржи встретились две колонны повстанцев. Третья, шедшая кружным, более долгим путем, ожидалась к рассвету. Утомленные маршем, повстанцы расположились на бивак. Офицеры собирались к палатке Доленги, как вдруг послышалась стрельба дозорных. Вслед за тем горнисты заиграли сигнал к атаке. Повстанцы, не успев принять боевой порядок, попали под обстрел.
Вначале Доленга полагал, что имеет дело с армейской пехотой, оправившейся после поражения у Рогова. Вскоре он в бинокль увидел гвардейские мундиры. Первый натиск гвардии отбили. Стрелки, рассыпавшиеся по опушке, задержали атакующие цепи и дали возможность построиться косинерам. Вскоре бой перешел в рукопашную схватку. Несколько штыковых атак гвардейцев было отбито крестьянами, вооруженными пиками и топорами. Однако повстанцы потеряли лучших офицеров, сражавшихся в первых рядах, чтобы личным примером воодушевить необстрелянных крестьян. Тяжелые потери не были случайными. Перед атакой Ганецкий приказал егерям прежде всего вывести из строя командный состав повстанцев. Охотникам, бившим зверя в глаз, не стоило труда различить в атакующих цепях командиров. К тому же гвардейцы вели прицельный огонь даже в перерывах между атаками, не давая повстанцам перестроиться. Последние же стреляли только на расстоянии нескольких десятков шагов.
Вечером во время очередной штыковой атаки центр повстанцев дрогнул. Часть косинеров побежала. Нависла угроза прорыва боевых порядков. Сераковский вскочил на коня и бросился бегущим наперерез, стремясь прекратить начавшуюся панику и обеспечить планомерный отход. В какой-то мере ему это удалось. Повернув бегущих, он, не сходя с коня, повел их в атаку, но вскоре упал раненый.
Ночь, опустившаяся на поле боя, прервала сражение. Повстанцы отошли, сохранив обоз, вынеся раненых. Среди них был и Доленга. Охотничья картечь ранила его в спину, затронув позвоночник. Наскоро перевязанный, он лежал у костра, отдавая последние распоряжения. Было решено переправить его за границу. Об ином решении нечего было и думать. Перед тем как расстаться с повстанцами, Доленга позвал к себе представителей батальонов. Сам представил им нового командующего, наказал слушаться его во всем. Добавил, что рана тяжела, но он надеется скоро вернуться.
Раненого временно укрыли в небольшом охотничьем домике какого-то местного помещика. В ближайшее имение послали людей, чтобы добыть рессорную коляску. Но на рассвете домик неожиданно был окружен ротой солдат. Офицер, открыв дверь, предложил сложить оружие. Сопротивляться было бесполезно. Двадцать повстанцев — из них половина с тяжелыми ранениями — не могли и помышлять о прорыве и спасении. Оказалось, что посланные за коляской люди были задержаны помещицей. Она известила Ганецкого, что в лесу скрывается группа раненых повстанцев.
Тяжело раненного Сераковского повезли в Вильно. Ганецкий гордился, что ему удалось пленить воеводу Литвы. Судьба Сераковского была предрешена.
В Вильно свирепствовал новый генерал-губернатор Михаил Муравьев. Было время, когда он входил в организацию декабристов. Потом стал видным николаевским сановником и стяжал печальную славу циничным заявлением: он не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают. С первых же дней пребывания в Вильно Муравьев оправдал позорную кличку «вешателя». Не скрывал он своих намерений и в отношении Сераковского. На просьбы не расстреливать раненого губернатор с тем же цинизмом заявил, что он не расстреляет, а повесит его.
Сераковского поместили в военный госпиталь. Ганецкий расставил вокруг усиленные караулы. К раненому были приставлены гвардейские унтеры вместо сиделок. Ганецкий явно переусердствовал. Раненый не мог сам даже подняться. Муравьев же полагал, что Сераковский притворяется. Он приказал начать военно-полевой суд немедленно. Суд начался 8 июня прямо в палате госпиталя. Сераковский заявил, что требует гласного заседания, и не ранее, чем восстановятся его силы и он сможет вполне отчетливо вспомнить прошедшие события и вразумительно отвечать на предложенные вопросы.
Комиссия запросила мнение врачей. Военный доктор Гаврила Родионович Городков, осмотрев раненого, заявил: больной находится в таком тяжелом положении, что нельзя поручиться за благополучный исход, поэтому надо оставить его в покое на две-три недели.
Городков был знаком с Сераковским еще по Петербургу, встречался с ним у Чернышевского и теперь специально добился назначения в виленский госпиталь, чтобы быть около друга. Хотя Сераковский был очень слаб, но не выдал своего волнения при неожиданной встрече с Городковым. Последний успел шепнуть ему слова ободрения, сообщить, что товарищи в столице неустанно хлопочут об отсрочке суда, что, возможно, удастся организовать побег. Сераковский, однако, отверг всякую мысль о побеге, заявив, что не желает быть невольной причиной возможных при этом жертв и будет требовать гласного суда. На нем он намерен защищать правое дело восставших перед общественным мнением России и Европы. Это единственное, чем он еще может служить народу.
Мураеьев-вешатель между тем не дремал. Он послал в госпиталь какого-то спившегося лекаришку. Тот поспешил заявить, что раненый здоров. Так авторитетом медицины пытались прикрыть готовившуюся расправу.
Последние формальности были выполнены. 11 июня 1863 года военно-полевой суд вынес у госпитальной койки смертный приговор. Собрав последние силы, вождь восстания, приподняв голову, заявил: «Суд надо мной должен быть гласный!» Но «вешатель», получив протокол судебного заседания, начертал: «Соглашаясь с мнением военно-судебной комиссии, я определяю: Сераковского казнить смертью, но вместо расстрела — повесить, исполнив приговор над ним в Вильно, на одной из площадей города, публично».
Сераковский писал в те дни жене:
«Анели моя! Узнал вчера, что жить и быть свободным могу под одним лишь условием — выдачи лиц, руководящих движением. Не знаю никого, но гневно ответил, что если б и знал, то и тогда не сказал бы. Дано мне понять, что подписал свой смертный приговор. Если надо умереть — умру честным и незапятнанным… Считай, что в понедельник я буду мертв!»
15 июля базарная площадь Лукишки в Вильно была запружена народом. Шпалерами выстроились войска. Мертвая тишина встала над площадью, когда показалась коляска с осужденным. Сераковский полулежал в ней, опираясь на плечи госпитального служителя и ксендза. Не снимая раненого с коляски, прочли приговор. Услышав заключительные слова «казнить через повешенье», Сераковский воскликнул, что протестует перед лицом всей России и Европы.
Полицмейстер махнул рукой. Барабанная дробь заглушила последние слова осужденного. Коляска встала перед виселицей. Палач набросил саван, разбередив разбитый позвоночник. Теряя сознание, раненый заметался. По площади пронесся гул возмущенных голосов. Даже видавшие виды солдаты отворачивались и закрывали глаза.
* * *
Читатель! Если ты побываешь в Вильнюсе, ты увидишь на одной из самых красивых площадей города плиту из серого мрамора. На ней выбиты имена Константина Семеновича Калиновского и Сигизмунда Игнатьевича Сераковского — двух прославленных вождей восстания 1863 года, в котором плечом к плечу против царского самодержавия сражались русские и поляки, белорусы и литовцы. Зелень молодых лип, посаженных благодарными потомками, шумит над плитой, установленной на том месте, где некогда оборвалась жизнь славных борцов за свободу.