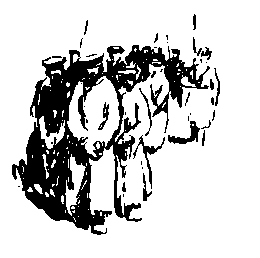В. Кернаценский
МИТРОФАН МУРАВСКИЙ
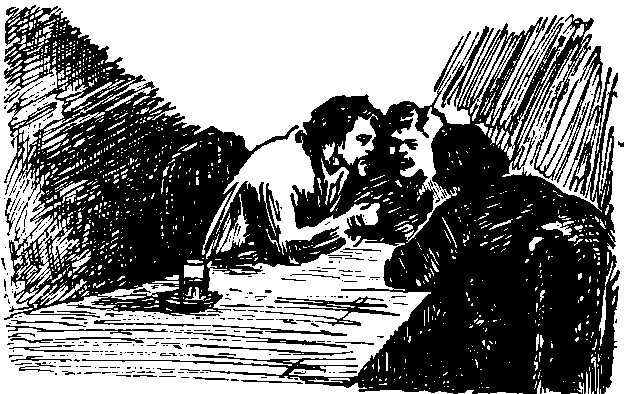
Мысли о детстве будили в нем ощущения солнечных просторов и пряного аромата южных степей.
Митрофан Данилович вспоминал себя худощавым мальчуганом, резво бегущим навстречу ветру по полям и холмам. Возле дубовой рощи белели хатки деревни Степановки, а поодаль, на холме, небольшая барская усадьба — имение отца, Данилы Муравского. Митрофану был всего один год, когда семья Муравских в 1838 году переехала из Харьковщины в Александровский уезд Екатеринославской губернии. Здесь прошло его детство.
Беззаботные детские годы омрачала суровая изнанка действительности. Кругом слышался стон крепостных людей. Жизнь была сплошной мукой. Вот со слезами валяются они вместе с женами и детьми в ногах у барина. Это сосед-помещик собирает недоимку. И маленький Митрофан бежал прочь, чтобы не слышать стона и криков. Он знал, что теперь многим в деревне не хватит хлеба даже до рождества.
Еще страшнее были набеги исправника и станового за подушной податью и рекрутами. Всюду шел циничный торг крепостными «душами». В барских конюшнях свистели плети…
Дикие сцены из огромной крепостнической трагедии на всю жизнь оставили глубокий след в его памяти.
А вот, десятилетним подростком, он сидит за партой Екатеринославской гимназии. Арифметика, чистописание, география, история были ступеньками в мир широких познаний. Но покуда все это перемежалось с зубрежкой, тумаками и подзатыльниками. Ни один учитель не оставил у Митрофана приятных воспоминаний. Сверстники тоже мало интересовали его. Он нашел себе иных друзей. То были книги.
Мать приучила его к чтению, и теперь он все чаще увлекался гармонией пушкинских стихов, знал наизусть многие творения Державина, Жуковского, Козлова. Позднее его увлекали повести и романы Марлинского, Дюма, Вальтера Скотта, Эжена Сю. Когда мальчик дошел до четвертого класса, его страстью стала история. В ней Митрофана прежде всего интересовали военные события. Вот где открылся простор мечтам и воображению! С книжкой на коленях он сражался в фалангах Александра Македонского; вместе со Сципионом рушил стены Карфагена; с суворовскими чудо-богатырями штурмовал вершины Сен-Готарда. Митрофану казалось, что он рожден для военной деятельности. Временами он пытался писать стихи о походах, сражениях…
Но и эта страсть миновала, как детская болезнь. В седьмом классе гимназии он стал более серьезно смотреть на вещи, размышлять об окружающем. Митрофана стала привлекать ученая деятельность. Он задумывался об университете.
Семнадцати лет Муравский получил гимназический диплом.
Однажды в руки Митрофана попала старая книга с изречениями китайского философа Конфуция.
Она пробудила в нем много мыслей: в чем цель жизни человека и народа? Как возник мир и человеческий разум? Что такое истина, счастье, добро и зло? Отчего произошло неравенство, власть одних над другими?
Он хотел серьезно изучить философию, думая найти в ней ответ на эти вопросы. В 1854 году Митрофан подал прошение на историко-филологический факультет Харьковского университета, но вскоре, ознакомившись с программой, передумал: ассиро-вавилонские развалины и древнегреческий язык грозили отнять у него все время, а курс философии на этом факультете был не большим, чем на других. Он тут же забрал бумаги и поступил на юридический.
Первая лекция. С глубоким почтением смотрел «будущий юрист» на тучного профессора Мицкевича, взбиравшегося на кафедру.
— Римское право есть основа для познания всей современной юриспруденции, — начал с расстановкой лектор.
Вслед за профессором римского права появился профессор Станиславский, читавший энциклопедию законоведения и государственных законов. Потом замелькали новые имена и мудреные названия. Профессор Полумбецкий объявил себя специалистом в области законов уголовных и полицейских. Знатоком законов о государственных повинностях и финансах оказался профессор Клобуцкий и т. д.
Впечатление было ошеломляющим. Муравский был убежден, что он попал в истинный храм науки. Беседы со старшекурсниками посеяли первые разочарования. Старшие товарищи с пренебрежением отзывались о многих профессорах. Все, что здесь читают, говорили они, — ветхая рутина, перепевы мертвых правовых школ. Для современной жизни это не годится.
Прошло некоторое время, и Муравский сам начал понимать, что подлинная наука права находится где-то далеко за стенами университета.
Его жизнь постепенно вошла в определенную колею. По утрам юный первокурсник спешил в университет. В зале за каждым студентом было закреплено место. Пропускать лекции не разрешалось. Студенческая братия была самая разнообразная. Юристов звали «богачами», а медиков — «лекарями». Богатые студенты квартировали у местных профессоров. За полный пансион профессору много платили, но «пансионер» мог быть твердо уверен, что он кончит курс. «Пансионарии» кутили, играли в картишки. В Харькове квартировал полк улан. На вечеринках «пансионарии» соперничали с ними в танцах, и притом так, что однажды дело чуть не закончилось дуэлью.
Университет мало отличался от прочих российских казенных присутствий. Жизнь студентов контролировалась до мелочей.
Крикун Эйлер, старший инспектор, прозванный брандмайором, мог прийти к студенту рано утром или поздно вечером, проверить, что он читает, как расходует деньги.
Его помощник — рыжеусый верзила Засядько — исправно вел кондуит, а в необходимых случаях делал из него выписки для сообщений родителям.
Наряду с этими строгостями «ученые мужи», не краснея, брали деньги за хорошую отметку. Богатые студенты охотно соглашались на это, лишь бы закончить курс.
Университетская жизнь разрушила гимназическую замкнутость Муравского. Теперь он не сторонился сверстников.
Шла Крымская война.
Каждый день Муравский жадно читал газеты и ждал победоносного окончания войны. Вера в силу русской армии жила в нем еще с гимназических лет.
Однажды в перерыве между лекциями он читал хронику военных действий. К нему подошел быстрый в движениях, невысокий юноша.
— Разрешите представиться, коллега: Яков Николаевич Бекман, своекоштный студент.
Муравский оглядел его: брюнет, коренаст, с умным взглядом.
— Очень рад. Муравский.
— Вижу в руках у вас свежую газету. Интересуетесь ходом событий на театре военных действий?
— Да… интересуюсь, — ответил Митрофан с небольшой заминкой. — Последние новости обнадеживают. Схватки на Малаховом кургане дают невиданный пример мужества русской армии. Такие солдаты не могут не победить!
— Солдаты — да, а начальство — нет! — заметил Бекман.
Звонок заставил их поспешить на места в зал. После лекций они вместе возвращались домой.
Бекман был сыном мелкопоместного дворянина Полтавской губернии. Он снял комнату недалеко от университета, на тихой Мало-Сумской улице.
Муравский стал часто бывать у него. Чтобы не тратить свечей, он тащил друга на улицу. Вечерние прогулки стали привычкой. Друзья обходили темные улицы, кружили вокруг университета и с Екатеринославской улицы поднимались на Университетскую горку — небольшой холм, обсаженный шпалерой деревьев. Отсюда открывался широкий и красивый вид на всю западную часть города, что за рекой Лопанью. Во время прогулок они часто спорили о возможном исходе войны.
— Митрофан, солдаты и народ могут выиграть войну, — говорил Бекман с уверенностью много думавшего человека, — но начальство крадет, дороги разбиты…
Муравский нетерпеливо перебил его:
— Я слышал об этом! Эти нелепые слухи распространяют враги отечественной славы. Время покажет, что ты не прав.
Но Муравский ошибся. Не звуки фанфар и не грохот победного салюта возвестили конец этой войны. Нет, позорный мир, смерть тысяч солдат, гибель Нахимова, Корнилова и всего Черноморского флота.
Негодование и стыд охватили юношу. Будто он сам был виноват. Бекман ощущал то же самое. У многих поражение в Крымской войне породило уныние. Муравский тяжело переживал крах своих иллюзий, но зато теперь он ясно увидел необходимость немедленных перемен.
— Да, Яков, Россия далеко не образец совершенства, — говорил он своему приятелю, — ей еще над многим следует потрудиться, от многого очиститься. Теперь для России тоже предстоит война, но война внутренняя, для этой войны тоже требуется мужество, быть может более почетное, нежели военная храбрость, — мужество гражданина.
— Правильно, правильно, Митрофан. Спасти Россию теперь могут только глубокие перемены. И не штопкой дыр на старом кафтане должно заниматься теперь. Всеобщий переворот нужен России. Старое надо разрушить!
— Но как сделать это? Что разумеешь ты под всеобщим переворотом?
— Революцию, дружище! Это такая вещь, когда народ, подняв знамя свободы, под звуки победной песни рушит бастилии и возводит тиранов на эшафот.
— А затем?
— Затем собираются представители всей нации и решают судьбу страны. Именем народа они издают великий закон свободы, равенства, прогресса…
Все это звучало очень увлекательно. Но Митрофана не удовлетворяли громкие слова. Больше всего он любил ясность. С мыслью о всеобщем перевороте вставало множество вопросов. Вдвоем обсуждали проблему уничтожения крепостного права и вопрос о землевладении. Дальше требовалось уяснить задачи государственного переустройства и найти ответ на вопрос: какими силами и как может свершиться революция?
Книги! Вот где оба друга искали теперь помощь и поддержку. Книги выпрашивали у знакомых, покупали у букинистов, брали вместо жалованья за уроки сынкам состоятельных родителей. Муравский положил начало политической библиотеке. Очень скоро на его полке оказались запретные рукописные сочинения. Появились и первые номера журнала с изображением Пестеля, Рылеева, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Каховского. То была «Полярная звезда» Герцена.
Началось жадное изучение истории европейских революций, раздумье, споры с Бекманом.
Однажды вечером, просидев перед тем целое воскресенье с пером в руке, Муравский явился к Бекману.
— Хочу прочитать тебе наброски своих мыслей.
— Давай!
Бекман слушал не двигаясь. Он вскочил со стула лишь при следующих словах:
— «…утвердить новый закон или изменить существующий государь может не иначе, как с согласия членов Государственного совета и сената, которые должны состоять из депутатов от каждого сословия и каждой области…»
— Конституционная монархия! — гаркнул Бекман, забыв осторожность. И тут же заговорил, шагая по комнате: — Скажи на милость, зачем же оставлять самого тирана, если сила будет в руках депутатов? Нет, я за республику! Это не переворот…
Муравский объяснил, что в простом народе живет вера в самодержца.
— Ну, об этом подумаем, как быть, — отвечал его друг. — Вдвоем мы всего не решим. Пора создать общество людей честных и смелых, готовых пожертвовать всем ради свободы.
Митрофан согласился. Они оба стали искать надежных друзей. Друзья нашлись.
Таинственные собрания на квартире Бекмана не привлекали внимания посторонних. Что ж, пусть себе зубрят латынь и право, думали те, кто покупал отметки за деньги.
Сначала Муравский пригласил к Бекману Петра Ефименко, с которым вместе учился в гимназии. Ефименко держался в университете благодаря отличным способностям. Родители юноши очень нуждались, и ему: не раз грозили исключением за невзнос платы.
Спустя некоторое время Ефименко привел худого студента Александра Тищинского.
— Вот, господа, рекомендую обер-офицерского сына.
Затем удалось привлечь Петра Завадского, сына сельского священника, подвижного, словно ртуть, тщедушного на вид молодого человека. Бекман привлек еще к участию в собраниях Константина Хлопова и Владимира Ивкова. Первый был сыном отставного штаб-ротмистра, второй из обедневших дворян, живших на Кавказе.
Так уже в начале 1856 года подобралось ядро будущего тайного общества. Среди семерых единомышленников только двое — Завадский и Тищинский — были медиками. Остальные — юристы. Но вопреки существующим традициям отнюдь не богачи. В своем большинстве это были люди более чем скромного достатка. Семья Митрофана Муравского уже не имела к тому времени никакой недвижимой собственности.
Вокруг Бекмана и Муравского постепенно собиралась талантливая молодежь. Известный харьковский профессор Каченовский утверждал, что за все время преподавания он не встречал студента способнее Бекмана.
Работы Завадского, Хлопова, Ивкова признавались в университете выдающимися.
Каждый, кто появлялся в бедно обставленной квартире Бекмана, мучительно переживал поражение русской армии под Севастополем, нищету народа и крепостное право.
В комнате стояло серое облако табачного дыма, но дверь не открывали. Изредка кто-нибудь тихо подходил к двери и внезапно распахивал ее: следили, не подслушивает ли кто.
Говорили и спорили горячо — много накипело. На чем свет стоит ругали правительство, осуждали деспотизм Николая и его жестокость к декабристам.
Читали вслух все, что содержало критику царизма. По рукам ходили сочинения Герцена, письма Погодина о восточной войне, письмо декабриста Штейнгеля Николаю I, написанное в 1826 году в крепости.
* * *
Утром в первый день пасхи, 15 апреля 1856 года, на квартиру к полицмейстеру примчался запыхавшийся вестовой. В руках — пакет с надписью «Экстраординарно».
— От господина квартального надзирателя!
Начальник харьковской полиции с трудом протирал глаза после праздничной попойки. Пакет вскрыт. Квартальный рапортовал, что нынешней ночью в разных местах на улицах города были расклеены рукописные «преступные листы» одинакового содержания, общим числом — двадцать пять. Один из листов прилагался.
Пасхальный хмель вылетел из головы начальника с первых же строк.
«Божьим попущением и неистощимым терпеньем любезноверного нам русского народа, мы, Александр Вторый, император и самодержец всероссийский, объявляем всенародно…»
Дальше шел текст, от которого полицмейстер долго не мог прийти в себя. Праздник испорчен! В полиции тревога. Кто писал? Кто клеил?..
Граф Остен-Сакен, харьковский губернатор, готов послать к чертям всю свою полицию. От пасхальных возлияний ныла печень. Но все же пришлось читать:
«…Так, россияне, ваша благородная ревность к славе отечества, ваши пожертвования, ваша кровь были напрасны! Народ и войско сделали все, что могли; но неспособность и корыстолюбие генералов, хищничество высших сановников…»
Это была жестокая и смелая пародия на царский манифест о мире. И ее прочитали по крайней мере сотни обывателей!
«Вот так история, — думал губернатор, — как теперь выкручусь из нее?»
В донесении к министру внутренних дел Остен-Сакен старался приуменьшить значение события. По его мнению, это просто чья-то мальчишеская выходка, не поколебавшая преданности харьковских обывателей престолу.
— Плохое оправдание, приятель! — усмехался шеф жандармов Долгоруков. К нему в столицу листы были доставлены очень скоро. — Нет, посмотрите, что пишут и читают в Харькове!
…«Благодарим вас, добрые россияне, за ваше ослепление, в котором вы не видите всех злоупотреблений наших; благодарим вас за ваше терпение, поистине овечье, с которым вы переносите все бедствия, все несправедливости, всю тьму зол, происходящих от деспотической власти нашей…»
Каково? И в Харьков летят депеши. Губернатору, жандармскому генералу, полицмейстеру — всем предписывается немедленно отыскать «злоумышленников».
Пришлось доложить и самому императору. Царские усы и бакенбарды топорщились в разные стороны от гримас. Еще бы!
«…Спите, добрые россияне, пока с вас не стянули последней рубахи, не выпили последней капли вашей крови. Спите! Верьте архиереям и попам. Утешайтесь нашими о преобразованиях обещаниями, в которых не было, нет и не будет ни слова правды…»
А внизу написано:
«Дан в С.-Петербурге и проч., и проч., и проч.».
Да, таких вещей при покойном отце-императоре не было! Целое лето самодержец России держал в памяти эту оплеуху, и нет-нет шеф жандармов снова напоминал харьковским властям, что «государь император изволит обращать особенное внимание на это дело» и что для обнаружения «преступников» следует употребить «все средства». Но ни депеши, ни «средства» не помогали. Авторов и распространителей «манифеста» не нашли.
Между тем спустя месяц с небольшим на стенах Харьковского университета и на окружающем его заборе начальство, к своему ужасу, обнаружило четыре одинаковые рукописные афиши.
«К 1862 году, тысячелетнему юбилею Россию, обитателями русской земли, если народ поскорее очнется, совершено будет:
Освобождение России от батыевых наследников, или Победа света свободы над мраком самодержавия. Историческая драма в 3-х действиях, соч. Судьбы Народов».
В афише фигурировали такие действующие лица, как, например, «проповедники истины», «гонители истины», «народ».
Происхождение этой рекламы тоже осталось тайной для жандармов и полиции.
Все чаще стали доносить местные жандармы в столицу о распространении у них всевозможных рукописных «пасквилей». Их ходило теперь по Харькову много. В них остро высмеивалось все местное начальство, начиная с генерал-губернатора Кокошкина, кончая попечителем учебного округа.
Кокошкин снискал себе славу среди харьковчан в двух сферах административной деятельности. Первая — строительство деревянной лестницы на Университетской горке; вторая — беспощадное преследование студентов. Беда, если на улице генерал-губернатор повстречает студента в мундире, не застегнутом на все крючки. Арест неминуем.
Зато как дружно хохотали студенты, а с ними и многие жители Харькова, читая остроумные сатирические стихи, посвященные ретивому правителю! В Харьковской управе благочиния и штабе жандармского округа велся длинный список таких произведений. В нем можно было увидеть, например, такие названия: «Вопль С. А. Кокошкина к царю», «В нашем городе тревога», «Когда Кокошкин в силе был…», «Вопль Кокошкина к своему защитнику», «Маскарад», «На гулянье».
В конце марта того же 1856 года в университетских аудиториях, в убогих студенческих квартирах и присутственных местах города люди давились от смеха. Они украдкой переписывали длинную сатирическую повесть «Дело о падении аэролита на Харьковский университет в ночь под праздник святого благовещения 25 марта 1856 года».
Злая пародия на попечителя учебного округа Катакази начиналась с рапорта университетского экзекутора ректору. Рапорт, написанный по всем требованиям канцелярской формы, гласил, что в указанную ночь на постель, принадлежащую попечителю, с неба, пробив крышу и потолок, свалилась «необыкновенно уродливая фигура», которая, впрочем, «напоминает отчасти человеческую», но издает необыкновенно сильный и удушливый запах, «напоминающий запах гнилой редьки и чеснока».
По ходу повести события развивались следующим образом. Ректор университета распорядился произвести «ученое исследование» над упавшей фигурой.
Много веселых минут доставило харьковчанам чтение ученых «заключений», сделанных профессорами университета. Так, например, профессор математики Байер по исследовании размеров мозга «фигуры» доказал, что «он составляет величину бесконечно малую». Один из профессоров-юристов пришел будто бы к выводу, что за свои преступления (богохульство, взяточничество и пр.) «фигура» не несет ответственности, «как и всякая вредная и неразумная тварь».
Долго билась полиция над вопросом о происхождении «пасквилей», гуляющих по городу. Подозрения пали на студентов братьев Раевских и братьев Марковых, о чем и сделан был соответствующий рапорт в Третье отделение.
Впрочем, харьковские власти полагали, что пока «тишине» и «спокойствию» города опасность не угрожает.
* * *
13 ноября 1856 года. В комнатке студента Ефименко полумрак. Слабый круг света едва охватывает стоящих у стола. Это Бекман, Муравский, Ефименко, Завадский, Ивков. Остальные — в тени.
— Сегодня у нас особо важный вопрос, — говорит Бекман. — Необходимо закончить обсуждение программы общества и утвердить ее.
Беседа идет вполголоса. Каждый по очереди поднимается с места и сообщает свое мнение. За окном непогода. Завывает ветер. Холодный дождь бьет в стекла.
Их теперь уже тринадцать. После летних каникул 1856 года тайное общество приобрело восьмого члена в лице Вениамина Португалова, купеческого сына из города Лубны. Потом появились еще пятеро. С ними первое знакомство началось еще в начале года. Как-то раз на одно из собраний неутомимый и всезнающий Ефименко привел симпатичного, изысканно одетого молодого человека.
— Николай Раевский, с физико-математического, — сказал он, пожимая Муравскому руку.
Митрофан заметил во взгляде и речи пришельца много ума и юмора.
— Вот он, творец харьковских пасквилей, — смеялся Ефименко, хлопая новичка по плечу.
Действительно, выяснилось, что Раевский возглавляет тайный «пасквильный комитет». У него есть друзья. Они тоже с физико-математического факультета. Очень скоро Муравский и его товарищи познакомились и с остальными членами «комитета». Кроме Николая Раевского, туда входил его брат Виктор, затем братья Марковы, Алексей и Евгений, и, наконец, Николай Абаза.
Муравский тотчас отметил про себя, что это люди одного круга, выходцы из состоятельных и привилегированных семей. Однако держались все очень просто и чем-то располагали к себе. Скоро Митрофан понял, что инициатива и литературный талант принадлежали только двум деятелям «комитета» — Николаю Раевскому и Алексею Маркову. Остальные были лишь техническими исполнителями.
Сближение с «пасквильным комитетом» началось, конечно, на почве сатиры. Общество Бекмана — Муравского охотно согласилось принять участие в написании «Аэролита». Это они, Бекман, Муравский, Ефименко и Завадский, сочинили «мнения» профессоров о загадочной «фигуре». Начало повести представил «комитет» Раевского. Распространяли «Аэролит» вместе. Вместе сочиняли новые остроты.
Что касается пародии на манифест и афиши к тысячелетию России, то это дело полностью принадлежало обществу Бекмана — Муравского. Митрофан больше всех потрудился над «манифестом», и один его экземпляр он сам опустил в ящик почтовой конторы, сделав предварительно на пакете надпись:
«Христос воскрес!
Воистину воскрес!
А правда еще только воскресает!»
Он же, Муравский, от начала и до конца написал текст афиши.
Вскоре Николай Раевский предложил объединить «комитет» с обществом. Митрофан долго обсуждал с Бекманом его предложение. Доводы Раевского казались основательными. Члены «пасквильного комитета» хотят не только высмеивать и обличать местное начальство. Этого недостаточно для тех, кто искренне возмущен нынешними порядками. Если есть люди, ставящие серьезные цели в смысле воздействия на судьбы России, то он, Николай Раевский, как и его друзья, охотно примкнет к ним. И их решили принять.
Сегодня, 13 ноября, в комнате Ефименко налицо весь «пасквильный комитет». Обсуждение программы продолжается. Выяснилось, что почти все старые члены общества, руководимого Бекманом и Муравским, — горячие сторонники республиканской программы. В вопросе о республике Муравский теперь без колебаний поддерживал Бекмана.
Впрочем, без споров не обошлось.
— Нас вполне устроит конституционная монархия, — говорил Николай Раевский. — Нет нужды в убийстве царя. Его достаточно ограничить конституцией.
С Раевским соглашался и Ефименко. Но республиканцы твердо стояли на своем, и перевес остался за ними. Окончательное решение гласило:
Целью общества является всеобщий переворот в России. Его результатом должно быть освобождение крестьян, как самая настоятельная потребность русского общества, а также замена монархии республикой. Общество преимущественно обращает внимание на крестьян, как на людей, более других склонных к перевороту по причине недовольства своим положением, и на войско, для того чтобы иметь на своей стороне физическую силу. Распространять эти понятия общество полагает посредством запрещенных сочинений, чужих, отчасти и своих собственных.
Такое решение со всей настойчивостью отстаивали Бекман, Муравский, Завадский. Их горячо поддерживал Владимир Ивков.
— Я полагаю, — говорил он, — что условием для достижения нашей цели является, во-первых, недовольство низшего сословия против дворянства, а во-вторых, то обстоятельство, что по окончании Восточной войны сильно поколебался в отечественном мнении авторитет правительства. Мне думается, что лучшим средством для восстания будет сеть наших агентов между офицерами Киевского гарнизона, так как в этом городе имеется сильная крепость и огромный арсенал.
Некоторые участники собрания указывали также на недовольство казаков и раскольников. Для привлечения последних на свою сторону рекомендовали даже использовать священное писание.
В ходе дебатов нельзя было обойти вопрос о судьбе царской фамилии. Вопрос этот так и не был решен окончательно, однако большинство считало необходимым в ходе всеобщего восстания покончить с династией. Особенно горячо отстаивал цареубийство Петр Завадский. Позднее он не раз выступал с предложением начать все дело именно с этого. Подобная позиция, однако, встречала резкий отпор со стороны большинства.
Собрание закончилось поздно.
Оставалось выработать устав общества. На это ушло две недели. Проекты устава вносились каждым участником общества. Затем особая комиссия в составе Бекмана, Николая Раевского и Завадского занялась редактированием единого проекта. В ходе его обсуждения вносились поправки. Особенно много поправок было сделано Муравским, и потому его также ввели в состав редакционной комиссии.
Второе заседание. На этот раз на квартире Муравского. Устав зачитан, принят и подписан всеми членами общества. Подписывались псевдонимами: «Царедавенко», «Остолопов», «Днепров» и т. д.
Тут же были произведены выборы. «Президентом» общества избрали Якова Бекмана. Секретарем — Петра Завадского. На должность казначея выбрали Константина Хлопова. Митрофану Муравскому поручили должность библиотекаря. Эта незаметная, казалось, функция в действительности была весьма важной. Обществу требовалась литература. Особенно запрещенная. Чтобы добыть ее, нужны были энергия и находчивость.
В тот вечер друзья разошлись воодушевленные своим дерзновенным предприятием. Снег хлопьями падал на крыши затихшего города. Обыватели мирно спали. Сновидения, полные наград и почестей, баюкали харьковское начальство, не подозревавшее, что у него под боком кучка смелых юношей создала тайное общество. Своим знаменем оно избрало революцию и республику. Это было первое революционное общество в России, возникшее после Крымской войны.
* * *
С ноября 1856 года до апреля 1858 Митрофан Муравский работал не покладая рук. Общество развернуло свою деятельность по всем направлениям. Расширился состав, готовился материал для пропаганды в народе, распространялась литература среди учащейся молодежи, завязывались связи с передовым студенчеством других городов России. На заседаниях общества обсуждались политические события.
В один из весенних вечеров 1857 года Муравский сидел один у стола. Отложив в сторону свод законов, по которому следовало готовиться к экзамену, он писал. Это было воззвание. Автор назвал его очень просто — «К украинцам». Несколько первых строк были уже готовы.
«В манифесте ложно сказано, будто мы побили неприятеля в Крыму, тогда как, напротив, они нас побили, отняли часть Бессарабии, а царь пожег корабли, поразорял свои крепости, а теперь сидит сложа руки. Вот что он наделал. И после этого отвирается и обманывает в манифестах простой народ…»
Митрофан задумался. Надо написать просто и доходчиво о главном. Простой народ должен понять, что царь и его правительство — злейшие враги. Но это еще не все. Надо рассказать, за что следует бороться.
Вот уже два месяца, как члены общества приступили к составлению воззвании к народу. Петр Завадский пишет «Поучение», в котором собирается рассказать о древних земских и вечевых порядках на Руси. Александр Тищинский уже написал воззвание «Голос из села», возбуждающее недовольство народа против царя и правительства. Но всего этого мало. Тайное общество должно добиться того, чтобы его услышал весь народ России. Работы много, Митрофан снова макает перо в чернильницу.
«…за все такие скверные дела надобно свергнуть царя. Царей совсем не нужно. Да еще надобно отобрать крестьян от господ, прогнать негодное начальство и поручить управление государством пятидесяти выборным от всей империи, по одному от каждой губернии».
Осторожный стук в дверь. Два медленных удара с расстановкой и два коротких, резких. Кто-то из своих. Прикрыв сводом законов лист бумаги, Митрофан отпирает дверь. На пороге Петр Ефименко.
— Как, разве ты не в Москве?
— Только что с дороги. Дела идут недурно, — вполголоса говорит приятель, усаживаясь на подоконник. — Белокаменная просыпается от спячки. Там образовалось тайное общество «вертепников». Всем делом заправляет Павел Рыбников с друзьями. До чего же увлекательны их собрания! Понимаешь…
И Ефименко рассказывает своему другу о том, как в Москве на квартире Рыбникова происходят философские и историко-политические диспуты. На них стекается уйма всякого народу: студенты, литераторы, офицеры. Ярче всех выделяется студент Свириденко.
Этот не боится никого. Один на один выходит против могучего спорщика, публициста Алексея Хомякова, заядлого славянофила. А с ним и Герцену нелегко было справляться. Только общество Рыбникова как-то сторонится политики, все больше увлекается философией да общими взглядами на судьбы России.
— Ну, да и это не плохо для раскачки умов, — заключает рассказчик.
С обществом «вертепников» с тех пор наладилась постоянная связь. Московские друзья присылали литературу, за которой Муравский охотился день и ночь. Но этого не хватало. Муравский, забросив лекции, усердно писал письма в разные города. Покупка, обмен, посылки на временное пользование для переписки — все виды и способы приобретения литературы умело и с толком использовал Муравский. В результате библиотека выросла до солидных размеров. Библиотекарь открыл запись читателей, и теперь не только юристы, но и медики и математики проторили дорожку к квартире Митрофана Муравского.
— Отлично! Пусть просвещаются, — радовался Бекман. — Только запрещенные сочинения выдавай с оглядкой, не всякому.
Но вот из-за границы раздались первые удары герценовского «Колокола». Просвещенная Россия встрепенулась. Что это? Откуда взялась эта смелость и сила?..
А «Колокол» гудел все громче. Люди стали пробуждаться и мыслить. Всем хотелось услышать голос вещего Искандера. А потом писать… писать… просить лондонского издателя «высечь» того и отдать «под суд» другого…
Митрофану и его друзьям сразу прибавилось забот.
— Теперь все за дело! — скомандовал Бекман.
Он собрал «пасквильщиков». Довольно бездельничать! И вот уже по городу пошли путешествовать рукописные копии герценовских статей. Это работа тайного общества. Новый шаг вперед.
Тайное общество обрастало новыми участниками. В конце 1857 года в него вступил медик-первокурсник Сергей Рымаренко. Он стал усердным помощником Бекмана и Муравского. Посетителем тайных собраний стали Иван Марков и Левченко.
А что делал тем временем Николай Раевский?
Предприимчивый юноша на одном из тайных собраний предложил создать Литературное общество.
— Туда можно привлечь широкий круг разномыслящих людей и постепенно вести просветительную работу. Так легче подбирать единомышленников. К тому же общество может служить удобным прикрытием нашей тайной деятельности, — говорил Раевский.
Все согласились. В работе Литературного общества приняли участие Бекман, Муравский, Завадский. Президентом нового общества избрали Николая Раевского.
Дело оказалось живым и полезным. На литературные собрания допускались все знакомые студенты. Появились общественные средства. Это позволило организовать выписку журналов. Началось чтение и обсуждение статей. Организаторы выступали со своими сочинениями. На одном из первых собраний блестяще выступил сам президент. Митрофан Муравский подготовил и прочитал свой перевод из Лорана «О международных отношениях древних греков и римлян».
Муравского тянуло к литературной деятельности. В университете вместе с Левченко он начал выпускать рукописный журнал «Шпиц-бубе». Сатирические картинки из университетского быта сделали журнал необычайно популярным.
Так шли дни, полные кипучей деятельности. Они благотворно отразились на внутреннем развитии
Митрофана Муравского. То было время всеобщего оживления. Ход крестьянской реформы и многие проблемы общественной жизни стали постоянным предметом новых его раздумий. Тут-то и пришла на помощь во всех сомнениях могучая рука. Силу ее он ощутил при первом знакомстве с «Современником». Статьи Чернышевского и Добролюбова усердно изучались членами тайного общества. Неустанно следили юные единомышленники за ходом полемики Чернышевского с его противниками, радовались его блестящим победам, учились публицистическому мастерству.
Идеи Чернышевского на всю жизнь стали путеводной звездой для всего мировоззрения и деятельности Митрофана Муравского.
В университете между тем обстановка накалялась все больше. Начались студенческие волнения. Первое столкновение студентов с местными властями произошло в январе 1857 года. Двадцати студентам грозило исключение. Муравский вместе с товарищами по обществу деятельно вмешался в «историю» и попал в список «неблагонадежных». Теперь университетское начальство ждало предлога для исключения Муравского. Случай представился очень скоро. Как-то случайно встретившись в коридоре университета с помощником инспектора, Митрофан забыл снять фуражку. К тому же на окрик оскорбленного «суба» он не счел нужным остановиться, чтобы дать объяснение «проступка». И участь юноши была решена. Дело раздули. В «назидание» прочим Митрофан Муравский был исключен.
Все это случилось так некстати. Дела общества требовали постоянного участия неутомимого и смелого юноши.
— Оставайся пока здесь, — говорили друзья. — Будем продолжать наше общее дело. Потом что-нибудь придумаем.
Они не подозревали, что над каждым из них, как и над обществом в целом, нависла угроза. Инспектор и его помощники давно следили за Бекманом и его друзьями. Авторитет, которым пользовалась вся эта молодая группа среди студентов, избравших Бекмана и Завадского руководителями общей кассы, был не по вкусу начальству.
В апреле 1858 года по университету прокатилась новая волна возмущения. Все поднялись на защиту трех арестованных студентов. Одним из них оказался Митрофан Муравский, уже исключенный из университета. Арест был вызван новым столкновением двух студентов-медиков со слугами князя Салтыкова. Муравский вмешался в потасовку и угодил в лапы городового.
Всю неделю, пока Митрофан отсиживался в околотке, университет бушевал. Друзья по тайному обществу возглавили протест. Вскоре на столе университетского экзекутора появилась стопа прошений. Сто девяносто восемь молодых людей письменно и устно заявили о том, что они покидают университет.
В результате — массовое исключение. В числе исключенных — Бекман, Ефименко, Завадский, Ивков. Остальные получили «высочайший выговор». Бывшие члены «пасквильного комитета» отделались легко благодаря заступничеству влиятельных родителей.
— С Харьковом, пожалуй, покончено, — сказал Бекман своим друзьям.
— А как же наше общество?
— Пока мы живы, оно не погибнет.
* * *
В Киев Муравский приехал зимой 1859 года. С Владимирской горки смотрел он на скованный льдом Днепр, на холодную серебряную синеву куполов Александровского собора и бедные лавки сапожников на Подоле.
«Харьковские эмигранты» были приняты в Киевский университет. Вскоре они и там организовали литературное собрание, в котором, как и в Харькове, было две оболочки — одна явная, а вторая тайная. Вместе с Муравским в Киев перебрались Бекман, Ефименко, Тищинский, Португалов. Завадский, Хлопов и Левченко остались в Харькове. Остальные разъехались кто куда.
Муравский вновь взялся за перо и возглавил издание рукописного журнала «Гласность». Первый номер ходил в узком кругу знакомых. Помещенные в журнале заметки высмеивали университетское начальство и содержали «нестеснительные выражения о государе». Затем Муравский рассказал киевским студентам подробности апрельской «университетской истории» 1858 года в Харькове.
Общество пока было малочисленным. Расширить его состав можно было лишь через литературное собрание. Кандидатов тщательно проверяли. В Киеве в тайное общество было принято пять новых членов.
Муравский сближался с людьми самостоятельного образа мыслей, знакомил их со статьями Герцена, готовил их к принятию в состав общества. Многие друзья разъезжались и становились постоянными его корреспондентами, некоторых же он знал только по переписке, но всем отвечал охотно. Письма, полные прозрачных намеков, свидетельствовали, что его усилия не пропадали даром.
Постоянную переписку вел он с Григорием Залюбовским. Они познакомились в Харьковском университете. Залюбовский не входил в Харьковское тайное общество, но не раз говорил о необходимости подобной организации. В 1858 году Залюбовский написал Муравскому, что нашел в архивах отца материалы о декабристах, которые могут понадобиться в их общем деле. Другому корреспонденту, А. Васильевскому, он посылал в Курск сочинения Герцена.
Студент Петербургского университета Г. Сорокин сообщал ему сведения о деятельности революционного общества петрашевцев. Не забывали Митрофана и бывшие друзья по Харькову. Ефименко писал о попытке вести революционную пропаганду в Нежинском лицее. Из захолустного городка Богодухова подавал о себе вести Левченко.
Талант публициста и редактора так и не был проявлен им. Рукописные журналы в 1—2-х экземплярах, где он писал, за давностью времени канули в Лету, а из его огромной переписки уцелело лишь 4–5 писем целиком и несколько отрывков.
Муравского весьма удручало, что члены тайного общества скованы отсутствием печатного органа. Рукописные журналы, ходившие в единичных экземплярах по рукам, охватывали слишком узкий круг читателей. Нужна была вольная типография.
Хотелось говорить полным голосом, писать, не оглядываясь на цензуру.
Муравский предпринимает энергичные усилия для установления связи с Герценом.
Герцену было известно о существовании революционного студенчества в Харькове и Киеве. Харьковскому студенту Богомолову удалось встретиться с Герценом в Лондоне.
— Искандер особенно надеется на Малороссию и Харьков, — рассказывал Богомолов.
Наконец Муравскому удалось через полицейские кордоны передать весточку Герцену. В Одессе он отыскал человека, который часто бывал в Лондоне. Ему Муравский доверял почту для «Колокола». Статья о злодеяниях харьковского попечителя Зиновьева была послана Муравским по этому каналу. Герцен получил ее и напечатал в своем издании «Голоса из России».
Не менее важно было получать и литературу из Лондона для библиотеки запрещенных сочинений.
Вскоре благодаря Герцену перед обществом Бекмана — Муравского открылось широкое поле деятельности. В Киев из-за границы приехал профессор Павлов. В лице Муравского и его друзей он нашел горячих энтузиастов народного просвещения. Их порекомендовал ему Герцен.
Началось широкое общественное движение под названием «воскресные школы». Митрофан всей душой отдался новому делу. Вместе с Бекманом он радовался тому, что, наконец, сбывается их давнишняя мечта — найти путь общения с простым людом.
Вместе с Павловым они явились зачинателями организации воскресных школ в Киеве. Муравский поражался, с какой быстротой их инициатива была подхвачена молодежью всех университетских городов. Общее дело послужило средством для расширения связей. Теперь Митрофан вел переписку с Сергеем Рымаренко, жившим в Петербурге. От него узнал он о существовании революционных обществ и кружков в обеих столицах.
Тайное общество «харьковских эмигрантов» смотрело на воскресные школы как на средство революционного воспитания народа. Эту задачу молодые революционеры поставили перед собой еще в Харькове. Но ни Муравскому, ни его товарищам не удалось основательно поработать на новом поприще. Над ними разразилась беда.
В январе 1860 года в Харькове неожиданно для всех арестовали Петра Завадского. Первое, что попало в руки жандармов, была записка о тайном обществе, составленная Завадским для «Колокола». В записке излагались задачи общества. Этого было достаточно.
28 января был произведен обыск на квартире у Левченко в Харькове и обнаружена его переписка с Муравским и Бекманом.
Через несколько дней были арестованы Бекман, Португалов, Розен, Кацен, Шмулевич, Тищинский, Ивков, Хлопов, Раевский, Марков, Лебедев, Шимков и др.
1 февраля в Киеве был взят в полицейский плен Муравский. При обыске сыщики обнаружили целую библиотеку герценовских сочинений — прокламацию «Юрьев день!», рукописную копию книги «С того берега», переписанные Залюбовским статьи «Права русского народа», «Черты русского монархизма», статьи «Ночной смотр», «Двуглавый орел». Кроме этого, у Муравского нашли рукопись «Монарх». В ней говорилось, что «цари существуют на пагубу рода человеческого».
Муравский был заточен в секретный каземат Киевской крепости.
На третьи сутки всех арестованных начали свозить в Харьков. Эхо молодых голосов гулко разнеслось по каменным коридорам и камерам тюрьмы.
Муравского посадили в грязную камеру, лишили книг, табака и права свиданий. Одиночество скрашивали Лебедев и Тищинский, находившиеся в соседних камерах. Настроение у них было бодрое. Пели песни «Вперед без страха», «Ой, на гори та жнеци жнуть».
Вскоре его вызвали на первый допрос.
Вначале он долго и упорно отвергал свою принадлежность к тайному обществу, но позднее убедился, что скрывать уже нечего. Все, кроме Бекмана, не выдержали жандармских угроз и рассказали о многом. Муравский дал письменные показания.
Его ожидала «казенная поездка» в Петербург.
Дорогой Муравский разговорился с сопровождавшим жандармом. Ему показалось, что тот готов проявить к нему сочувствие. У него появилась тревожная мысль: а не был ли кто из арестованных в переписке и с московскими студентами? Нужно немедленно предупредить москвичей.
На одной станции он написал записку: «Господа, многих студентов Харьковского университета арестовали, некоторых везут в Петербург, в том числе и меня. Будьте осторожны. Бывший студент Харьковского университета Муравский».
Заметив косой взгляд жандарма, он спросил:
— Прочесть это вам, или сами изволите?
— Прочтите сами.
Муравский прочел наизусть первый попавшийся стих, и тот успокоился. Оставалось проездом через Москву бросить записку первому встречному студенту.
Потом другой план пришел ему в голову: «Жандарм, кажется, верит мне — зачем же я его обманываю? Не попросить ли его прямо помочь в этом деле? Может быть, он со временем станет порядочным человеком».
— Я в первый раз неправду, сказал, что пишу стих, — обратился он к жандарму, — записку эту нужно передать какому-либо московскому студенту. Вы сможете это сделать?
Странно блеснули глаза провожатого. Но приятная улыбка рассеяла сомнения арестанта. Жандарм неожиданно сказал задушевным тоном:
— Знаете ли что? Давайте вы ее мне. Вот как приедем да сдам вас в Москве, надену шапку, тулуп, пойду на базар за хлебом, встречусь с кем-нибудь из студентов, отдам. Никто и знать не будет.
Митрофан доверился. Записка в руках жандарма. А повозка уже громыхает по булыжнику московских улиц.
Жандарм был из Киева, Москву знал плохо, а лихой ямщик знал лишь, где постоялый двор да трактир. Неожиданно показался студент. Жандарм подозвал его и стал расспрашивать, как проехать. В этот момент Муравский успел крикнуть:
— Предупредите товарищей, чтоб были осторожны…
Миг, и рукавица, пропахшая потом и овчиной, закрыла ему рот.
Записку жандарм представил генералу.
Следственная комиссия приговорила Муравского к ссылке в Оренбургскую губернию. Царь утвердил приговор, написав на документе: «Исполнить».
В ссылку угодили и друзья Митрофана; Бекман — в Вологодскую губернию, Ефименко — в Пермскую, Завадский — в Олонецкую, Ивков — в Вятскую.
* * *
Маленький уездный городишко Бирск встретил почтовую карету безлюдьем тихих улиц. Здесь предстояло Муравскому коротать долгие, тягостные дни. Тупое отчаяние и чувство одиночества терзали его. Порой ему казалось, что он заблудился в степи и обречен.
Он написал письма к друзьям в ближайшие места— Португалову в Казань и Ефименко в Пермь. Ожидание ответа поддерживало в нем искру жизни.
Вскоре пришел ответ Ефименко:
«Не только жаль, но и смешно будет, — писал друг, — если мы, едва сделавши первый шаг в жизни, споткнемся и падем… Наше дело впереди».
Бодрое письмо прислал и Португалов. Первые вести от друзей оживили Муравского.
Первый из местных жителей, кто отважился посетить ссыльного, был преподаватель уездного училища Петров. Молодые люди разговорились.
— Между жителями Бирска ходили слухи, что держите вы у себя разные сочинения лондонского мятежника Искандера… которые вы будто бы похитили в Третьем отделении.
Муравский долго смеялся.
Петров оказался хорошим человеком. С ним можно было начать дело, прерванное в Киеве. Ведь друзья его не пали духом ни в ссылке, ни на родине. Ефименко в Перми затевает организацию ремесленных училищ и воскресных школ; Шмулевич пишет из Киева, что открылись четыре новые воскресные школы, много славного делается в Казани.
С тех пор лед тронулся. Муравский приобрел новые знакомства в училищном кружке. Высокий, худой, в студенческой шинели и валенках, он стал частым гостем в квартирах преподавателей бирского училища.
Его энергия вдохнула жизнь в провинциальный кружок учителей. Заговорили об организации воскресных школ. В августе сделали первую складчину, набрали преподавателей. Оставалось только набрать учеников.
Скоро пришли к мысли, что школы нужно открыть в ближайших от Бирска деревнях. С помощью священника Кассимовского удалось уговорить крестьян по воскресеньям отводить детей в учение.
Бирская публика заволновалась. Прошел слух, что училищный кружок организует литературные собрания. А они действительно начались. Любопытство бирского общества было возбуждено. Смотритель предупредил Муравского, что городская публика проявила к литературным собраниям интерес и изъявила желание в них участвовать. Училищный кружок деятельно готовился к открытию литературных собраний.
На собраниях часто возникали споры. Много было в них наивного. На одном из них как-то раз заспорили, что лучше: деспотизм или свобода для государства, и где лучше: в Англии или в России.
«В литературные беседы, — писал Митрофан Манассеину в Казань, — имеет быть внесен искандеровский элемент, мне удалось достать в Уфе некоторые его статьи».
Шел 1861 год. Муравский старался обратить внимание членов кружка на протесты студентов в Казани, восстание в Казанской губернии, панихиду казанских студентов в память жертв этого восстания и, наконец, студенческие демонстрации в Петербурге.
Однообразен день в присутствии земского суда.
За одним из столов высится фигура Муравского. Он служит здесь писцом. Ежедневно с 8 утра до 2—З часов дня и с 6 часов до 10–11 вечера он проводит за перепиской бумаг. Крайняя нужда заставила его пойти на службу.
Радостной отдушиной были письма друзей.
Бекман писал, что письмо Муравского возвеселило дух его; Завадский стал веселее глядеть на свет божий; Левченко писал из Курска, что письма друзей составляют для него одну из значительных нравственных поддержек; «…теперь мы оценили всю важность и благодетельность для нас переписки… — писал Тищинский. — Не будем поддаваться, черт возьми! Если мы будем единодушны, если станем поддерживать один другого, то никакие меры, никакое раскассирование, никакая ссылка, никакая «провинциальная среда» нам не страшны».
В конце марта 1861 года Муравский переехал в Оренбург по разрешению начальства.
Здесь он поступил на службу писцом в областное управление оренбургскими киргизами. Вечерами он усиленно готовился к поступлению в университет. Прошло полтора года.
Нежданно-негаданно нагрянули жандармы. Обыск, отправка в Петербург. Снова 1 400 верст изнурительного российского бездорожья.
Перед столичным шлагбаумом повозка остановилась через месяц.
Муравский, видевший Петербург в 1860 году только из маленького окна тюремной кареты, не мог сразу сообразить, куда его везли. Но когда карета въехала через старинные ворота на черный двор и вокруг заблестели штыки и кивера, он понял, что попал в Петропавловку.
Бумагами Муравского занимался чиновник, до этого проверявший архив Чернышевского. После просмотра чиновник написал обстоятельную записку в следственную комиссию князя Голицына.
«Действия Муравского, — писал чиновник, — выраженные в переписке его с товарищами, должны быть признаны злоумышлением, имевшим целью возбудить к бунту против власти верховной».
Этот же чиновник просматривал дело Н. Серно-Соловьевича. Он нашел там письмо Завадского из ссылки к издателю Пыпину с просьбой прислать запрещенные сочинения. Эта находка явилась достаточным основанием для обыска у Завадского. В бумагах Завадского нашли два письма Муравского. В них он писал о том, что по части «общего дела» есть много хорошего, упоминал об «известных целях».
На допросе его спросили о содержании двух писем к Завадскому. Арестованный дал первый отпор.
— По причинам, которые считаю вполне уважительными и которых нахожу нужным не объяснять комиссии, на этот вопрос я отвечать не намерен.
Муравский решил не скрывать своих политических убеждений и вступить с тюремщиками в открытый бой. Через два дня жандармы читали письменное объяснение заключенного.
«В последние три или четыре года, — писал Муравский, — я пришел к твердому убеждению, что от русского правительства (под именем которого я понимаю императора и всех ныне существующих властей) подвластные ему национальности не должны ожидать никаких существенно полезных преобразований, так как правительство не имеет ни способности, ни желания сделать что-нибудь подобное для народа, и что единственное средство к перемене существующего порядка остается, по моему мнению, путь насильственной революции».
Следователей нелегко удивить. Они уверены, что пройдут недели, месяцы, и арестованный переменит тон. Их ждало разочарование. Муравский обладал стальной твердостью.
14 января 1863 года после многочисленных допросов он написал и передал следственной комиссии свой политический манифест. В нем революционер с гордостью повторял, что единственным выходом для России с ее тяжелым положением остается насильственная революция.
Заключенный обвинял царизм в стеснениях университетов, гонениях на воскресные школы, репрессиях в Польше, в несправедливом решении, крестьянского вопроса, нападках в печати на передовых людей без предоставления им права ответа на клевету, в боязни распространить будущее гласное судопроизводство на политические преступления.
Допросы окончились. Суд неторопливо заканчивал дело. Муравского приговорили к 6 годам каторжных работ.
Вскоре он был отправлен в распоряжение Тобольского приказа, а оттуда переправлен на Нерчинскую каторгу.
* * *
Шли годы. Свыше десяти лет имя Муравского не упоминалось в полицейских донесениях. Он бесследно исчез с политического горизонта и лишь значился в полицейской картотеке Третьего отделения под рубрикой политических поднадзорных.
Имя Митрофана Муравского вновь появилось на страницах жандармских донесений в 1874 году, после ареста в Челябе. По обвинению в революционной пропаганде среди крестьян он был привлечен к суду вместе с группой обвиняемых по делу, получившему название «процесс 193-х».
Революционер-демократ Муравский примкнул к народникам, увидя в их движении возможность дальнейшей борьбы.
Август 1877 года. Свыше четырех лет продолжалось следствие по невиданному даже в богатой событиями истории царской тюрьмы процессу. Число обвиняемых было рекордным.
Около 70 человек еще в крепости решили отказаться от суда. В «предварилке» они нашли способ общения. Переговаривались по трубам, проложенным в стенах. Так возник своеобразный «клуб» политических заключенных. Говорили обо всем. Чаще всего на тему о жандармской клевете, направленной против ходоков «в народ».
В угрюмых тюремных стенах новички познавали беспримерную историю борьбы узников с жандармским следствием. Героем этой борьбы стал Митрофан Муравский. Он томился здесь уже много лет.
Обычно разговор новичков начинался так:
— Читали книгу «Безвыходное положение»?
— Нет. Кто же написал ее?
— Составляли многие, а редактировал и собирал материал отец Митрофан.
— Это кто?
— Муравский, разве не знаете? Из оренбургского кружка… О, это особенный человек, его зовут отцом Митрофаном, потому что уж очень уважают… А молодежь так за ним и ходит… на прогулках у него целая школа… Ведь он уже был на каторге, ему уже сорок два года, умный, образованный.
Муравский разработал четкий план, как, сидя в одиночке, составить контробвинение против прокурора и комиссии.
Скоро камера отца Митрофана превратилась в своеобразное училище. Была создана группа, члены которой выписывали из дел нужные сведения, опрашивали заключенных, если возникали сомнения, а в особых случаях доставали письменные свидетельства от компетентных лиц. Весь материал был тща-тельно отредактирован Муравским. Он не оставил камня на камне от обширного «труда» следственной комиссии по «Делу о революционной пропаганде в 36 губерниях». Члены следственной комиссии оказались в безвыходном положении. Отсюда и название сборника — «Безвыходное положение». Блестящая аргументация, остроумное изложение сделали книгу популярной не только в тюрьме, но и на воле. Даже адвокаты охотно использовали сборник для защиты. Друзья «с воли» отправили это произведение за границу для напечатания.
В тюрьме люди тянутся друг к другу. Это помогает не сойти с ума в одиночной камере.
Муравскому писали письма. Он охотно отвечал. Кое-что из его переписки сохранилось. В одном из писем Муравский так писал о себе;
«Я не был ни героем, ни бойцом, и много сказать о себе мне нечего. Единственное крупное достоинство, которое я признаю за собой, это то, что я всегда был смел без нахальства и осторожен без трусости. Мне думается, что моя жизнь — это типичная жизнь честного человека, прожившего свой век в русском царстве».
Осужденный на десять лет каторги, он скончался в одном из ужасных «централов» в 1879 году.