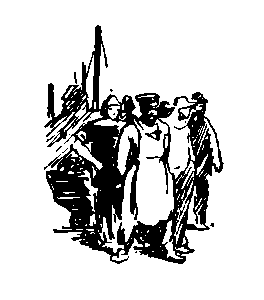В. Тростников
НИКОЛАЙ ШЕЛГУНОВ

По Невскому, в плотном кольце полицейских, медленно движется катафалк. Впереди него и сзади — молчаливые толпы провожающих. За гробом с многочисленными венками чинно вышагивают господа в пенсне, шляпах, котелках. Они старательно обходят лужи.
Впереди небольшая группа людей в блузах, потертых пальто, грязных сапогах. Над их головами всего один венок из темно-зеленых дубовых листьев.
На ленте надпись: «Н. В. Шелгунову, указателю пути к свободе и братству, от петербургских рабочих».
Похороны напоминают демонстрацию.
Прохожие спешат свернуть за угол.
Многие недоуменно пожимают плечами:
— Шелгунов, публицист, ученый, при чем же здесь рабочие?
А они пришли, чтобы отдать последний долг, сказать последнее прости учителю. Пришли, несмотря на то, что 15 апреля 1891 года — рабочий день и им он зачтется за прогул.
На кладбище полиция ожидает, что «демонстрация» закончится митингом. Так уж бывало раньше, но тогда не было рабочих.
Чей-то печальный голос глухо повисает в тишине:
— Он прожил долгую, красивую, яркую жизнь…
Не многие знают историю этой жизни. Не многие помнят, что она загорелась, засветилась 30 лет назад, в канун 60-х годов. И эстафетой прошла через все этапы революционно-демократического движения, угаснув на пороге нового пролетарского периода в революционном движении.
Красивая!
Яркая!
* * *
Дом наполнен звуками. Они рвутся сквозь раскрытые окна, затаенно перешептываются в углах гостиной.
Фортепьяно сменяется скрипкой, потом тоскливо звучит флейта, и глубокий, но слабый голос певицы вторит ей протяжно, печально.
Людмила Петровна Шелгунова — центр музыкального салона. Она играет. Она поет.
Ей подыгрывают, ей аккомпанируют.
Николай Васильевич любит эти вечера, озаренные музыкой и… одиночеством.
Ему, лесному таксатору, офицеру «корпуса лесничих», трудно разобраться в тонкостях контрапункта, хотя он частенько подыгрывает на трубе. Но он больше любит слушать, ведь под музыку так хорошо думается.
«Особливо когда поет Люденька».
Музыканты скоро надоели, и на «среды» в уютную гостиную Шелгуновых стали захаживать писатели, журналисты, критики. У Шелгуновых просто, никаких светских церемоний и можно говорить о чем угодно. Вон Михаил Михайлов — поэт, переводчик, драматург. Он не отходит ни на шаг от хозяйки дома. Остроумен, весел. Шелгунов улыбается ему — ведь Михайлов самый близкий друг. В другом углу Николай Гаврилович Чернышевский, немного загадочный, внезапно загорающийся и дьявольски умный, начитанный журналист. Тут же вертится его старый приятель по Самаре Петр Пекарский. Он неутомим в расспросах.
Николай Васильевич немного завидует им. Они журналисты, писатели, они создают общественное мнение, а он?..
Он лесничий.
Люденька играет что-то задумчивое, нежно волнующее, наверное — Шопен. Ведь он ныне в моде.
Лесничий?..
Александровский кадетский корпус, Лесной институт, подпоручик и лесной таксатор.
Казенная служба складывается удачно. У него незаурядные способности, великолепное знание лесного дела.
Его заметили.
В Самаре, в этом глухом уголке глухой русской провинции, куда его забросила служба, он нашел друзей. В Петербурге их стало значительно больше. И каких друзей! А потом Люденька Михаэлис — его жена, он не может еще к этому привыкнуть, хотя женат уже несколько лет.
Нет, он положительно доволен тем, как сложилась его личная жизнь. Вот только эти неотступные тревожные мысли о России в этот несчастный 1853 год.
* * *
Жизнь лесного таксатора проходит в бесконечных разъездах. В бездорожье, грязь, под дождем и в нестерпимый зной Николай Васильевич объезжает казенные леса. Кое-как ест, кое-как спит и очень много видит, минуя деревни, села, города.
Дороги приучают к одиночеству, молчаливости. Но впечатлений так много, что невольно руки тянутся к перу. В письмах к Люденьке, к друзьям он делится мыслями, родившимися от соприкосновения с Русью, измеренной колесами его экипажа.
А мысли горькие. Где-то там, в Крыму и на Кавказе, гремят сражения, а здесь, в центре России, по дорогам бредут толпы мужиков, сгоняемых на бойню. Пустеют деревни, зарастают сорняками пашни, тоскливо в нескончаемой жалобе звучат девичьи песни. И обрываются в плач…
И всюду сытые баре, урядники, становые, и всюду дети со вздутыми животами, рахитичными ножками и недетскими глазами, молящими о корке хлеба.
Везде разнузданный произвол чиновников, одуревающая лень помещиков, жестокость, разврат и надругательства над крепостными.
Из Петербурга пишут о лихоимстве и казнокрадстве. В письмах угадывается какое-то напряженное ожидание.
А чего?
Конца войны?
Но она и так заканчивается, заканчивается бесславно для русского царя.
И снова версты, села, пыль и терзающие, не дающие ни минуты покоя мысли.
В чем же выход?
* * *
Петербург бурлит в эту зиму и весну 1855 года.
18 февраля умер Николай I. Не стало только одного царя, и на престоле уже сидит новый император, а кажется, что прорвало огромную плотину и весенний паводок заливает Россию.
В Публичной библиотеке, на лестнице, ведущей в читальный зал, завсегдатаи — Пекарский и Шелгунов. Они никого не замечают и спорят. Пекарский любит говорить таинственно, как бы по секрету. Шелгунов больше отшучивается. Увлеченный реформами Петра I, Петр Петрович Пекарский убеждает Шелгунова, что только преобразования, подобные петровским, могут спасти Русь.
Шелгунов мало верит в реформы.
И вдруг без всякого перехода Пекарский вспоминает, что завтра 10 мая.
— Чуть не забыл. Николай Гаврилович защищает диссертацию. Ты придешь?
— Непременно!
В университет Николай Васильевич поспел как раз к началу защиты. Аудитория полна. Имя Чернышевского уже известно читателям «Современника». Литературные обозрения, экономические статьи, резкая критика российских порядков находят широкий отклик у тех, кто понимает, что к старому, «николаевскому» возврата нет.
С трудом пробравшись к окну, Шелгунов попросил кого-то потесниться.
Профессора чинно расселись за длинным столом.
На кафедру взошел молодой светловолосый человек в очках.
— Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям, — бросил Чернышевский в притихший зал. — Прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни.
Шелгунов, студенческая молодежь восторженно встречают эти слова Чернышевского. То, что говорит Николай Гаврилович, ново, аргументированно, просто и ясно.
— Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторой заменой ее и быть для человека учебником жизни, — Чернышевский увлекся, он уже не замечает, как хмурятся лица профессоров, и не слышит одобрительного гула аудитории. Он говорит не только об искусстве.
Искусство — фактор борьбы за преобразование общества, пора людям задуматься, по-новому осмыслить жизнь, активно вмешиваться в нее.
Зал гудел! Профессора молчали. И только Плетнев, председательствовавший на защите, подойдя к диссертанту, сухо бросил:
— Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!
Конечно, не это!
Эта диссертация — «первая молния». Она осветит путь, по которому пойдет и Чернышевский, пойдет и он, Шелгунов, а с ними тысячи новых людей, жаждущих активно вмешаться в жизнь, сделать ее действительно прекрасной.
И снова дороги, версты. Но на сей раз Николай Васильевич и Людмила Петровна едут вместе, едут за границу. Настроение приподнятое. Им все интересно, они не устают всматриваться в бесконечное мелькание пейзажей, фольварков, городов. Новые мысли, новые люди и пьянящее ощущение свободы.
Месяц они живут в Париже.
Общество вольнолюбиво настроенных людей. Горячая защита прав женщин, проповедуемая Женни Д’Эрикур; открытое осуждение действий правительства, романтическая, революционная приподнятость, ожидание чего-то, готовность к борьбе с гниющей империей Наполеона III. Это так увлекательно, так манит к себе и заставляет думать, выкинуть за борт все старое, привычное, освободиться от пудовых гирь, наложенных на плечи воспитанием и российской действительностью. Шелгунов чувствует себя перерожденным. Он зачитывается сочинениями Герцена, запрещенными в России. Людмила Петровна дошла до того, что «бредит эшафотом».
В Петербург они вернулись совершенно другими людьми. Это сразу отметили друзья и знакомые. Познакомившись как-то со взглядами Людмилы Петровны на эмансипацию женщин, одна русская дама полушутя, полусерьезно заметила:
— От вас каторгой пахнет!
В светском салоне Штакеншнейдера и у себя дома, в мимолетных встречах с друзьями и во время длительных споров Николай Васильевич высказывал «самые новые и противоположные всему привычному» мысли.
Он еще не убежден в необходимости революции, но уже и не отрицает ее как возможный путь разрешения всех больных вопросов России. И если не революция, то каким образом можно покончить с крепостничеством, кап освободить миллионы русских рабов?
Шелгунов помнит об опыте Франции. Он пока еще не пропитался духом Марата, но проповедь Герцена, решимость Чернышевского склоняют симпатии Николая Васильевича на сторону тех, кто готов стать на путь революционной борьбы.
* * *
Только что назначенный министром государственных имуществ Муравьев совершал «ревизионное путешествие».
Оно напоминало набег татарского баскака времен Золотой Орды.
Чиновники трепетали, губернаторы молили о заступничестве друзей и столичных покровителей.
На дорогах стояли конные подставы, чтобы вовремя известить местное начальство о путях, «избранных его высокопревосходительством».
Впереди министерского кортежа двигалась свора чиновников, они разъезжали по уездам, собирая сведения. Сам же министр в сопровождении флигель-адъютантов следовал прямо в губернский город, где вершил свой суд.
Муравьев не был ни администратором, ни реформатором. Он был просто разрушителем и умел ломать превосходно. Задумав очистить министерство от лиц, ему неугодных, он очистил его и от лиц и от идей.
Блестящее знание лесного дела, честность и добросовестность Шелгунова, известные начальству, послужили основанием для того, чтобы включить Николая Васильевича в число лиц, сопровождающих министра.
Муравьев сумел оценить Шелгунова и после этой поездки начал покровительствовать ему. Шелгунов оказался меж двух огней. Он терпеть не мог этого сановитого палача, но, будучи честным человеком, искренне стремящимся хоть как-то помочь своей родине. Николай Васильевич старался вскрывать злоупотребления, лихоимство, отдавая их на беспощадный суд и быструю расправу Муравьева, а не действовать по принципу: «чем хуже — тем лучше».
Шелгунов и был уверен, что делает добро. Муравьев оценил Николая Васильевича, и по возвращении в Петербург он назначается начальником четвертого отделения департамента лесных дел.
* * *
Россия готовится «удивить Европу». Крепостное право пора отменить. Так решил император Александр II. И этому верили, царем-«освободителем» восхищались, пели ему хвалу. И не многие видели, что «решение» императора — признание невозможности управлять страной, народом старыми крепостническими методами. Эту «невозможность» создал народ, бунтующий, не желающий «жить по-старому», ищущий воли, жаждущий земли.
Призрак революции бродил по России.
Бродил он и по Европе.
Николай Васильевич и Людмила Петровна снова в Париже.
Передовая Франция 1858–1859 годов, возмущенная диктатурой Наполеона III, собирала силы для борьбы. Повсеместно возникали кружки, сходки сторонников республики. Гостиница «Мольер», где остановились Шелгуновы, тоже была местом заседаний кружка республиканцев. И вскоре Шелгуновы стали его членами.
В Париже вместе с Шелгуновыми находился и поэт Михаил Илларионович Михайлов.
Шелгуновым и Михайлову был близок революционный дух кружка республиканцев отеля «Мольер». Михайлов слал на родину в «Современник» блестящие корреспонденции с описанием жизни Франции. Его также занимал вопрос о раскрепощении женщин. Михайлов рассматривал его как частичку одной большой проблемы — высвобождения всех духовных сил народа из пут рабства.
В отеле «Мольер» о положении женщин говорилось много, бурно, остро. И Михайлов пишет ряд статей — «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе».
Николай Васильевич от решения этого вопроса также не остался в стороне. Он лучше Михайлова разбирался в экономических вопросах и помогал Михаилу Илларионовичу четко сформулировать их в своих статьях.
Быть за границей и не увидеть Герцена? Это не в духе Шелгунова, да и Михайлова. Они обязательно познакомятся с ним.
Лондон, Темза, копоть, туман, тюки колониальных товаров на набережной — все это мимо, мимо, сквозь сетку дождя, через широкую спину кучера наемного экипажа.
Шелгуновых встретил Михайлов. Он приехал раньше и уже позаботился о квартире. Успел он побывать и у Герцена. К Искандеру очень легко попасть, и русские идут в его дом толпами.
Не успели с дороги умыться и переодеться, как к Шелгуновым явился сам Герцен.
Он был любезен. Оки гости в Лондоне, а он хотя и не хозяин… но Людмила Петровна, Николай Васильевич, Михаил Илларионович сегодня обедают у него, и никаких отговорок.
Герцен откланялся.
Михайлов с ехидством наблюдал, как чета Шелгуновых готовится к визиту, словно мусульмане к посещению могилы пророка. Людмила Петровна в эту поездку за границу вновь перечитала все, что написал Герцен, и теперь она его самая горячая поклонница. Правда, еще в Петербурге Чернышевский говорил, что Искандер непоследователен, что он еще колеблется, что иногда в нем проглядывает барин. Ну и что же! Если грянет революция, он будет с нами.
В этом Михайлов не сомневался.
Обед у Герцена прошел, как праздник. Михайлов был прямо-таки в угаре. Наутро он не помнил деталей. Зато Людмила Петровна запомнила их на всю жизнь: «За стол мы сели с особенным благоговением. Герцен, несмотря на свою полноту и красноватое лицо, был необыкновенно красив умом и энергией, светившимися в его взгляде. Говорил он прелестно… Герцен жил тогда вместе с Огаревым, и т-те Огарева заведовала хозяйством. Огарев был несколько мрачен и молчалив. Впрочем, в присутствии такого блестящего ума и к тому же любящего говорить, и трудно было кому-нибудь примировать. Огарева говорила, что она представляется в своих собственных глазах смотрительницею какого-нибудь музея, которая показывает иностранцам и путешественникам сокровища и объясняет их значение. В Лондон приезжала масса русских, и все они являлись к Герцену, и всех принимала как хозяйка Огарева. Она показывала его кабинет, огромный, как танцевальный зал, аркой соединяющийся с гостиной, из которой одна дверь шла в столовую, а другая выходила в парк. Самый дом, где жил Александр Иванович, назывался Park House вследствие большого парка, принадлежащего дому. Кабинет и гостиная не столько отличались роскошью, сколько комфортом. Вообще Герцен жил, как богатый барин-помещик. Принял он нас, как настоящий хозяин, то есть показывал все достопримечательности Лондона, ходил с мужчинами на митинг воров, в ночлежные дома, вообще был очень радушен».
Герцен тоже остался доволен посетителями. Ему особенно импонировал Михайлов. Этот человек, преданный благу России, еще скажет свое слово. Да и Шелгунов тоже.
Герцен был уверен, что видятся они не в последний раз.
Шелгуновы и Михайлов часто виделись с издателем «Колокола». Искандер познакомил их с политическим строем Англии. Беседы и споры о дальнейшем пути развития России укрепили Шелгунова в мысли о необходимости более действенно служить раскрепощению народа.
Желая «переделать Россию сверху донизу и превратить ее в рай», он, как и Герцен, думал добиться этого, минуя капиталистический путь развития, которым шла Европа.
Пример Герцена, свободным словом подымавшего русский народ на борьбу с крепостным правом, заставил Шелгунова задуматься над тем, играет ли какую-нибудь роль его узкоспециальная научная деятельность в начавшейся великой борьбе за освобождение.
Да, он, бесспорно, кое-что представляет собой, если поставить его рядом с Гельтом, чинушей-лесничим, но он «совершенная дрянь рядом с Герценом».
Шелгуновы вернулись на родину в «удивительное время», «когда всякий хотел думать, читать и учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко. Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильный, и задачи громадные. Не о сегодняшнем дне шла тут речь, обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России, становившиеся в зависимость от того или другого разрешения реформ. Эта заманчивая работа потянула к себе всех более даровитых и способных людей и выдвинула массу молодых публицистов, литераторов и ученых». С 1859 года Николай Васильевич сближается с людьми, составившими «цвет эпохи».
«В голове нет ничего, кроме политики», — записывает он в дневнике. В мировоззрении Шелгунова происходит резкий перелом в сторону революционного демократизма. Этот перелом отразился на всем облике жизни Николая Васильевича, занявшего после посещения Европы должность профессора в Лесном институте.
Изменилось и общество, окружавшее Шелгуновых. Размежевание между демократами и либералами отразилось и на «Люденькиных средах». С Шелгуновыми «мы больше не видаемся», — записывает в своем дневнике Елена Штакеншнейдер — душа великосветского салона в доме своего отца, придворного архитектора.
Не посещают «среды» Майков, Бенедиктов, Анненков и другие либералы. Из места приятного препровождения времени и чисто литературных споров «среды» Шелгуновых превращаются в собрания революционно настроенной молодежи. Вопросы общественного развития и прежде всего вопрос об освобождении крестьян занимают умы этих «новых людей».
На молодежь, сгруппировавшуюся вокруг Шелгуновых и Михайлова, жившего тут же, в одной квартире с друзьями, Чернышевский и Добролюбов возлагали большие надежды.
Добролюбов специально пришел к Шелгуновым, чтобы познакомиться с Веней Михаэлисом, братом Людмилы Петровны, студентом университета, о котором много слышал. Чернышевский свел Шелгуновых с Николаем Серно-Соловьевичем.
Посетители шелгуновских «сред» Михайлов, Николай и Александр Серно-Соловьевичи, В. С. Курочкин и другие были активными сотрудниками «Современника».
Решающее значение в умственной жизни России принадлежало тогда литературе и журналистике. И естественно, что Николай Васильевич стремился выйти из душного чиновного мира на широкую дорогу разума и свободы. «Жизнь была не в чиновном и министерском мире, и не он давал цвет и содержание тому, чем люди жили, жизнь была дальше, там, где начиналась уже крестьянская реформа. Но… было еще течение, более широкое и глубокое… давшее красоту жизни, тон и направление общественной мысли, цвет эпохе. Этим широким, могучим течением была печать».
И это хорошо понимал Шелгунов, стремясь попробовать свои силы на поприще публицистики. Михайлов, вынужденный заниматься делами журнала «Русское слово», привлекает Николая Васильевича к сотрудничеству в нем. В «Русском слове» Шелгунов помещает ряд статей под псевдонимом «Н. Ш.». Лишь статья «Одна из административных каст» публикуется за его полной подписью — «Н. Шелгунов». В этой статье, обратившись к предмету, хорошо известному, Николай Васильевич бичует искусственно пересаженную на русскую почву немецкую науку «лесную метафизику», показывает, что причины неудач «постановлений по лесному делу» в их оторванности от жизни, в нежелании царского правительства считаться с народом. «Причины понятны, — заключает он, — лесной мир не велик, но и он один из пульсов, по которому можно судить о здоровье целого организма».
Эту статью Николай Васильевич считал своей лебединой песней в лесоводстве и первой статьей, с которой он вступил в общую журналистику.
* * *
В министерстве Николай Васильевич на хорошем счету. Ему покровительствует Муравьев. Он знаком с именитым сановником князем Суворовым и другими чиновными лицами. Его научный авторитет профессора-лесовода незыблем. Не обходят его в наградах и чинах. В апреле 1858 года Шелгунов произведен в подполковники, в 1859 году ему объявлена искренняя благодарность министра государственных имуществ, он награжден премией первого разряда и бриллиантовым перстнем, а также орденом Святого Станислава 3-й степени.
Для официального чиновного мира он продолжает оставаться специалистом лесного дела. Но уже в это время Николай Васильевич фактически становится общественным деятелем, публицистом.
Новогодний стол придвинут к постели, на которой лежит разбитая параличом Людмила Петровна. У нее после родов отнялись ноги. Кормилица внесла маленького Мишу. Михаил Илларионович и Николай Васильевич, Веня Михаэлис собрались, чтобы дружно поднять бокалы за освобождение крестьян, за новое счастье. Грядущий 1861 год предвещал много хорошего. Близился день крестьянской реформы. Муж кормилицы, рабочий сенатской типографии, забежав поздравить жену, сказал, что не придет домой целый месяц, так как их не отпускают из типографии, потому что будут «печатать о воле».
* * *
Вечер близился к концу. В гостиной еще кто-то продолжал горячиться в споре, но Ольга Сократовна уже прощалась с гостями. Михайлов привел с собою Всеволода Костомарова, отставного корнета, недавно приехавшего из Москвы с письмом от Плещеева и с известием, что у него, Костомарова, имеется нелегальный печатный станок.
Затененная абажуром, неярко светила настольная лампа. У письменного стола в кресле сидел Николай Гаврилович, перед ним лежали листки исписанной бумаги. Увидев, что Михайлов плотно прикрыл дверь, Чернышевский пригласил всех присесть поближе.
— Настало время объяснить крестьянам их положение. Нельзя больше ждать. У меня имеется обращение к крестьянам. Его нужно напечатать и распространить.
— Согласны ли вы нам помочь? — обратился он к Костомарову.
— Для этого я и приехал сюда, — хвастливо ответил, не глядя на собеседника, корнет. — Вы, наверное, знаете, что я уже печатал подобные вещи.
Костомаров протянул антиправительственное стихотворение за своей подписью.
— Подписывать не следовало бы, — заметил Чернышевский.
Михайлов, внимательно слушавший разговор, попросил Николая Гавриловича познакомить их с обращением. Это оказалась прокламация, начинавшаяся словами: «Барским крестьянам от их доброжелателей, поклон».
— «…Так вот оно какое дело: надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. А покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит — спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. В пословице говорится, что один в поле не воин. Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить. А когда все готовы будут, значит везде поддержка подготовлена, ну, тогда дело начинай…» — приглушенно читал Чернышевский.
Костомаров сидел, опустив голову, пальцы его шевелились, иногда он случайно взглядывал на дверь и вновь замирал.
Была ночь, когда Михайлов и Костомаров уехали домой, захватив рукопись прокламации. Утром в присутствии Николая Васильевича Михайлов еще раз прочитал воззвание.
Шелгунов, который не мог вчера присутствовать у Чернышевского, был восхищен смелостью замысла листовки, яркостью и доступностью языка. Костомаров же выглядел испуганным и просил Михайлова смягчить тон прокламации. Тот отказался. Костомаров срочно выехал в Москву. Прокламацию он не взял.
Чернышевский, Шелгунов, Михайлов придавали огромное значение распространению прокламаций. Было решено издать воззвания и к солдатам, и к раскольникам, и к молодежи.
Воззвания к солдатам и молодежи вызвался написать Николай Васильевич. В целях конспирации Николай Гаврилович предложил всю связь с Костомаровым держать через Михайлова.
Всеволод Костомаров снова приехал в Петербург, уже перед опубликованием царского манифеста. Теперь он вел себя значительно смелее: настойчиво просил денег, жаловался на вымогательства брата, который якобы угрожал доносом. Радушный прием, оказанный Костомарову Шелгуновым и Михайловым, атмосфера революционного Петербурга положительно повлияли на него, и он, сдерживая робость, старался показать себя с наилучшей стороны.
Мысль написать воззвание к солдатам не оставляла Николая Васильевича. К приезду Костомарова он набросал первый вариант. Начало воззвания перефразировало прокламацию Чернышевского: «Русским солдатам от их доброжелателей поклон».
В прокламации Николай Васильевич стремился развенчать веру солдат в царя-батюшку, в справедливость присяги, в правильность приказов офицеров.
Рассказывая, как, прикрываясь присягой, офицеры заставляют солдат убивать своего же брата мужика, возмутившегося против тирании помещика, Шелгунов призывал их не стрелять в народ.
«А если и вы, братцы, забыв присягу, пойдете на народ и станете разорять его, вы такие же враги нашей родной страны». «Когда вас посылают на народ, то царь и командиры, которые вас посылают, — клятвопреступники. А если вы их слушаете — вы тоже клятвопреступники…не на такие дела вы присягали».
Костомарову прокламация не понравилась, и Михайлов тоже был не в восторге от нее. Решили попробовать написать сами. Но вышло еще хуже. Николай Васильевич с жаром защищал свое воззвание.
— В нем изложено именно то, что нужно солдату, — утверждал он.
Спор затянулся. Шелгунов стоял на своем, Михайлов и Костомаров не соглашались.
— Ну вот что, — взволнованно проговорил Николай Васильевич, — этим спором мы ничего не докажем. Я предлагаю пойти к солдатам, поговорить с ними и, если представится возможность, прочесть воззвание.
В первый же свободный день два офицера направились к солдатским казармам. Костомаров взял на себя пехотинцев, Шелгунов должен был проникнуть к артиллеристам. Не доходя до казарм, они разошлись в разные стороны, условившись встретиться в трактире.
Как только Николай Васильевич скрылся за поворотом улицы, храбрившегося из последних сил Костомарова охватил животный страх. Трусливое сердце его забилось, тревожные мысли одна другой страшнее пронеслись в разгоряченной голове.
«Сбежать… — тоскливо думал он. — А если схватят и все раскроется? Но я обещал…»
Костомаров сделал несколько шагов, поднял воротник и, прячась от прохожих, пошел назад.
Полчаса бродил он вокруг трактира, наконец увидел Шелгунова, идущего с солдатами. Выждав некоторое время, вошел в трактир и подсел к столу.
Солдаты пили чай. Шелгунов говорил о присяге,
о том, что нельзя убивать своего же брата мужика, который борется за землю, за волю. Солдаты кивали головами, вставляли соленые словечки.
В приподнятом настроении Шелгунов возвратился домой.
Михаил Илларионович, не дав Шелгунову раздеться и прийти в себя, забросал вопросами. Николай Васильевич сиял. Встреча и разговор с солдатами дали ему богатый материал. Рассказывая обо всем Михайлову, Николай Васильевич вносил поправки в прокламацию. Вскоре новый ее вариант был написан. Михайлов отредактировал его, но в это время был объявлен манифест 19 февраля, и стало совершенно необходимым внести в прокламацию разбор этого манифеста.
«Слышали ли вы о вольной, что дали народу? Поговорите с крестьянами, и вы узнаете от них, что эта воля не настоящая, так только по губам помазали… Помещиков еще не было, а крестьяне были; значит, и земля крестьянам принадлежала ранее, чем помещикам.
А теперь говорят крестьянину — откупи от помещика землю, да чем ему ее откупить?.. Даже за избу, выстроенную самим крестьянином, и огороды, им сделанные, и за то заплати помещику. Разве такая бывает воля? Это не воля, а кабала… Вот вам и царь, вот вам и клятва его перед богом царствовать на добро».
Окончательно отредактированное воззвание Николай Васильевич переписал измененным почерком и отдал Михайлову, тот, в свою очередь, Костомарову. Незадолго перед этим Чернышевский тоже передал Михайлову листовку «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». В Москву прокламации повез студент Сороко.
Манифест 19 февраля 1861 года был воспринят Чернышевским и его соратниками как замена одной формы эксплуатации народа другой. Не ускользнул от Чернышевского и крепостнический характер реформы. Революционные демократы увидели в царском документе такие противоречия, которые, по их мнению, должны были поднять крестьянство на восстание. «Каждый ждал гораздо большего, чем получил. Неудовлетворение вызывало недовольство, а недовольство создало «революционное брожение», — резюмировал Шелгунов в своих воспоминаниях.
Шли месяцы. От Костомарова из Москвы доходили тревожные слухи. Печатание прокламаций почему-то задерживалось.
А время не ждало. Нужно было тревожить, подымать на борьбу все слои русского общества, сплачивать решительных, отсеивать малодушных. Поэтому решено было использовать русскую «печатню» в Лондоне у Герцена.
* * *
Шелгунов забросил дела в министерстве, его не видно и в Лисино. Напрасно студенты-лесоводы ожидают появление любимого профессора.
Целыми днями сидит он у себя в кабинете. О чем-то думает, что-то пишет.
Он думает о том, почему провозглашение манифеста не повлекло за собой крестьянской революции. Он пишет, обращаясь к молодому поколению, которое, как ему кажется, остается единственным носителем революционной мысли, действия и надежды на будущее.
Сен-Симон, этот изгнанник «светских салонов», когда-то, сидя на своем «бальзаковском чердаке», уверял, что если сегодня вымрут все цари, короли, придворные, то мир переживет этот мор безболезненно и завтра найдутся тысячи претендующих на корону и порфиру. Ну, а если несчастье постигнет ученых, литераторов, интеллигенцию, то кто их заменит завтра, через день, через годы и десятилетия?
Значит, смерть ста тысяч помещиков не только не нанесет ущерба России, но и может быть для нее благоденствием.
Рождалась новая прокламация «К молодому поколению». Она все росла и росла в объеме, а Шелгунов никак не мог исчерпать темы.
Обращаясь к молодежи, Шелгунов видел в ней силы, способные изменить существующий строй, звал их на революционное действие.
«Нам нужен не царь, не император, не помазанник божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность, мы хотим иметь главой простого смертного, человека земли, понимающего жизнь и народ его избравший, — писал Шелгунов. — Нам нужен не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина, получающий за свою службу жалованье».
Развивая революционную программу преобразований социального строя России: демократическая республика с выборной властью, самоуправление, равноправие, свобода слова, общинная собственность на землю, полное немедленное освобождение крестьян, реформа армии, коренное изменение основных законов России, — Шелгунов надеется, что эту программу выполнит молодое поколение России.
«Надежду России составляет народная партия из молодого поколения всех сословий, затем все угнетенные, все, кому тяжело нести крестную ношу русского произвола… и 23 миллиона освобожденного народа, которому 19 февраля 1861 года открыта широкая дорога к европейскому пролетариату».
В прокламации «К молодому поколению», хотя и обращенной к молодежи, проблема народа, способность его постоять за свои права находится на первом месте. Шелгунов призывает передовую интеллигенцию сближаться с народом и совместными силами начать революционную борьбу. «Пора приступить к делу, не теряя ни минуты, — говорите чаще с народом и с солдатами, объясняйте им все, чего мы хотим и как легко всего этого достигнуть; нас миллионы, а злодеев сотни. Стащите с пьедестала, в мнении народа, всех этих сильных земли, недостойных править нами, объясните народу всю незаконность и разврат власти, приучите солдат и народ понять ту простую вещь, что из разбитого генеральского носа течет такая же кровь, как и из носа мужицкого. Если каждый из вас убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется далеко. Но этого мало. Готовьтесь сами к этой роли, какую вам придется играть: зрейте в этой мысли, составляйте кружки единомыслящих людей, увеличивайте число прозелитов, число кружков, ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, то и «на славную смерть за спасение отчизны тени мучеников 14 декабря!»
Костомаров не торопился печатать прокламации.
А время не ждало. Дорог был каждый день. Шелгунов и Михайлов решили напечатать прокламацию у издателей «Колокола». Прием, оказанный Шелгунову и Михайлову в 1859 году Герценом и Огаревым, говорил за то, что это им удастся сделать.
Воспользовавшись болезнью жены, Шелгунов добился разрешения на новую заграничную поездку и весной 1861 года выехал в Берлин, а оттуда в Наугейм, где Людмила Петровна проводила курс лечения. Вместе с Шелгуновым находился и Михайлов.
22 июня 1861 года Шелгунов и Михайлов выехали в Лондон. Друзья спешили к Герцену. В купе вагона первого класса они были одни.
За окном мелькали уютные фольварки, стройные ряды саженых рощ и лесов.
Но на душе Михайлова и Шелгунова было тревожно.
Может быть, в первый раз они представили себе всю опасность их предприятия и трагические последствия, которые обрушатся на них в случае провала. Необходимо было выбрать правильный путь. В Петербурге все переговоры о прокламациях вел Михайлов-Костомаров знал авторов, но непосредственно в руки прокламации ему передавал Михаил Илларионович. Он же своим почерком вносил в них поправки.
— Меня очень беспокоит судьба Миши, — прервал молчание Михайлов. — Людмила Петровна больна, только вы сможете обеспечить им приличное существование. У вас твердое положение в министерстве, связи, наконец хорошее жалованье. А у меня — вечная борьба за кусок хлеба. Лучше я пока один поеду к Герцену, а будет необходимость вашего приезда, то я тотчас сообщу.
В Кельне друзья должны были пересесть на пароход. Михайлову удалось убедить Шелгунова не ездить пока в Лондон, и они, попрощавшись, расстались. Михайлов повез прокламацию к Герцену. Шелгунов, «соскучившись», вернулся в Наугейм.
Прокламация, особенно та ее часть, в которой содержался призыв к революции, вызвала резкий протест Герцена. Он уговаривал Михаила Илларионовича не печатать воззвания. Однако Михайлов твердо стоял на своем. Тогда Герцен пригласил Шелгунова в Англию.
Николай Васильевич приехал в Лондон, когда прокламация была уже отпечатана. Герцен, не сумев убедить Михайлова, согласился издать ее без изменений. Чтобы дезориентировать Третье отделение, «К молодому поколению» набрали тем же шрифтом и форматом, что и «Колокол». Это впоследствии ввело в заблуждение жандармов, решивших, что авторы воззвания — Герцен и Огарев.
В середине июля Шелгуновы и Михайлов встретились в Париже. Людмила Петровна приготовила чемодан с двойным дном, куда были уложены 600 экземпляров прокламации, а сверху вещи Михаила Илларионовича. Спустя несколько дней Михайлов уехал в Петербург.
К началу учебных занятий в конце августа в Петербург возвратились и Шелгуновы.
Первые дни в Петербурге были заняты устройством дел, визитами к начальству и посещениями друзей, подготовкой к лекциям.
Прокламацию Михайлов еще не распространил. Он дал ее лишь самым близким знакомым. Постепенно жизнь входила в обычную колею. И вдруг стало известно об аресте Костомарова. Он знал многое, и теперь все зависело от того, как он поведет себя во время следствия.
1 сентября на квартиру Михайлова нагрянули жандармы и полиция.
Обыск. Он ничего не дал. Прокламация лежала в камине, загороженном креслом, и не была обнаружена. Собравшись после ухода жандармов, Шелгуновы и Михайлов решили поспешить с распространением прокламации. Прокламацию распространили Шелгунов, Михаэлис и Александр Серно-Соловьевич.
Через день после обыска у Михайлова, то есть 3 сентября, генерал-губернатору Петербурга подали пакет на его имя. Вскрыв пакет, генерал-губернатор обнаружил в нем прокламацию «К молодому поколению». Этот день заставил поволноваться графа. То и дело адъютант сообщал ему о прокламациях, которые обнаружили и на креслах в театре, и в университете, и в солдатских казармах, и просто на улице. Затем поступили известия, что прокламации найдена в Москве, Риге, Вологде, Самаре.
Срочно полетели письма в Ливадию, где отдыхали Александр II и шеф жандармов князь Долгоруков.
«Бумага и шрифт лондонские», — телеграфирует генерал-губернатор граф Игнатьев. «Воззвание… напечатано в Лондоне, шрифтом «Колокола», — сообщает граф Шувалов, управляющий Третьим отделением. «Прокламация принадлежит перу Огарева», — утверждает он. «Вероятно», — делает пометку Долгоруков.
Царские сатрапы не могли поверить, что кто-либо осмелится в России выступить против них. «Лондонские изгнанники» — авторы прокламации. Но у Третьего отделения имелся Костомаров.
У Герцена в июле был Михайлов, за которым ведется наблюдение и у которого недавно произведен обыск. Нужны показания. И Костомаров совершает первое предательство. Горько будет сожалеть поэт-петрашевец Плещеев, что он рекомендовал Костомарова Михайлову. А Костомаров, продавшись Третьему отделению, сыграет роль злого гения 60-х годов.
Через две недели утром 14 сентября четыре жандармских офицера в сопровождении десяти полицейских, перевернув вверх дном всю квартиру Шелгуновых и Михайлова, забрали рукописи, письма и бумаги. Михайлов был арестован.
Вечером этого же дня Николай Васильевич навестил Добролюбова, поведал о первой жертве, вырванной царизмом из их рядов.
Из Третьего отделения просачивались отрывочные и разноречивые сведения: «У Костомарова обнаружены воззвания, набранные для печати на типографском станке». «Михайлов мужественно отрицает наговоры Костомарова».
Дни ползли, полные тревоги, неизвестности, мучительных раздумий о судьбе друга, о деле, которому они посвятили свои жизни.
Воззвания, найденные у Костомарова, не попали в руки солдат и крестьян.
— Нужно новое воззвание, — решает Шелгунов. — Солдаты должны узнать, что присяга обязывает их служить родине, своему народу, а не исполнять несправедливые, преступные приказания царя.
Перо быстро скользит по бумаге: «Нет, если солдат поймет, что по приказанию начальства он помогает угнетать народ, он не будет любить царя и не будет исполнять его подлые приказания».
Николай Васильевич достал папиросницу — подарок Михайлова, закурил, затем чуть прыгающей походкой прошелся по комнате.
«Обязательно написать об Антоне Петрове, — мелькнула мысль, — о 25 годах тяжелой солдатской службы. Основное — союз крестьян и армии».
Мысли облекались в доходчивый текст:
«Грешно убивать безоружный невинный народ, как это было в Бездне», — бросает упрек Шелгунов и тут же выражает уверенность, что солдат «не станет стрелять в народ, когда тот восстанет, чтобы облегчить свою горькую долю, а присоединится к нему, чтобы ему помочь, да и свое житье поправить».
Воззвание «Солдатам» написано, затем напечатано и распространено.
Арест Михайлова не остудил, а скорее подогрел проснувшийся свободолюбивый дух петербургской молодежи. Прокламации наводняли столицу. Обеспокоенное брожением умов царское правительство перешло к репрессиям. После Михайлова был арестован Обручев, распространитель «Великорусса». Начался поход против университетских вольностей, освященных многолетними традициями. Студентов лишили права «сходок» и других привилегий.
Новые правила предписывали студентам платить 50 рублей серебром в год за учебу. Без этого их не допускали в университет, без этого иногородним не выдавали вида на жительство.
23 сентября у студентов университета сходка. Бурная, бестолковая.
В воскресенье университет закрыли.
В понедельник новая сходка у запертых дверей храма науки.
Ночью студентов Утина, Михаэлиса, Гена арестовали.
И снова сходки.
Адреса министру.
И новые аресты среди студентов и сочувствующих им офицеров.
Берут ночью с постели, хватают на улице и даже ведут через весь город на веревке, как быков на убой.
Либеральные папаши негодуют, мамаши ежедневно в обмороке.
Пишется адрес государю. Собираются подписи, потом адрес сжигается.
Подписей оказалось всего пятьсот.
Жителей в столице — 400 тысяч.
Студенты уничтожают матрикулы, отказываются приобретать брошюрки «новых правил» как пропуск в университет.
И в четверг, 12 октября, их избивают, зверски, нагло. Побоище идет в закрытом дворе.
— Может ли друг государственного преступника служить в вашем министерстве, да еще в Петербурге? — вопрос задан в лоб.
Начальник лесного департамента выжидающе смотрит на министра генерала Зеленого.
— Подполковник Шелгунов — большой знаток лесного дела. Пожалуй, у нас нет сейчас более опытного профессора и автора научных трудов, — медленно произнес генерал. — Да и человек он выдержанный, немного смелый, но это не во вред. А впрочем, надо переговорить с ним. Предложить ему уехать из Петербурга ненадолго. Страсти остынут, и все пойдет своим чередом.
Генерал приказал пригласить Шелгунова в следующий приемный день к 11 часам.
Генерал Зеленый служил с Шелгуновым у Муравьева много лет и знал Николая Васильевича как исполнительного и думающего человека. Зеленый — человек мягкий, он печалился о неудачной, с его точки зрения, личной жизни Шелгунова. Но тень от дружбы чиновника его министерства с государственным преступником Михайловым падала и на него, министра.
Зеленый принял Шелгунова без особых церемоний. Как старого знакомого он усадил его в кресло, сел сам и начал расспрашивать о семье, о здоровье Людмилы Петровны, которую хорошо знал еще по Наугейму. Объяснив, почему в Петербурге Шелгунову оставаться неудобно, генерал сказал, что наиболее целесообразно перевестись временно подальше от столицы, например в Астрахань.
Выслушав доводы и предложения министра, Николай Васильевич ответил, что он решил подать в отставку.
— Да понимаете ли вы, Николай Васильевич, — взмолился генерал, — что вы делаете! Что греха таить, с нечиновными лицами в нашей империи не особенно церемонятся. Отбросьте все личное, я прошу вас ни в коем случае не выходить в отставку.
Не дав отвечать Шелгунову, министр продолжал:
— Вы подумайте, взвесьте, имейте в виду, что место в Астрахани я пока замещать не буду. А теперь прощайте и передайте привет Людмиле Петровне.
Зеленый встал, показывая, что прием окончен.
Следствие по делу Михайлова завершилось. Поэт был осужден на 6 лет каторги. Наступило время снаряжать его в дорогу.
Николай Васильевич считал своим долгом сделать все, чтобы облегчить дорогу Михайлова в Сибирь и более или менее сносное существование на каторге. Верный друг, он не побоялся пойти в Третье отделение.
Высокопоставленный чиновник Третьего отделения Потапов быстро пробежал составленную Николаем Васильевичем записку, остановился и перечитал просьбу: «Я, как самый близкий человек к Михайлову, прошу дозволить мне доставить ему вещи, необходимые на дорогу», затем искоса посмотрел на Шелгунова и спросил:
— Вы, кажется, жили с Михайловым в одном доме?
Шелгунов молчал. «Неужели он не знает, что мы жили в одной квартире?» — мелькнуло в голове.
Генерал выдержал небольшую паузу, незаметно наблюдая за Шелгуновым, взял перо и написал: «Разрешаю». Шелгунов откланялся и с чувством выполненного долга вышел из кабинета, как ему казалось, навсегда.
Получив разрешение, Шелгуновы срочно начали снаряжать Михайлова в дорогу. Они купили зимний троечный возок, теплые вещи, сшили специальный ватный нагрудник, в каждую клетку которого зашили по рублю, заклеили в переплет евангелия деньги. Людмила Петровна организовала розыгрыш части библиотеки поэта в лотерею.
Приближался день отправления Михайлова в Сибирь. Забота о друге вытеснила на время все остальные дела. Пользуясь знакомством с новым генерал-губернатором Петербурга князем Суворовым (мать Людмилы Петровны и жена князя Суворова учились в одном пансионе), Шелгунов неоднократно ходатайствовал перед сановным князем об облегчении участи друга. Суворов упорствовал. Он не разрешил везти Михайлова без кандалов. Однако написал письмо к сибирским властям, в которых просил отнестись к Михайлову благожелательно.
При последней встрече, когда Шелгунов просил разрешения проститься с Михайловым, князь предупредил:
— Знайте, что если будет какое-нибудь покушение, чтобы освободить Михайлова, жандармам отдано приказание его застрелить.
14 декабря 1861 года Михайлова увезли на каторгу.
* * *
После высылки Вени и Михайлова Шелгуновы оставили большую квартиру на Офицерской улице и переехали жить на Царскосельский проспект в собственный дом Серно-Соловьевичей.
Небольшая трехкомнатная квартира Шелгуновых редко пустовала. Николай и Александр Серно-Соловьевичи жили тут же по соседству.
В это время еще не забылся смелый побег Бакунина. Мысль об организации побега Михайлова не давала покоя Шелгунову. Николай Васильевич твердо решил выйти в отставку, ехать в Сибирь к Михайлову и на месте решить, что можно предпринять для облегчения участи друга.
Несмотря на осуждение Михайлова, Обручева, аресты студентов, атмосфера в Петербурге была накалена. Казалось, восстание народное близко. «Не могут же миллионы крестьян, оставшиеся без земли, не потребовать своих прав. Неужели многовековое рабство вытравило в русском человеке борца, — думал Шелгунов. — Нет, восстание близко, нужно к нему готовиться». Капитализм Запада не отвечал особенностям русской жизни середины XIX века. Рабочих в России почти не было. И революционные демократы мучительно искали особый путь для своей аграрной страны к социализму. Они правильно нацеливали народ на крестьянскую революцию, на свержение ненавистного самодержавия и установление демократической республики.
Дальнейший путь развития Русского государства волновал не только революционеров-демократов, он будоражил и «славянофилов», и «почвенников», и, конечно, царское правительство. Это было время огромного возмущения масс, ожесточенной борьбы мнений, героических дел лучших людей России.
Шелгунов находился в самом центре событий.
Николай Гаврилович Чернышевский часто бывал в небольшой квартирке Шелгуновых и у Серно-Соловьевичей. После смерти Добролюбова именно в них он видел самых близких себе по духу людей. Он группировал их вокруг «Современника», предоставляя страницы журнала для резких и смелых статей.
— Интересный вопрос вы подняли, Николай Васильевич, в «Рабочем пролетариате», — сказал при одной из встреч Чернышевский. — Да, пора уже познакомить русского читателя с произведениями Энгельса.
— Это один из благороднейших немцев и блестящий знаток положения рабочего класса Англии, — заметил Николай Васильевич. — У него исключительная логика и доказательность. Я взялся за перевод этой работы именно потому, что в ней очень рельефно вскрыты язвы капитализма. А Россия должна миновать стадию капитализма. Крестьянская поземельная община — вот путь России к социализму.
— Да, — задумчиво произнес Чернышевский, — крестьянство у нас основная сила. Россия — страна аграрная, рабочего класса почти нет. Следовательно, и ориентироваться надо на мужика, на Разиных, Пугачевых, Петровых.
— А как вам показалась моя статья «Литературные рабочие»? — задал вопрос Шелгунов.
— Есть интересные, свежие мысли. Например, артель литераторов — это очень хорошо. Вообще артели без хозяина, на паевых началах — заманчивое дело. Каждый работает, и каждый участвует в прибылях. Это перспективная экономическая форма.
Разговор зашел о работе историка Щапова.
— Ищет в допетровской Руси, в земском соборе, новые формы государства, — иронизировал Шелгунов. — Да где ж эта самобытность? В русском кафтане, плохих дорогах да телеге вместо поезда? Нет, нужно у Запада брать все разумное. Нужна республика, надо свергнуть царя. Верю, скоро наступит час восстания.
* * *
В литературных салонах, редакциях газет и журналов только и разговоров о статье какого-то Т. 3. «Литературные рабочие». Многие редакторы откровенно возмущены — этот Т. 3. называет издателей капиталистами, эксплуататорами, а литераторы, видите ли, — рабочие, поденщики.
— Не иначе, как Чернышевский. Кто же еще в «Современнике» может писать с таким апломбом: «Не мешало бы порастрясти нашу журналистику — разъяснить принципы и стремления каждого издания, указать цель, которую преследуют каждый журнал и газета».
— Как будто, кроме «Современника», ни у кого и цели нет, — негодуют благонамеренные.
«Пусть только и живут на свете такие журналы, — читают дальше в статье, — около которых, как известных определенных органов, должны группироваться люди известного и определенного образа мыслей, а остальным журналам, от которых только тепло их издателям, незачем иметь читателей, незачем существовать».
— Чернышевский явно зарвался, пора, пора его одернуть, — хорохорятся либеральные подпевалы. — А то ведь в Петербурге уже расшифровывают псевдоним «Т. 3.» — как «тюремный заключенник».
Псевдоним «Т. 3.» был известен узкому кругу лиц. Даже Людмила Петровна не знала, что Т. 3. — это Николай Васильевич и вся шумиха, поднятая «Временем», «Отечественными записками» и другими журналами, имеет отношение к ее мужу.
Чернышевский был доволен.
— Неплохо заварили кашу, Николай Васильевич, — шутил он. — И как правильно вы пишете: «Каждый журнал должен быть органом определенного направления. Журналов без направления быть не должно». Но больше всего меня насмешило утверждение Страхова. Послушайте, как глубокомысленно он ваши идеи приписывает мне. Вот прочтите! — И Чернышевский указал на страницу журнала «Время». — «Не чувствуете ли вы, наконец, что рассуждения г. Т. 3. и г. Чернышевского имеют какой-то странный, особенный характер». И дальше: статья г. Т. 3. «с необыкновенной ясностью характеризует многие мнения «Современника».
— Думаю предложить вам, Николай Гаврилович, новую статью, несколько философского плана. В ней я попытался развить мысли «Литературных рабочих», обратившись к системе оплаты за литературный труд. Основной тезис: пока литератор получает за количество исписанных страниц, пока он живет на деньги, которые должен заработать, приспосабливаясь к вкусам подписчиков и требованиям редакторов-издателей, он поденщик и не может писать то, к чему лежит его сердце.
— Это интересно.
— Я утверждаю, что идеи творит народ, а грамотные люди записывают и обобщают народный опыт, а потом выдают его за свой личный и просят денег. Никакого авторского права быть не может. В литературу должны идти люди, имеющие огромный талант, а ремесленникам в ней нет места. Пусть лучше трудятся там, где от них больше пользы.
— Литература в России, Николай Васильевич, — это огромное общественное дело, это трибуна. Только через журналы мы и можем влиять на общество.
— Я и стремлюсь это доказать в своей статье. Если отвлечься, если представить, что в России республика и общественные вопросы можно решать практически, тогда высказанные положения могут быть осуществлены.
— Ну что ж, давайте статью. Как вы думаете, а следует ли ее подписывать?
— Без подписи будет лучше. Т. 3. уже склоняют на всех литературных собраниях. Нет смысла привлекать внимание цензуры к псевдониму, — ответил Шелгунов.
* * *
Цензор Еленев находился в крайнем раздражении. Еще недавно он получил устное замечание за то, что допустил к печати статью какого-то «Т. 3.». Вспомнились разговоры в комитете о статье «Русское слово». Безыменный автор разгромил Щапова с его земскими соборами допетровской Руси и прямо заявил, что «русское слово» скажет весь русский народ, вся страна. Некрасов тогда пытался доказать, что в статье ничего противоправительственного нет. Однако всем было ясно, что образ мыслей автора в высшей степени вредный. Некрасову пришлось указать. И вот извольте, следующий номер, и опять статья Т. 3. под странным названием — «Русское разномыслие».
Цензорский карандаш заплясал по строчкам, оставляя за собой линии, кресты, подчеркнутые фразы.
Статья чем-то напоминала отвергнутую, но была еще более резкой.
Еленев читал: «Зачем идти в глубь старины, в туман чего-то смутного, никому не известного, когда сила, которую бы они нашли там («Это про славянофилов», — догадывается цензор), была у них в руках и в настоящий момент? Вы ищете отрицания, у вас есть сила для него — что же, вот вам настоящее — отрицайте его!» Цензорский карандаш подчеркивает всю фразу и на полях ставит еще один крест.
Но что это: пропаганда объединения, призыв к восстанию?
Цензор уже подчеркивает слова по два раза.
«Сидя за забором, непрактично рассуждать о поле, которое лежит за ним, и о том, как мы расположимся и устроимся на этом поле, сначала нужно выйти на свободу, перейти через забор или уничтожить его, а там уж само поле покажет, как на нем устроиться или какой дорогой идти, в начале же дела дорога для всех одна».
— Куда идет «Современник»? Нет, необходимо доложить председателю комитета. Все отрицание и отрицание. Нигде ничего положительного.
Цензор закончил читать статью, сложил по порядку гранки и над заглавием написал: «Запрещена цензурой. Март 1862».
Была ранняя весна 1862 года. По Невскому еще ездили в зимних экипажах, но лед уж начал кое-где темнеть, заметно прибавился день.
Николаю Васильевичу предстоял последний визит к министру государственных имуществ. Прошение об отставке было подано давно.
Генерал Зеленый не сумел отговорить Шелгунова, однако распорядился повысить его в чине, оставить право носить мундир и выхлопотал солидную пенсию.
После приказа об отставке все как-то сразу определилось, стало на свое место.
Шелгуновы едут в Сибирь, к Михайлову.
Ранним утром 26 мая собрались друзья Шелгунова и Михайлова. Среди них Чернышевский, Некрасов, Н. Серно-Соловьевич, Гербель. Все готово к отъезду. Людмила Петровна в последний раз просматривает свои вещи. В ее руках альбом с автографами многих известных писателей.
— Разрешите мне на прощание сделать небольшую запись для Михайлова, — обращается к Людмиле Петровне Некрасов.
— Пожалуйста, Николай Алексеевич, Михаил Илларионович очень обрадуется этому.
Опустившись на стул, Некрасов быстро набросал отрывок из «Рыцаря на час». Вслед за стихами;
Суждены вам благие порывы.
Но свершить ничего не дано… —
добавил: «Редки те, к кому нельзя применить этих слов, чьи порывы способны переходить в дело… Честь и слава им — честь и слава тебе, брат!»
И в нижнем левом углу поставил дату:
26 мая в 6 часов утра.
В дороге очень много хлопот причинял Миша. Горничная не справлялась. К тому же и вещей было порядочно. В Твери пересели на пароход, спускающийся по Волге и Каме. Ехали по наитию: место каторги известно не было.
В Перми удалось узнать, что Михайлов недавно проехал на Екатеринбург. Помогали рекомендательное письма князя Суворова, но имелись и свои корреспонденты. С одним из них, капитаном Авдеевым, Людмила Петровна давно вела оживленную переписку.
В Екатеринбурге Михайлова не оказалось. Авдеев писал, что, вероятнее всего, место каторги будет определено в Тобольске, где Михайлов, по-видимому, задержится.
На это письмо Авдеева Николай Васильевич отвечал сам. Описав подробности ареста Михайлова, его поведение на суде и проводы в Сибирь, он очень просил Авдеева узнать, куда будет сослан Михайлов.
Давно уже оставлена каюта парохода. Тряский тарантас, смена лошадей, ночлеги на ямских станциях, проверка подорожных, неизбежные расспросы и далекая цель впереди.
Путевая тетрадь заполняется понемногу наблюдениями, сценками, думами.
«С Тюмени, — записывает Николай Васильевич, — кончаются все удобства пути, и во всю нестерпимо долгую сибирскую дорогу не встретишь нигде ни газет, ни журналов, как будто бы весь мир вымер и осталась одна Сибирь. И чувствуешь, что живешь где-то в новом месте. Здесь как будто видишь совсем новую страну, только что явившуюся после геологического переворота и с только что созданным человеком».
С тревожными мыслями подъезжал Шелгунов к Тобольску. Разрешат ли ему увидать своего друга, скажут ли, куда его отправляют, как переносит дорогу Михаил Илларионович, не болен ли?
Но вот появились очертания города-острога. Не стесненный вещами (Миша, горничная и багаж прибывали со следующим пароходом), Николай Васильевич сразу же поехал к острогу. Комендант тюрьмы, ознакомившись с рекомендациями, согласился лично показать отставному полковнику, как содержатся заключенные в остроге. Познакомив посетителя с камерами уголовных преступников, комендант собирался уже повернуть назад, когда Николай Васильевич обратил его внимание на помещение, отгороженное от остальных стеной.
— Скажите, ваше превосходительство, — обратился Шелгунов к коменданту, — что находится за этой стеной?
— Там помещение для государственных преступников, — последовал неохотный ответ.
— Не откажите в любезности побывать в этом помещении.
— Видите ли, это не разрешается уставом. Хотя сейчас у нас только один заключенный, куда ни шло, думаю, что не будет большого преступления, если мы немного нарушим устав.
Комендант приказал часовому открыть ворота, и Шелгунов оказался в небольшом внутреннем дворике, окруженном высокой стеной. В середине дворика находилось приземистое кирпичное здание.
— В этой камере находится политический ссыльный, — сказал комендант, подводя Шелгунова к двери.
Загремел засов, и в полутемном помещении показался человек в арестантском халате и кандалах. Это был Владимир Обручев.
«Михайлова нет, — мелькнула мысль. — Куда же его отправили?»
Обручев знал Шелгунова по Петербургу, «Современнику», слышал он и о намерении Шелгунова ехать к Михайлову.
Шелгунов протянул руку. Обручев ответил на крепкое рукопожатие.
— Как ваше самочувствие? — официальным тоном спросил Шелгунов.
— Благодарю, не жалуюсь, — ответил Обручев.
Старые знакомые, обменявшись незначительными фразами и дружескими взглядами, расстались.
Вскоре выяснилось, что Михайлов отправлен в Иркутск. На другой день тарантас Шелгуновых снова затрясся по нескончаемым дорогам Сибири. В тетради появилась горестно-ироническая запись: «Тобольск, как и все русские города, гораздо красивее издали, чем вблизи. Особенную красоту придает ему острог, архиерейский дом, семинария и присутственные места».
Заканчивался второй месяц пути. Немилосердно пекло солнце, поливал дождь. Женщины устали. Тарантас требовал ремонта. В Красноярске было решено заняться хозяйственными делами, написать письма.
Иркутск встретил Шелгунова неприветливо. Уже у заставы потребовали вид и два дня изучали его в полиции. Оказалось, искали графа Шуазеля, проехавшего Иркутск две недели назад.
— Люденька, — взволнованно обратился к жене Шелгунов, — я только что познакомился с газетами. «Современник» и «Русское слово» запрещены. В поджогах обвиняют студентов, Чернышевский арестован.
Шелгунова ждала этого, но гнала от себя тревожные мысли, забывала о них в дороге.
И вот случилось!
Арест Чернышевского означал открытое наступление реакции. Удар нанесен в самое сердце революционной партии. Арест мог отразиться и на судьбе Шелгуновых. Нужно спешить, если они действительно хотят организовать побег Михайлову. Необходимо подумать и о собственной безопасности.
Уже позади Байкал, Чита, Нерчинск. Лошади резво бегут, чувствуя близость жилья. Обогнув сопку, тарантас въезжает в небольшое селение — Казаковский прииск и останавливается у рубленого дома, на крыльце которого, протягивая руки и наклоняясь вперед, стоит такой знакомый и близкий, тот, к кому они стремились, — Михаил Илларионович Михайлов.
* * *
Был вечер. Солнце длинными косыми лучами освещало Зимний дворец. В зале, превращенном в кабинет, у окна стоял человек среднего возраста, с бакенбардами; мундир плотно обтягивал полнеющую фигуру. Взор его был устремлен на Петропавловскую крепость. Туда совсем недавно доставили государственных преступников Чернышевского, Ветошникова, Николая Серно-Соловьевича.
С минуты на минуту должны прийти с докладом из Третьего отделения.
— Всюду недовольство. Эти прокламации, — Александр II передернул плечами, — подметные письма, призывы к уничтожению царского рода…
— Председатель следственной комиссии, статс-секретарь князь Голицын, ваше величество, — доложил адъютант.
Царь жестом разрешил аудиенцию.
— Позвольте, ваше величество, представить всеподданнейший доклад о порученном мне деле, — с поклоном начал Голицын.
— Говори.
— При ознакомлении с бумагами, найденными при обыске у Николая Серно-Соловьевича, нами были обнаружены письма отставного полковника Шелгунова и его жены на имя государственного преступника Серно-Соловьевича, из которых следует, что Шелгуновы предприняли поездку в Сибирь к Михайлову, преследуя неизвестные цели, и что он близок к Серно-Соловьевичу. Кроме того, несколько писем обнаружено у капитана Авдеева.
— Что же они пишут?
— Разрешите, ваше величество, зачитать некоторые места.
Александр слегка нагнул голову.
— Полковница Шелгунова, ваше величество, сообщает капитану Авдееву: «В Петербурге скучно, грязно, военно, и поэтому хочется бежать и бежать, — читал Голицын, выразительно подчеркивая интонацией отдельные слова. — В Иркутске делаются такие ужасы, что страшно за Михайлова, тем более что о нем нет ни слуху ни духу. Знаем только, что в Тобольске его приняли как следовало: дамы ездили к нему на поклон, посетители являлись с утра и каждый день возили на обед».
— Запросить тобольского генерал-губернатора, как допустил подобное, — резко оборвал царь.
— Будет исполнено, ваше величество, — подобострастно прошептал Голицын, делая пометку на бумаге.
— Записка о Шелгунове составлена?
— Так точно, ваше величество.
— Положи, сам прочту.
Александр II сел в кресло, быстро перелистал записку и карандашом через весь лист написал: «Его следует арестовать, и по осмотре его бумаг и снятии допроса решу участь».
Голицын поклонился.
Аудиенция кончилась.
Через час специальный курьер уже мчался в Иркутск. В сумке у него находился секретный пакет с распоряжением об аресте отставного полковника Шелгунова.
Стояла забайкальская светлая осень. Уже два месяца Шелгуновы жили на Казаковском прииске в одном доме с Михайловым. Шелгунов приводил в порядок разрозненные заметки о Сибири, Михайлов писал дневник, Людмила Петровна много внимания уделяла Мише. Вечерами друзья собирались вместе, слушали игру Людмилы Петровны на фортепьяно, обменивались мнениями. Беседа заходила далеко за полночь.
И это ясное утро было солнечным и беззаботным. Николай Васильевич проснулся рано и, зябко кутаясь в пальто, вышел из дома. Свежий ветерок трепал его светлые волосы. Ощущение бодрости и легкости наполняло все его существо.
По дороге, ведущей из Нерчинска, скакал вестовой.
«Уж больно в ранний час», — подумал Николай Васильевич.
Всадник приблизился.
— Горному инженеру Петру Илларионовичу Михайлову эстафета!
— Сейчас позову, — ответил Шелгунов и поднялся на крыльцо.
Из дому вышел Петр Илларионович. Вскрыв пакет и быстро пробежав записку, Петр Илларионович отпустил вестового и пригласил всех в комнату.
— Князь Дадешкалиан меня предупреждает, что на прииск едет жандармский полковник Дувинг. О цели его поездки ничего не сказано. Но подготовиться ко всему следует.
Были приняты все меры предосторожности: Михаила Илларионовича поместили в больницу. На кровать повесили табличку с фамилией и температурой. Весь день топилась печь, огонь уничтожал бумаги, документы.
Полковник не ехал.
Так прошел день.
Утро следующего дня было таким ярким, таким прозрачным, ласковым, что друзья забыли о всех тревогах, сидя в саду и наблюдая, как Миша и Михаил Илларионович с увлечением играют в мяч. Развеселившийся мальчик не отставал от Михайлова.
Здесь, в саду, за игрой в мяч и застал «больного» каторжника Михайлова, Мишу и Шелгуновых жандармский полковник Дувинг.
— По высочайшему повелению, — объявил жандарм, — отставной полковник Шелгунов и его жена подлежат аресту. Прошу следовать за мной.
Все отправились к дому, где уже в полном разгаре шел обыск.
— Что предписано делать с нами? — поинтересовался Николай Васильевич.
— Отвезти в Верхнеудинский острог, — отрапортовал Дувинг.
Обыск не дал результатов. Были обнаружены лишь книги по разным вопросам, привезенные Шелгуновым, записки о Сибири, гранки задержанной цензурой статьи «Русское слово» да листок с подсчетом срока, оставшегося Михайлову быть на каторге.
— С Людмилой Петровной плохо, — выйдя из комнаты Шелгуновой, сообщила горничная.
Миша, заплакав, побежал к матери.
— Ко времени, — облегченно вздохнул Николай Васильевич.
Шли дни. Людмила Петровна лежала, не вставая, в своей комнате. Полковник Дувинг тщетно ждал ее выздоровления.
Рапорт в С.-Петербург написан. Пора везти арестованных. Но «домашний совет» с этим не согласен.
Ночью в комнате у Людмилы Петровны «совет» решает предложить Дувингу оставить Шелгуновых под арестом на Казаковском прииске.
Взбешенный полковник приказал срочно доставить на прииск доктора, надеясь уличить Шелгунову в симуляции. Трудный поединок выиграла Людмила Петровна. После осмотра доктор категорически заявил, что больная не сможет вынести дальней дороги.
Дувинг отвез Шелгуновых в соседнюю, Ундинскую слободу. С чувством глубокой благодарности вспоминала всю жизнь Людмила Петровна благородного доктора, спасшего их от Верхнеудинского острога.
Шесть верст по тропинке от Казаковского прииска до Ундинской слободы ежедневно проделывал Михайлов.
Майор Рик смотрел на все сквозь пальцы, а фельдфебель получал регулярную мзду. Отпраздновали новый, 1863-й год. Этот год не принес Шелгуновым счастья.
Вскоре их перевели в Иркутск..
Донесение Дувинга, особенно намеки на интимные отношения Михайлова и Шелгуновой, было благожелательно воспринято окружением Александра II. Усмехаясь про себя, царь повелел: «Не привлекать Шелгуновых к допросу и, освободив от домашнего ареста, оставить их в Иркутске под надзором полиции».
* * *
Следствие по делу Чернышевского продвигалось медленно. Арестованный все отрицал. Улик не было, но был Костомаров, предавший Михайлова. Теперь ему предстояло доставить улики против Чернышевского. И он состряпал их в письме на имя какого-то Соколова. Костомаров пространно изложил все, что знал о Чернышевском. Не забыл он и чтение прокламации «Барским крестьянам», чай в трактире, солдат и Шелгунова.
И вот уже в обратном порядке мелькают сибирские города. И не гостиницы, а остроги и камеры — свидетели ночных бдений. По бокам два жандарма с обнаженными шашками, посередине отставной полковник Шелгунов, а вокруг — просыпающаяся после зимнего сна природа.
Шел конец марта, когда, шурша колесами по торцовой мостовой, жандармская карета выезжала на Невский.
Под Дворцовым мостом проплыла очистившаяся ото льда Нева, промелькнула стрелка Васильевского острова, небольшой мост через Кронверкский пролив, и карета, миновав ворота Петропавловской крепости, загромыхала по булыжнику, подъезжая к крыльцу комендантского дома.
— Отвести в Алексеевский равелин, — распорядился генерал Сорокин, ознакомившись с документами Шелгунова.
* * *
После долгой тряски в жандармском возке Шелгунов с трудом передвигал ноги. Перейдя деревянный мост через небольшой канал, отделяющий Алексеевский равелин от остальной крепости, Шелгунов и сопровождающие его солдаты остановились перед массивными воротами, которые медленно открылись, пропустив во внутрь еще одну жертву самодержавия. Шелгунов увидел белый каменный дом треугольной формы, с окнами, замазанными почти доверху белой краской. Единственная дверь, перед которой стояла будка часового, вела в караульное помещение и дальше в сквозной коридор с казематами. Других дверей не было.
Еще раз проверив документы и совершив необходимые формальности, смотритель предложил Шелгунову переодеться в казенное платье. Арестованного увели в одиночную камеру.
Щелкнул замок, и Шелгунов очутился в небольшой комнате. У окна стоял столик с выдвижным ящиком и стул, у стены — зеленого цвета деревянная кровать с двумя тюфяками и подушками, покрытая двумя простынями и байковым одеялом.
«Надолго ли я здесь?» — подумал Шелгунов. Он еще раз осмотрел камеру и вдруг почувствовал чей-то внимательный взгляд. Обернувшись к двери, Николай Васильевич заметил, что через небольшое окно на него уставился рыбий, навыкате глаз жандарма. Через некоторое время занавеска опустилась.
Быстро сняв арестантский байковый халат и туфли, Шелгунов бросился в постель и, утомленный тысячеверстной дорогой, заснул.
Начались допросы, личные ставки; следствие длилось долго и, наконец, зашло в тупик. Шелгунов держался твердо и уверенно, понимая, что у следственной комиссии, кроме общеизвестных фактов: его дружбы с Михайловым, знакомства с Чернышевским и Н. Серно-Соловьевичем, ничего нет.
На все обвинения Шелгунов отвечал точно и просто: он не отрицал своей многолетней дружбы с Михайловым; пояснял, что знал Чернышевского как выдающегося публициста и имел с ним такие отношения, какие автор статей имеет с редактором журнала; Н. Серно-Соловьевича знал, так как снимал у него квартиру; о прокламациях ничего не знает и причастия к ним никакого не имеет. Все наговоры Костомарова — чистая ложь и клевета. Приятельских отношений с Костомаровым никогда не было.
Следственная комиссия решила испытать последнее средство. Был запрошен цензурный комитет о причинах запрещения статьи Шелгунова «Русское слово». Полученный ответ не давал оснований для судебного преследования.
Длившееся больше года следствие окончилось безрезультатно. Военный суд вошел с представлением в высшие инстанции об освобождении Шелгунова на основании того, что «к положительному изобличению Шелгунова не представляется ни доказательств, ни улик».
Приговор суда гласил: «Хотя Шелгунова следовало бы оставить в сильном подозрении, но как он изъявил желание по всем предметам обвинения принять очистительную присягу, то, не допуская ее, из опасения клятвопреступления, — освободить от подозрения и передать дело воле божией, пока оно само собой объяснится».
Прошел год, как Шелгунов находился в Алексеевском равелине, В «Русском слове» было напечатано под его полным именем много статей: «Сибирь по большой дороге», «Литература и образованные люди», «Старый свет и Новый свет», «Начала общественного быта» и др. Наряду с Писаревым Шелгунов начал занимать ведущее положение в публицистике.
Статьи проходили сложный путь военной и гражданской цензуры, прежде чем попасть на страницы журнала. Писать приходилось эзоповым языком, но и это не всегда помогало.
«Наконец я получил «Русское слово», — пишет Шелгунов жене. — С моей статьей поступили жестоко. Во второй главе «Нравственные влияния» зачеркнули сплошь весь конец, больше печатного листа, так что теперь не оказывается никакого нравственного влияния».
А дни похожи один на другой, как «куриные яйца». Из кусочка неба, видного в окно, то шел снег, то дождь, то светило солнце. В оловянной чернильнице убывали чернила, гусиные перья, отточенные надзирателем, исписывались и ломались, стопки чистой бумаги таяли.
Получив приговор, Третье отделение не согласилось с ним и переслало дело для дополнительного следствия в генерал-аудиториат. Тот направил приговор на конфирмацию министру государственных имуществ генералу Зеленому.
Министр сообщал о Шелгунове: «Имения никакого за ним, женою его и родителями их не значится. По кондуитному списку способностей ума и в хозяйстве— хорош. Директор лесного департамента удостоверяет, что Шелгунов во время служения в корпусе лесничих ни в чем предосудительном замечен не был, чему служит доказательством назначение его на высшую должность астраханского губернского лесничего».
Князь Голицын, прочитав конфирмацию генерала Зеленого, решил вмешаться в дело Шелгунова. По его указанию в генерал-аудиториат было направлено отношение, в котором давалось довольно красноречивое разъяснение: «если бы полковник Шелгунов и подлежал по суду освобождению от ареста, тем не менее по сведениям, имеющимся о нем в отделении, он не может быть оставлен на жительство в С.-Петербурге, даже под надзором полиции».
В докладе, представленном генерал-аудиториатом Александру II, хотя и оговаривалось, что юридических доказательств виновности Шелгунова не имеется, однако указывалось на «в высшей степени вредный образ мыслей Шелгунова», на его «дружеские отношения к государственному преступнику Михайлову» и «предполагалось», что он знал «о существовании возмутительных воззваний и о преступном политическом направлении того небольшого кружка литераторов, в котором он сам постоянно вращался».
Решение генерал-аудиториата было сформулировано так: «Подсудимый Шелгунов если бы состоял на службе, то по вредному образу мыслей своих не мог быть в оной терпим, но как он уже находится в отставке, то, лишив его права на пенсию и на ношение в отставке мундира, отослать его на жительство в одну из отдаленных губерний, по усмотрению министра внутренних дел, подчинив его на месте жительства строгому полицейскому надзору».
«Быть по сему. Псков. 26 октября 1864 г.», — начертал на решении генерал-аудиториата Александр II.
* * *
Тридцатиградусными морозами, пургой и сугробами встретила Шелгунова Тотьма — уездный город севера России. Но это был живой мир: люди, снег, ветер, а не каземат Алексеевского равелина, не кусочек неба в окне.
Относительная свобода ссыльного благодатно подействовала на творчество, вдохнула в Николая Васильевича уверенность в своих силах. Как будто бы слетела опутывавшая слово публициста пелена неясности, осторожности, выжидания.
«С тех пор как я на свободе, — сообщал Николай Васильевич жене, — я стал писать совершенно другой манерой, гораздо свободнее, с фамильярным оттенком. Пишу я совершенно искренне, то есть не измышляю фамильярности, а как ложится под перо».
Радость ощущения свободы, хотя и мнимой, когда даже тотемские обыватели, погрязшие в сплетнях и мещанстве, казались порядочными и умными людьми, скоро прошла. Появилось чувство неустроенности, и только занятия литературой скрашивали неуютную жизнь, давали возможность на бумаге излить горечь и возмущение.
Шелгунов пишет цикл статей о провинции, в котором обличает социальный строй Российской империи, создает обобщенный образ нищей, задавленной самодержавием и крепостничеством страны.
Тотьма не устраивает Шелгунова своей отдаленностью от губернского города, затрудненностью связи с Петербургом, и он ходатайствует о переводе в другой город. Неожиданно приходит разрешение «на вид» в Великий Устюг.
Но и в Великом Устюге публицист не находит себе места. Обыватели, «сливки общества», относятся к ссыльному враждебно, смотрят на него, как на иностранца. Уездные болтуны изощряются в распространении нелепейших слухов о причинах ссылки Шелгунова, передавая из уст в уста небылицы, будто бы он сослан за намерение убить свою мать, и поэтому даже жена и дети не хотят с ним жить.
Растущая популярность Шелгунова — сотрудника «Русского слова» еще более настораживает предубежденных устюжских жителей. Литератора подозревают в желании создать карикатурные образы горожан, осмеять всех и вся. Вокруг Николая Васильевича «атмосфера сгущалась».
В «Русском слове» появилась статья Шелгунова «Женское безделье» — одна из лучших работ публициста. Обрушиваясь на патриархальный провинциальный быт, губящий женщин, автор ратовал за необходимость широкого воспитания женщин, видя в них великую силу, способную воспитать молодое поколение борцов.
Статья не осталась незамеченной. Петербургская газета «Голос», которую получали и в Устюге, поместила язвительную рецензию блюстителя домостроя, нелестно отозвавшегося о Шелгунове. Провинциальные сплетники быстро разнесли эту весть. Дамы узнавали в статье Шелгунова свои портреты и страшно возмущались. Им подпевали кавалеры. В обстановке сплетен и шантажа жить было трудно, но еще труднее работать.
«Быть литератором в провинции небезопасно, — горько жалуется Шелгунов, — и теперь мне остается только ожидать, что кто-нибудь, обидевшись какой-нибудь моей статьей, писанной без всякой мысли о нем, наймет каких-нибудь незнакомцев с дубьем и… в одно прекрасное утро полиция г. Устюга найдет на тротуаре мой бездыханный труп».
В ссылке Шелгунов начинает вести «Домашнюю летопись» — ежемесячные обозрения внутренней жизни страны, знакомя читателей с передовыми идеями века. «Благополучие сваливается людям не с неба, — разъясняет он, — а создается ими самими. Оно такой же продукт человеческой мысли, как сапоги — человеческих рук. Поэтому, пока люди не научатся думать хорошо, они не устроят хорошо своей жизни; а для нас, русских, только в том и вся задача, чтобы русская заунывная песня превратилась в песню веселую».
Об этой «веселой песне», которую запоет русский народ, мечтал Шелгунов в. ссылке, к ней звал он своими обозрениями.
Верность принципам революционной демократии, верность идеям Чернышевского и Добролюбова — характерная черта всего творчества Шелгунова, С гневом и презрением обрушивается он на продажных литераторов-либералов, готовых за деньги «писать все и против всего, провозглашая в 1862 году такие мысли и принципы, от которых они потом отказываются в 1863 году». Публицист противопоставляет им революционных демократов, имеющих «свои твердые убеждения, за которые они стоят и, если нужно, умирают, но не сдаются и не торгуют собой».
С каждой почтой Николай Васильевич получал обширную корреспонденцию. Это были самые счастливые минуты, дававшие заряд на много дней вперед. Писали друзья, сотрудники журнала, жена, Михайлов, Благосветлов, Писарев.
Однажды почта принесла тяжелую весть; 2 августа 1865 года умер Михайлов.
— Вот уж и нет одного.
Вспомнилась Гатчина. Лето. Они, веселые, молодые, полные великих планов и мыслей о подвиге. «Какое было лето, какие люди, какие золотые мечты!» — записывает он сквозь слезы.
Зато следующая почта привезла радость — письмо от Писарева, соседа по Алексеевскому равелину, соратника по журналу и родного по духу человека.
«Я часто думаю о том, как бы нам хорошо было жить в одном городе, часто видаться, много говорить о тех вещах, которые нас обоих интересуют, и вообще по возможности помогать друг другу в размышлениях и работах, — с волнением читал Николай Васильевич. — Виделись мы с вами, если я не ошибаюсь, счетом три раза, но я читал вас постоянно года три или четыре при такой обстановке, когда читается особенно хорошо и когда книга составляет единственный доступный источник наслаждения. Поэтому я вас хорошо знаю и давно люблю, как старого друга и драгоценного собрата… пишу я… к вам, — заканчивал Писарев, — собственно для того, чтобы показать вам, что я очень дорожу перепискою с вами, что я вао уважаю и люблю».
Это было признание заслуг Шелгунова перед революционным движением и литературой, одобрение его честности и принципиальности.
Но иначе смотрели и думали уездные чиновники.
Назревал конфликт.
Пребывание в В. Устюге окончилось стремительно и бурно. Возмущенный Шелгунов публично надавал пощечин судебному следователю Сутоцкому, который обозвал его «ссыльной собакой». Обычно корректный и выдержанный Николай Васильевич ответил грубияну языком, ему единственно понятным. Новое место ссылки — Никольск, а через год — Кадников.
Редактор-издатель журнала «Русское слово» Григорий Евлампиевич Благосветлов был в большом затруднении. Изменение цензурного устава, отменяющее предварительную цензуру, но дающее право после третьего предупреждения закрывать журналы, недовольство сотрудников ведением дел и выплатой гонорара, боязнь остаться без прибыли — все эти беды как-то сразу пали на него и требовали решения. Романтическая молодость, близкое знакомство с Герценом, детей которого учил Благосветлов, увлечение революционными идеалами, полуголодное существование разночинца отошли в прошлое. Собственный дом, журнал, обеспеченная жизнь… Стоит ли рисковать с таким трудом добытым благополучием?
С каждым номером журналу все труднее и труднее пробиваться через цензурные преграды.
Благосветлов пишет очередное письмо Шелгунову.
«Советую вам удалиться пока в тихую область истории и естественных наук, а политических и экономических пока не трогать… — полунамеки и намеки не по силам нашей публицистике, и поэтому все, что посерьезнее, должно быть припрятано на черный день».
Законвертовав письмо, Благосветлов углубился в чтение только что полученной статьи Шелгунова.
Даже при особой осторожности, исполняя роль «домашнего цензора», Григорий Евлампиевич, как журналист, не мог не отметить возросшего мастерства Николая Васильевича, умения найти обходные пути для обращения к читателю. В присланной статье Шелгунов рисовал чудовищную картину европейских беспорядков: беспутство, разврат и мотовство правителей и придворных, бедность и нищету народа.
— Читатель поймет, — улыбается Благосветлов, и его карающее перо обходит эти примеры. — При случае нужно ему написать, чтобы напускал побольше учености, серьезного тона, — и редактор вписывает целый абзац, чтобы еще больше отвлечь внимание цензуры.
Автор «Обыкновенной истории» и «Обломова», знаменитый русский писатель Иван Александрович Гончаров не одобрял нового цензурного устава. Никакой предварительной цензуры, и как что-либо «такое» — предупреждение. Три предупреждения — журнал закрыт. «Русское слово» уже получило первое предупреждение. Но Гончаров — член Совета главного управления по делам печати.
У него на столе ноябрьская книжка «Русского слова» за 1865 год. Статьи Писарева и Шелгунова переложены закладками. Иван Александрович еще раз просматривает написанный им отзыв о журнале.
«В статье «Рабочие ассоциации», соч. Шелгунова — автор сочувствует стремлениям рабочих классов соединить мускульную силу с силой умственной, из какового соединения должны возникнуть промышленные ассоциации, которым предназначено изменить существующий строй общественных экономических учреждений».
Дальше цитаты, ссылки и вывод: автор «обнаруживает сочувствие не только к экономическим, но и вообще к социальным теориям Фурье, Овена и Сен-Симона, приводя с одобрением главные положения их теорий».
Отзыв И. А. Гончарова был доложен министру внутренних дел, и 8 января 1866 года последовало распоряжение;
«Принимая во внимание: что в журнале «Русское слово» (№ 11 за 1865 г.), в статье «Исторические идеи Огюста Конта», соч. Писарева (стр. 225–228), заключается стремление колебать авторитет христианской религии, а в статье г. Шелгунова под заглавием «Рабочие ассоциации» (стр. 20–26, 30 и 32–35) предлагается оправдание и даже дальнейшее развитие коммунистических теорий, причем усматривается косвенное возбуждение к осуществлению этих теорий на практике, министр внутренних дел… определил: объявить второе предупреждение журналу «Русское слово».
Следующий выпуск «Русского слова» снова подвергся суровой каре. Тот же Гончаров писал: «Декабрьская книжка этого журнала, почти всеми статьями, в ней помещенными, представляет замечательный образец журнальной ловкости — оставаться верною принятому направлению, не подавая поводов к административному и еще менее к судебному преследованию». Гончаров прямо отметил «вредное направление» статей Шелгунова, в частности статьи «Честные мошенники».
16 февраля 1866 года распоряжением товарища министра внутренних дел журнал «Русское слово», получив третье предупреждение, был «приостановлен». Главным поводом к этому были статьи Писарева и Шелгунова.
* * *
Прошло 15 лет. Сколько сменилось городов — Вологда, Калуга, Новгород! Сколько погибло друзей! Давно из-за границы вернулась Людмила Петровна и подросли дети.
Все популярнее становилось имя Шелгунова — литературного критика. После смерти Писарева Николай Васильевич возглавил критический отдел нового благосветловского журнала «Дело». Его статьи «Типы русского бессилия», «Русские идеалы, герои и типы», «Талантливая бесталанность», «Люди сороковых и шестидесятых годов», «Двоедушие эстетического консерватизма» и многие другие продолжали традиции революционеров-демократов — Чернышевского, Добролюбова и Писарева. Они по-новому ставили вопросы о реализме и положительном герое в русской литературе. Проблема «народного реализма», выдвинутая Шелгуновым, обобщала художественную практику писателей-разночинцев Н. Успенского, Помяловского, Решетникова.
В Калуге Николай Васильевич вел уединенный образ жизни. Много писал. Изредка и ненадолго к нему приезжала. Людмила Петровна. Конца ссылки не видно.
Начали сдавать нервы. Появилась бессонница, кошмары.
«Стал прихварывать, — пишет он жене, — все какое-то недомогание, то зубы, то глаз, то простуда». Расстроенное тюрьмой и ссылкой здоровье вынуждало Шелгунова просить о консультации у известных врачей.
И вот, наконец, Шелгунов снова в Петербурге.
Вновь вокруг него пылкая, рвущаяся в бой молодежь. Маститый критик принят в литературные круги. Студенчество считает за честь пригласить знаменитого шестидесятника на свои вечера и банкеты.
Редактирование журнала отнимает много времени. Благосветлов совсем расхворался, и все дела по журналу легли на плечи Николая Васильевича.
После смерти Григория Евлампиевича он становится редактором «Дела».
Вечно ищущий, вечно неудовлетворенный, Николай Васильевич привлекает к сотрудничеству в журнале наиболее радикальные силы — эмигрантов П. Ткачева, Л. Тихомирова, Н. Русанова, позднее Степняка-Кравчинского. Он пытается «влить новое вино в старые мехи». Однако мечтам Шелгунова о журнале, несущем передовые взгляды в массы, не суждено было сбыться.
1 марта 1881 года Николай Васильевич спокойно прогуливался вдоль Екатерининского канала в сопровождении Русанова.
Они вели свой обычный разговор, как вдруг стало заметно какое-то оживление: бежали люди, мчались экипажи, на рысях проехал взвод жандармов, за ним второй…
Со стороны Летнего сада показался знакомый литератор, в расстегнутой шубе, с потным, растерянным лицом.
— Государя убили, — прохныкал он и скрылся за поворотом.
Шелгунов и Русанов бросились в редакцию. Там уже собрались сотрудники, возбужденные слухами о покушении. Соредактор Николая Васильевича по журналу «Дело» Станюкович и старик петрашевец Плещеев не скрывали радости и ликования. Молодежь строила самые оптимистические планы.
Николай Васильевич, как всегда корректно, пытался остудить пыл молодежи и поставить ее на реальную почву фактов.
— Господа, — обратился Николай Васильевич к собравшимся, — в этот переломный момент русской истории пресса должна заявить о необходимости нового политического режима.
— Правильно! — раздались дружные голоса.
— Нужно использовать все возможности. Каждый из нас обязан, именно обязан, выступить в печати с критикой существующего строя. Не обязательно подписываться под статьями, но писать об этом необходимо.
Принесли экстренный выпуск газеты с текстом правительственного сообщения.
— «Воля всевышнего свершилась, — под аплодисменты присутствующих читал Станюкович, — господу богу угодно было призвать к себе возлюбленного монарха».
— Вы только подумайте, — раздались голоса, — «богу угодно».
— Народная воля — воля божия, — бросил кто-то.
В течение двух следующих месяцев многие журналы и газеты поместили статьи, осуждающие оголтелый монархизм, требующие пересмотра политики. В этой критике деятельное участие принимал и журнал Николая Васильевича.
Новый царь Александр III ответил на убийство отца еще большими гонениями на печать и политическим террором. Журнал «Дело» подвергался особым нападкам цензуры. Неугоден Третьему отделению был и Шелгунов — редактор «Дела». Искали случая, чтобы убрать его.
И такой случай представился,
Студенты Технологического института давали бал. В числе почетных гостей был приглашен и Николай Васильевич. С эстрады говорилось много обычных либеральных фраз. Ораторы сменяли друг друга. Наиболее впечатляющим было выступление Николая Константиновича Михайловского, приехавшего вместе с Шелгуновым.
В приятном расположении духа возвратился Николай Васильевич домой. А наутро последовал вызов в полицию, обвинение в агитации молодежи и высылка в Выборг вместе с Михайловским.
Ссыльным возглавлять журнал не полагалось. Шелгунов передает бразды правления в руки Станюковича. Когда обвинение было снято, Шелгунов достал заграничный паспорт и уехал лечиться на юг Франции.
Весной 1884 года после возвращения из-за границы Николая Васильевича вновь арестовывают по подозрению в сношениях с народовольцами и в снабжении деньгами их Исполнительного комитета.
Но и на этот раз полиция не может найти достаточных улик.
И снова без суда его высылают в административном порядке под надзор полиции, теперь уже в село Воробьево Смоленской губернии.
Опять ссылка, опять одиночество, болезнь, старость…
В смоленской ссылке жизнь пришлось начинать заново. Не было постоянной журнальной работы, да и не было журнала, близкого по духу революционному демократу. Но Шелгунов был достаточно крупной фигурой в литературном мире, и участие его в любом журнале способствовало бы популярности издания.
В Воробьево прислали предложения «Неделя» Гайдебурова и «Русская мысль» В. Гольцева — издания либерального толка. Выбора не было. Николай Васильевич согласился вести обозрения в журнале «Русская мысль».
«Очерки русской жизни» — так назвал Шелгунов свои обозрения. В них умудренный годами демократ во весь голос заявил о необходимости литературы больших мыслей и смелых дерзаний.
Яркие очерки, критикующие абрамовщину с ее проповедью «малых дел», толстовскую философию «непротивления злу насилием», нашли широкий отклик у читателя.
На фоне общего застоя мысли, теории «малых 'дел», непротивленчества голос публициста зазвучал молодо, свежо, сильно.
Очерки Шелгунова учили молодое поколение 80-х годов думать, мечтать, искать выхода из болота серости и мелочей жизни. Ставя в пример великие идеи шестидесятников, проводя параллели между десятилетиями 60–70—80-х годов, публицист страстно проповедует жажду подвига.
Противопоставляя молодежь 80-х и 60-х годов, Шелгунов подчеркивал, что в 60-е годы молодое поколение искало «объединения и солидарности», смело и уверенно смотрело вперед и разрешало свои вопросы «не по программе о куске хлеба».
Никакой общественный застой, никакие учителя, земские врачи, никакие «малые дела» и «тихая культурническая работа» или «непротивление злу» не смогут изменить социальных отношений. Нужно ломать существующий государственный строй.
Рисуя яркие картины взлета мысли, идей и дел 60-х годов, показывая жалкое «ползание мысли», бесцветность литературы настоящего, Шелгунов поднимается до высот больших социальных обобщений.
Заслуги Шелгунова оценили передовые русские рабочие.
Квартира знаменитого революционера-публициста стала свидетелем уважения и любви к нему передовых людей России. Делегация петербургских рабочих поднесла Шелгунову адрес, в котором отмечались заслуги революционного демократа в воспитании сознания рабочего класса.
«Дорогой учитель, Николай Васильевич! — писали рабочие. — Читая Ваши сочинения, научаешься любить и ценить людей, подобных Вам. Вы первый признали жалкое положение рабочего класса в России… Вы познакомили нас с положением братьев рабочих в других странах, где их тоже эксплуатируют и давят. Мы… узнали, как наши товарищи-рабочие в Западной Европе добились прав, борясь за них и соединяясь вместе. Мы поняли, что нам, русским рабочим, подобно рабочим Западной Европы, нечего рассчитывать на какую-нибудь внешнюю помощь, помимо самих себя, чтобы улучшить свое положение и достигнуть свободы…
Вы выполнили Вашу задачу, — заканчивался адрес. — Вы показали нам, как вести борьбу».
12 апреля 1891 года Шелгунова не стало.