Часть I
1. «Cum ipsi (majores homines) appellabant rem aliquam, et cum secundum earn vocem corpus ad aliquid movebant, videbam, et tenebam hoc ab eis vocari rem illam, quod sonabant, cum earn vellent ostendere. Hoc autem eos velle ex motu corporis aperiebatur: tamquam verbis naturalibus omnium gentium, quae fiunt vultu et nutu oculorum, ceterorumque membrorum actu, et sonitu vocis indicante affectionem animi in petendis, habendis, rejiciendis, fugiendisve rebus. Ita verba in variis sententiis locis suis posita, et crebro audita, quarum rerum signa essent, paulatim colligebam, measque jam voluntates, edomito in eis signis ore, per haec enuntiabam».
(Августин, «Исповедь», I. 8).
Эти слова, как мне кажется, открывают нам сугубую картину сущности естественного языка. Картина такова: отдельные слова в языке именуют объекты – предложения суть комбинации подобных имен. В этой картине языка мы находим корни следующей идеи: всякое слово обладает значением. Это значение сопоставлено слову. Оно есть объект, который обозначается словом.
Августин не говорит о том, что имеется различие между видами слова. Описывая изучение языка таким образом, ты, полагаю, мыслишь прежде всего о существительных, наподобие «стол», «стул», «хлеб», и об именах собственных, и лишь во вторую очередь – об именах конкретных действий и свойств; а прочие виды слов кажутся чем-то, что должно само о себе позаботиться.
Но подумай о следующем использовании языка: я отправляю кого-то за покупками. Я даю записку, в которой сказано «Пять красных яблок». Он передает записку владельцу лавки, который открывает ящик с пометкой «Яблоки», затем ищет в таблице слово «красный» и выявляет образец этого цвета, потом произносит последовательность количественных числительных – я предполагаю, что он знает их наизусть – до слова «пять», и для каждого числа берет из ящика яблоко того же цвета, что и образец. Именно так, схожим образом, человек использует слова. – «Но откуда он знает, где и как ищется слово «красный» и что нужно сделать со словом “пять”»? Что ж, я допускаю, что он действует, как описано выше. Объяснения рано или поздно заканчиваются. – Но каково значение слова «пять»? – Тут подобное не рассматривается, лишь способ использования слова «пять».
2. Это философское понятие значения имеет свое место в примитивном представлении о том, как функционирует язык. Но можно также сказать, что здесь налицо идея языка, более примитивного, чем наш.
Давай вообразим язык, для которого описание, данное Августином, справедливо. Язык предназначен служить средством общения между строителем А и его помощником Б. A работает с камнем: блоки, столбы, плиты и балки. Б передает камни мастеру, причем в порядке, который необходим А. Для этой цели они пользуются языком, состоящим из слов «блок», «столб», «плита», «балка». А называет слова, Б подает камни, имена которых выучил. – Будем считать это полноценным примитивным языком.
3. Августин, мы могли бы сказать, в самом деле описывает систему общения, однако не все, что мы называем языком, относится к этой системе. И это следует иметь в виду во многих случаях, когда возникает вопрос: «Это подходящее описание или нет?» Ответ: «Да, подходящее, но лишь для данной узко ограниченной области, а не для всего того, что вы стремились описать».
Как если бы кто-то сказал: «Игра заключается в перемещении объектов по поверхности в соответствии с определенными правилами…» – а мы бы ответили: «Вы, кажется, имеете в виду настольные игры, но ведь есть и другие». Ваше определение будет корректным, если вы ограничите его упомянутыми играми.
4. Вообрази письменность, в которой буквы обозначают звуки, а также являются знаками ударения и пунктуации. (Письменность можно понимать как язык для представления звуковых образцов.) Теперь вообразим, что некто трактует эту письменность как простое соотношение букв со звуками, словно буквы лишены совершенно иных функций. Августиново понятие языка во многом подобно такому чрезмерно упрощенному понятию письменности.
5. Если оценить пример из § 1, мы, возможно, начнем осознавать, насколько общее представление о значении слова замутняет функционирование языка, не позволяя видеть ясно. – Мгла рассеивается, если изучать феномен языка в примитивных его проявлениях, когда четко определены назначение и употребление слов.
Ребенок использует подобные примитивные формы языка, когда учится говорить. Здесь обучение языку является не объяснением, но тренировкой.
6. Мы могли бы предположить, что язык из § 2 является языком A и Б во всей его полноте, языком всего племени. Детей учат выполнять эти действия и использовать эти слова, сопровождая действия, и реагировать таким вот образом на слова других.
Важная часть тренировки будет состоять в том, чтобы обучающий указывал на предметы, обращая на них внимание ребенка, и одновременно произносил какое-либо слово; например, слово «плита», указывая на плиту. (Я не хочу называть это «наглядным определением», поскольку ребенок еще не может спросить, каково имя объекта. Я назову это «наглядным обучением словами». – Я скажу, что оно является важной частью тренировки, потому что так заведено у людей, а не потому, что нельзя предположить иначе.) Это наглядное обучение словами, можно сказать, устанавливает связи между словами и предметами. Но что это значит? Что ж, это может означать многое; но весьма вероятно, что прежде всего мы подумаем: образ предмета возникает в сознании ребенка, когда он слышит конкретное слово. Но если это действительно так, каково тогда назначение слова? – Да, назначение слова может заключаться именно в этом. – Я могу вообразить подобное использование слов (последовательностей звуков). (Произнести слово – будто взять ноту на клавиатуре воображения.) Но в языке из § 2 назначение слов вовсе не в том, чтобы вызывать образы. (Хотя, конечно, может выясниться, что образы помогают достигнуть истинной цели.)
Но если наглядное обучение стремится к подобному результату, вправе ли я сказать, что оно способствует пониманию слова? Понимаешь ли ты команду «Плита!», если действуешь по ней так-то и так-то? – Несомненно, наглядное обучение помогает добиться результата, но лишь в сочетании с определенной тренировкой. При иной тренировке наглядное обучение теми же словами привело бы к совершенно отличному пониманию.
«Я привожу в действие тормоз, соединяя стержень с рычагом». – Да, если задан весь остальной механизм. Только в сочетании с ним это тормозной рычаг, а сам по себе рычагом не является; может быть чем угодно или ничем вообще.
7. В практике употребления языка (2) один называет слова, другой действует в соответствии с ними. При обучении языку происходит следующее: учащийся именует предметы, то есть произносит слово, когда обучающий указывает на камень. – Имеется и более простое упражнение: учащийся повторяет слова за обучающим; и оба процесса похожи на язык.
Можно также представить весь процесс употребления слов в языке (2) как одну из тех игр, посредством которых дети изучают родной язык. Я назову эти игры «языковыми играми» и буду иногда рассуждать о примитивном языке как о языковой игре.
И процессы именования камней и повторения слов за кем- либо тоже можно назвать языковыми играми. Вспомним частые употребления слов в играх наподобие хороводов. Я также назову языковой игрой целое, включающее язык и действия, с которыми он переплетен.
8. Теперь рассмотрим расширенный вариант языка (2). Помимо четырех слов («блок», «столб» и т. д.) внедрим в него слова, используемые так, как владелец лавки (1) использует последовательности числительных (это может быть ряд букв алфавита); далее допустим, что два слова, например «туда» и «это» (поскольку примерно таково их назначение), используются в сочетании с указательным жестом; наконец введем некоторое число цветовых образцов. А отдает распоряжение: «d плит – туда». Одновременно он показывает помощнику образец цвета и, произнося «туда», указывает на место на стройплощадке. Из запаса плит Б берет по одной на каждую букву алфавита до «d», того же цвета, что и образец, и несет на место, указанное A. – В других случаях A распоряжается: «Это – туда». Произнося «это», он показывает на строительный камень. И так далее.
9. Изучая подобный язык, ребенок должен выучить ряд «цифр» – a, b, c… А также научиться их применять. – И эта тренировка будет включать наглядное обучение словами? – Что ж, люди могут, например, указывать на плиты и считать: «a, b, c плит». – С наглядным обучением словам «блок», «столб» и т. д. схоже наглядное обучение числительным, которые служат не для счета, а для обозначения групп предметов, охватываемых беглым взглядом. Дети на самом деле обучаются таким способом использованию первых пяти или шести количественных числительных.
А употреблению «это» и «туда» тоже обучают наглядно? – Вообразите, как можно было бы научить употреблению этих слов. Некто указывает на места и предметы – но в данном случае указание включено в употребление слов, не только в обучение их употреблению.
10. Теперь спросим, что же обозначают слова этого языка. – Что позволяет выявить обозначаемое ими, если не способ их употребления? И мы уже его описали. Значит, выражение «Это слово обозначает это» должно стать частью описания. Иначе говоря, описание должно иметь форму: «Слово… обозначает…»
Конечно, можно свести описание употребления слова «плита» к утверждению, что это слово обозначает вот этот предмет. Именно так и поступают, когда, например, нужно устранить ошибочное применение слова «плита» к строительному камню, на самом деле представляющему собой «блок», – но при этом очевидно, что способ «соотнесения», то есть использования данного слова в остальном уже известен.
Схожим образом можно сказать, что знаки «a», «b», и т. д. обозначают числа, когда требуется, например, устранить ошибочное представление, будто «a», «b», «c» играют в языке роль, сопоставимую с ролью слов «блок», «плита», «столб». И еще можно сказать, что «c» означает вот это число, но не то, чтобы объяснить, что буквы должны использоваться в порядке «a, b, c, d» и т. д., а не в последовательности «a, b, d, c».
Однако уподобление описаний употребления слов подобным образом не делает сходными сами эти употребления. Ведь, как мы видим, они совершенно различны.
11. Представим инструменты в ящике мастерового: молоток, клещи, пила, отвертка, линейка, банка с клеем, клей, кисточка, гвозди и винты. – Функции слов столь же разнообразны, как и функции этих предметов. (Но в обоих случаях налицо и сходства.)
Конечно, нас сбивает с толку внешнее подобие слов, когда мы слышим их в речи или видим в письме или в печати. Ведь их применение не дано нам столь ясно. Особенно когда мы философствуем!
12. Это как заглянуть в кабину локомотива. Мы видим рукоятки, более или менее похожие друг на друга. (Что естественно, поскольку все они предназначены для того, чтобы браться за них рукой.) Но одна из них – пусковая рукоять, которую ведут плавно (она регулирует открытие клапана); другая – рукоять переключателя, у которого всего два рабочих положения: он либо включен, либо выключен; третья – рукоять тормоза, которую чем резче тянешь, тем сильнее торможение; четвертая – рукоятка насоса: она действует, только когда двигаешь ее туда- сюда.
13. Когда мы говорим: «Каждое слово в языке что-то означает», мы тем самым не говорим ничего вообще, если не объясняем в точности, какое различие хотим провести. (Возможно, конечно, что мы захотели отличить слова языка (8) от слов, «не имеющих значения», подобных тем, что присутствуют в стихах Льюиса Кэрролла или в таких словах, как «Лиллибулеро» из одноименной песни.)
14. Вообразим, что кто-то говорит: «Все инструменты служат тому, чтобы что-либо изменять. Так, молоток меняет положение гвоздя, пила – форму доски, и так далее». – А что меняют линейка, банка с клеем или гвозди? – «Наше знание о длине предмета, температуре клея, прочности ящика». И чего можно достичь подобным истолкованием выражений?
15. Слово «обозначать», возможно, употребляется наиболее прямым образом, когда обозначаемый предмет помечается неким знаком. Допустим, инструменты, которыми А пользуется при строительстве, имеют определенные метки. Когда А показывает своему помощнику такую метку, Б приносит инструмент с нужной меткой. Схожим или более или менее подобным образом имя означает нечто и дается предмету. – Для философии часто оказывается полезным говорить себе: именование чего- либо схоже с наклеиванием ярлыка.
16. А что насчет цветовых образцов, которые А показывает Б, – являются ли они частью языка? Можете считать, как вам удобнее. Они не относятся к словам; и все же, когда я говорю кому-то: «Произнеси это слово “это”», человек сочтет второе «это» частью предложения. А ведь оно играет ту же роль, что и цветовые образцы в языковой игре (8); то есть является образцом того, что другой собирался сказать.
Вполне естественно и менее всего запутывает причисление образцов к инструментам языка.
((Замечание к возвратному местоимению «это предложение».))
17. Возможно сказать: в языке (8) мы имеем различные типы слов. Ведь функции слов «плита» и «блок» более схожи, чем функции слов «плита» и «d». Но способ, каким мы группируем слова по типам, зависит от цели классификации – и от наших собственных намерений. Подумай о различных точках зрения, с которых можно классифицировать инструменты или шахматные фигуры.
18. Не следует тревожиться по поводу того, что языки (2) и (8) состоят сугубо из последовательностей. Если ты полагаешь, что именно поэтому они неполны, спроси себя, полон ли наш язык; был ли он таковым до внедрения в него химических символов и знаков для исчисления бесконечно малых величин – ведь последние, так сказать, суть пригороды нашего языка. (И сколько зданий или улиц понадобится, прежде чем город станет городом?) Наш язык можно описать как древний город: лабиринт переулков и площадей, старых и новых зданий, домов с пристройками разных периодов, окруженный множеством новых районов с прямыми улицами регулярной планировки и типовыми домами.
19. Легко вообразить язык, состоящий только из приказов и донесений в битве. – Или язык, состоящий лишь из вопросов и выражений подтверждения и отрицания. И неисчислимое множество других. А вообразить язык значит вообразить форму жизни.
Но что насчет этого: возглас «Плиту!» в примере (2) является предложением или словом? – Если словом, тогда, разумеется, оно имеет совсем другое значение, чем похоже звучащее слово нашего повседневного языка, поскольку в § 2 это – призыв. А если оно – предложение, оно безусловно не эллиптическое предложение «Плиту!» из нашего языка. – Применительно к первому вопросу, можно назвать возглас «Плиту!» словом и предложением; возможно, точнее назвать его «выродившимся предложением» (как говорят о выродившейся гиперболе); это и есть наше эллиптическое предложение. – Но это, разумеется, лишь краткая форма предложения «Подай мне плиту», а такое предложение в примере (2) отсутствует. – Но почему я не должен, напротив, назвать предложение «Подай мне плиту» удлинением предложения «Плиту!»? – Потому что, крикнув «Плиту!», вы на самом деле имеете в виду «Подай мне плиту». – Но как ты это делаешь, что имеешь в виду, произнося «Плиту!»? Проговариваешь ли ты для себя несокращенное предложение? И почему я должен переводить возглас «Плиту!» иными выражениями, чтобы пояснить, что им подразумевается? А если они обозначают одно и то же, почему я не могу сказать: «Когда он говорит: “Плиту!”, то имеет в виду “Плиту!”»? Или: если можно подразумевать «Подай мне плиту», почему нельзя подразумевать «Плиту!»? Но, когда я требую: «Плиту!», я на самом деле хочу, чтобы мне подали плиту. – Безусловно, однако заключено ли «желание этого» в помысливании, в той или иной форме, предложения, отличного от произнесенного?
20. Но теперь все выглядит так, будто, когда кто-то говорит: «Подай мне плиту», он может осмысливать это выражение как одно длинное слово, соответствующее отдельному слову «Плиту!». – Значит, порой возможно употребить одно слово, а порой – три? И как обычно осмысливают это выражение? – Думаю, мы склонны говорить: мы подразумеваем предложение из трех слов, когда желаем противопоставить его другим предложениям, таким как «Дай мне плиту», «Подай ему плиту», «Подай две плиты» и т. д.; то есть противопоставляем предложениям, содержащим отдельные слова нашего в иных комбинациях. – Но в чем состоит использование одного предложения в противопоставление другим? Возможно, другие присутствуют в сознании говорящего? Все сразу? И пока произносится предложение, или до того, или после? – Нет. Даже если подобное объяснение кажется соблазнительным, нам должно лишь подумать, что происходит на самом деле, чтобы увидеть, что мы ступили на ложный путь. Мы говорим, что используем призыв в противоположность другим предложениям, так как наш язык содержит возможность этих других предложений. Человек, не понимающий наш язык, иностранец, которому нередко доводилось слышать требование: «Подай мне плиту!», мог бы счесть эту последовательность звуков единым словом, соответствующим, быть может, обозначению «строительного камня» в его языке. Случись ему самому затем отдать этот приказ, он, вероятно, произнес бы его иначе, и мы бы сказали: он произносит это необычно, потому что принял приказ за одно слово. – Но не следует ли из этого, что нечто иное творится и в его сознании, когда он отдает этот приказ, – нечто, соответствующее тому обстоятельству, что он принял предложение за одно слово? – Или же в его сознании происходит то же самое? Ведь что творится в твоем сознании, когда ты отдаешь такой приказ? Сознаешь ли ты, что предложение состоит из трех слов, когда его произносишь? Конечно, ты владеешь этим языком, который содержит и все прочие предложения, но проявляется ли это владение в тот самый миг, когда ты произносишь предложение? – Ведь я признал, что иностранец, вероятно, произнесет предложение иначе, если он осмысливает его по-своему; но то, что мы назовем ошибочным восприятием, не обязательно заключено в том, что сопутствует произнесению приказа.
Предложение эллиптическое не потому, что опускает нечто, о чем мы думаем, произнося его, но потому, что оно укорочено – по сравнению с определенными правилами нашей грамматики. – Конечно, можно возразить: «Вы допускаете, что сокращенное и несокращенное предложения обладают одинаковым смыслом. – И каков же тогда этот смысл? И существует ли для него словесное выражение?» Но разве тот факт, что предложения имеют одинаковый смысл, не означает их одинакового употребления? – (По-русски говорят «Камень красный» вместо «Камень есть красный»; и ощущают ли они отсутствие глагола-связки или мыслят его при произнесении?)
21. Вообрази языковую игру, в которой А спрашивает, а Б отвечает о количестве плит или блоков в штабеле или о цвете и форме строительных камней, сложенных в таком-то и таком-то месте. – Подобный ответ мог быть таким: «Пять плит». И в чем же различие между ответом или утверждением «Пять плит» и приказом «Пять плит!»? – Что ж, различие в роли, которую произнесение этих слов играет в языковой игре. Без сомнения, тон голоса, каким произнесены слова, и выражение лица говорящего, и многое другое также будут отличаться. Но мы можем вообразить, что тон одинаков – ведь и приказ, и ответ можно произнести множеством тонов и с разными выражениями лица, – то есть различие проявляется лишь в применении. (Конечно, мы могли бы использовать слова «утверждение» и «приказ», чтобы обозначать грамматические формы предложения и интонацию; мы называем предложение «Сегодня отличная погода, не правда ли?» вопросительным, хотя оно употребляется как утверждение.) Можно представить себе язык, в котором все утверждения имеют форму и тон риторических вопросов; или каждый приказ – форму вопроса «Не желаете ли?..» Тогда, вероятно, можно будет сказать: «То, что он говорит, имеет форму вопроса, но на самом деле это приказ», – то есть выполняет функцию приказа в практике использования языка. (Так же говорят: «Вы сделаете это», не предрекая, но приказывая. Что делает предложение тем или другим?)
22. Идея Фреге о том, что каждое утверждение содержит допущение, или признание возможности утверждения, на самом деле опирается на находимую в нашем языке возможность записать любое утверждение в следующей форме: «Утверждается, что то-то и то-то имеет место». – Но высказывание «то-то и то-то имеет место» не является предложением в нашем языке – пока оно не станет ходом в языковой игре. И если я пишу не: «Утверждается, что…», но: «Утверждается: то-то и то-то имеет место», слово «Утверждается» становится попросту лишними.
С тем же успехом можно было бы записать любое утверждение в форме вопроса с последующим утверждением; например: «Идет дождь? Да!» Доказывало бы это, что всякое утверждение содержит вопрос?
Конечно, мы вправе использовать знак утверждения в противоположность вопросительному знаку, например, или если хотим отличить утверждение от вымысла или предположения. Ошибочно полагать, что утверждение состоит из двух действий, обдумывания и утверждения обдуманного (привнесения истинностного значения или чего-то подобного), и что при осуществлении этих действий мы следуем за пропозициональным знаком сходно с тем, как поем по нотам. Чтение написанного предложения, громко или тихо, и вправду можно сравнить с пением по нотам, но не «обдумывание» (осмысление) прочитанного предложения.
Знак утверждения Фреге отмечает начало предложения. Таким образом, его функция сходна с функцией точки. Он отделяет период в целом от суждения внутри периода. Если я слышу, как кто-то говорит: «Идет дождь», но не знаю, услышал ли я начало и конец периода, это суждение само по себе не способно что-либо мне сообщить.
23. Но сколько существует типов предложения? Скажем, утверждение, вопрос и приказ? – Нет, их бесчисленное множество: налицо бесконечное разнообразие способов употребления того, что мы называем «символами», «словами», «предложениями». И эта множественность не является чем-то устойчивым, заданным раз и навсегда; новые типы языка, новые языковые игры, как мы можем сказать, возникают постоянно, а другие устаревают и забываются. (Приблизительную картину этих перемен показывают изменения в математике.)
Здесь термин «языковая игра» призван выразить то обстоятельство, что говорить на языке означает действовать, то есть форму жизни.
Рассмотрим многообразие языковых игр на следующих и других примерах:
Отдавать приказы и подчиняться —
Описывать внешний вид объекта или его размеры —
Создавать объект по описанию (чертежу) —
Сообщать о событии —
Обсуждать событие —
Выдвигать и проверять гипотезу —
Представлять результаты эксперимента в таблицах и схемах —
Сочинять истории и читать сочиненное —
Играть на сцене —
Петь хороводные песни —
Отгадывать загадки —
Придумывать шутки и делиться ими —
Решать арифметические задачи —
Переводить с одного языка на другой —
Спрашивать, благодарить, бранить, приветствовать, молить. —
Интересно сравнить разнообразие инструментов языка и способов их применения, многообразие типов слов и предложений с тем, что говорят о структуре языка логики (включая автора «Логико-философского трактата»).
24. Если не принимать во внимание разнообразие языковых игр, возможно, возникнет склонность задавать вопросы наподобие: «Что такое вопрос?» – Это утверждение, что я не знаю того-то и того-то, или же утверждение, что я желаю, чтобы другой сообщил мне нечто? Или это на самом деле описание моего психического состояния неуверенности? – А крик «Помогите!» можно назвать таким описанием?
Подумай, сколько всего называют «описанием»: описание положения тела в пространстве посредством координат; описание выражения лица; описание ощущения прикосновения; описание настроения.
Конечно, вполне возможно заменить обычную форму вопроса утверждением или описанием: «Я хочу узнать…» или «Я сомневаюсь, что…», – однако это не приведет к сближению различных языковых игр.
Важность подобных возможностей преобразования, например, превращения всех утверждений в предложения вида «Я думаю» или «Я верю» (то есть тем самым в описания моего душевного состояния) станет яснее в другом месте. (Солипсизм.)
25. Иногда слышишь, что животные не говорят, поскольку им недостает умственных способностей. Это означает: «Они не думают и именно поэтому не говорят». Но на самом деле они просто не говорят. Или, точнее: они не пользуются языком – если мы исключим наиболее примитивные формы языка. – Приказывать, спрашивать, рассказывать, болтать – в той же степени часть нашей естественной истории, что и ходьба, еда, питье, игра.
26. Думают, что изучение языка состоит в именовании предметов. То есть: людей, форм, цветов, болезней, настроений, чисел и т. д. Повторимся – именование схоже с наклеиванием ярлыков. Можно сказать, что оно предваряет употребление слова. Но к чему оно подготавливает?
27. «Мы именуем предметы и затем говорим о них, можем ссылаться на них в разговоре». – Как если бы наши дальнейшие действия заданы простым поименованием. Как если бы все сводилось лишь к «разговору о предметах». На самом деле наши действия с предложениями чрезвычайно разнообразны. Возьмем сугубо восклицания, с их совершенно различными функциями.
Воды!
Прочь!
Ой!
Помогите!
Пожар!
Нет!
Ты еще склонен характеризовать эти слова как «имена объектов»?
В языках (2) и (8) не предусмотрено вопросов о том, что как называется. Именование, вместе с его коррелятом, наглядным определением, можно сказать, является самостоятельной языковой игрой. Это означает следующее: нас воспитывают, учат спрашивать: «Как это называется?» – и в ответ звучит имя. Также существует и языковая игра изобретения имен; следовательно, мы говорим: «Это…» и затем используем новое имя. (Так, например, дети дают имена своим куклам и затем говорят о них и с ними. Подумайте в этой связи, насколько своеобразно употребление имени человека, когда мы к нему обращаемся!)
28. Теперь можно наглядно определить имя собственное, название цвета, название материала, имена чисел, сторон света и так далее. Определение числа два, «Это называется “два”» – с указанием на два ореха, – является безукоризненно точным. – Но каким образом можно определить два само по себе? Человек, которому дается это определение, не знает, что именно другой называет «два»; он предполагает, что «два» есть имя, присвоенное данной группе орехов! – Он может так предположить, но, возможно, подумает иначе. Он может и совершить противоположную ошибку, приняв имя, которым я наделил эту группу орехов, за числительное. И схожим образом может принять имя человека, которому я даю наглядное определение, за название цвета, расы или даже стороны света. Иными словами: наглядное определение можно толковать различно в каждом случае.
29. Быть может, ты скажешь: «два» возможно определить наглядно лишь следующим образом – «Это число называют “два”». Слово «число» здесь показывает, какое место в языке, в грамматике мы отводим этому слову. Но это означает, что слово «число» должно быть объяснено, прежде чем станет понятным наглядное определение. – Слово «число» в определении на самом деле показывает место и роль, которые мы отводим данному слову. И можно предотвратить недоразумение, сообщив: «Этот цвет называют так-то», «Эту длину называют так-то» и так далее. То есть: недоразумения порой предотвращаются подобным образом. Но разве у слов «цвет» и «длина» всего один способ применения? – Что ж, они просто нуждаются в определении. – Значит, в описании посредством других слов! И что насчет последнего определения в этой цепочке? (Не говори: «Не существует последнего определения». Это все равно что сказать: «На этой улице нет последнего дома; всегда можно построить еще один».) Насколько слово «число» необходимо в наглядном определении, зависит от того, понимают ли без него другие это определение так, как хочется мне. А это будет зависеть от обстоятельств, при которых дается определение, и от человека, которому оно дается.
И то, как он «принимает» определение, отражается в употреблении им указанного слова.
30. Таким образом, можно сказать: наглядное определение объясняет употребление – значение – слова, когда полноценная роль этого слова в языке очевидна. То есть если я знаю, что некто хочет объяснить мне слово, обозначающее цвет, наглядного определения «Это называется сепия» будет достаточно для понимания. – И так можно говорить, пока мы помним о множестве проблем, связанным с выражениями «знать» и «быть очевидным».
Следует уже что-то знать (или быть в состоянии узнать), чтобы оказаться способным спросить об имени. Но что именно нужно знать?
31. Когда показывают кому-то шахматного короля и говорят: «Это король», человек не узнает способы использования фигуры – если только не изучил заранее правила игры вплоть до последнего пункта, формы фигуры. Можно допустить, что он изучил правила игры, никогда не наблюдая фигур воочию. Форма шахматной фигуры соответствует здесь звуку или форме слова.
Можно также допустить, что некто обучался игре, не изучая и не формулируя ее правила. Он, возможно, сначала освоил довольно простые настольные игры, наблюдая за другими игроками, а затем перешел к более сложным. Ему также можно было бы объяснить: «Это король», – если, например, показать одновременно шахматные фигуры непривычной формы. Это объяснение вновь учит его лишь пользоваться данной фигурой, поскольку, скажем так, место для нее уже подготовлено. Или даже так: мы скажем, что объяснение обучает его применению фигуры, если место уже подготовлено. И в данном случае все именно так не потому, что человек, которому мы объясняем, уже знает правила, но потому, что он уже освоил игру в другом смысле.
Рассмотрим дополнительный пример: я объясняю кому- то, как играть в шахматы, и начинаю с указания на шахматную фигуру и слов: «Это – король; он может ходить так…» и так далее. – В данном случае мы скажем: слова «Это король» (или «Эта фигура называется “король”») являются определением, только если обучающийся уже «знает», «что такое фигура в игре». То есть он уже играл в другие игры или наблюдал за другими людьми, которые играли, и «понял» – и тому подобное. Далее, лишь при этих условиях он будет в состоянии осмысленно спросить при изучении игры: «Как это называется?» – называется именно в игре.
Мы можем сказать: только тот, кто уже знает, что с этим делать, осмысленно спрашивает о названии.
И можно допустить, что человек, которого спрашивают, отвечает: «Подберите имя сами», – и тому, кто спросил, придется решать самостоятельно.
32. Посещая чужую страну, человек порой изучает язык местных жителей по наглядным определениям, которыми они делятся; и нередко ему приходится догадываться о значении этих определений; и догадки будут иногда верными, а иногда ошибочными.
Теперь, думаю, мы можем сказать: Августин описывает изучение естественного языка так, словно ребенок попал в чужую страну и не понимал, о чем говорят вокруг; то есть словно он уже владел языком, но другим. Или иначе: словно ребенок уже умел думать, но не умел говорить. И «думать» здесь означает что-то наподобие «разговаривать с собой».
33. Предположим, однако, что нам возразят: «Не верно, что вы уже должны овладеть языком, чтобы понять наглядное определение; все, что вам нужно – разумеется! – это знать или догадаться, на что указывает человек, дающий объяснение. Будь то, например, форма предмета, его цвет или число и так далее». – А что означает «указывать на форму» или «указывать на цвет»? Укажи на листок бумаги. – А теперь укажи на его форму – на цвет – на число (звучит нелепо). – Как ты это делаешь? – Скажешь, что «имел в виду» всякий раз нечто отличное. И если я спрошу, как это было сделано, ты ответишь, что сосредоточил внимание на цвете, форме и т. д. Но я спрашиваю снова: как это было сделано? Допустим, кто-то указывает на вазу и говорит: «Взгляните, какой восхитительный голубой цвет – форма не важна». – Или: «Взгляните на изумительную форму – цвет не имеет значения». Несомненно, в каждом случае вы сделаете в ответ на приглашение что-то отличное. Но всегда ли ты делаешь то же самое, когда обращаешь внимание на цвет? Представим различные случаи. Вот лишь некоторые: «Этот голубой такой же, как и тот? Вы видите разницу?» Ты смешиваешь краски и говоришь, что «трудно добиться синевы этого неба».
«Распогоживается, снова видно голубое небо».
«Видишь, эти два оттенка синего смотрятся различно». «Видите синюю книгу вон там? Принесите ее сюда». «Этот голубой сигнальный огонь означает…»
«Как называется этот оттенок синего? – Это “индиго”?» Порой обращают внимание на цвет, прикрывая рукой очертания формы, или не смотрят на очертания, или разглядывают предмет и стараются вспомнить, где видели этот цвет раньше.
Порой обращают внимание на форму, очерчивая ее контуры взглядом, или отводят взгляд и смотрят искоса, чтобы цвет не мешал восприятию, или многочисленными иными способами. Я хочу сказать: подобное происходит, когда человек «направляет внимание на то или на это». Но вовсе не эти способы сами по себе вынуждают нас говорить, что кто-то проявляет внимание к форме, цвет, и так далее. Схожим образом ход в шахматах состоит не просто в перемещении фигуры таким-то способом по доске – и не просто в мыслях и чувствах того, кто совершает этот ход: важны обстоятельства, которые мы называем «разыгрыванием шахматной партии», «решением шахматной задачи» и так далее.
34. Но предположим, что кто-то говорит: «Я всегда поступаю одинаково, когда проявляю внимание к форме: мой глаз следует за очертаниями, и я чувствую…» И предположим, что этот человек дает еще наглядное определение: «Это называется «круг», указывая на круглый объект и испытывая все эти ощущения, – разве тот, кто слышит, не в состоянии истолковать определение отлично, даже при том, что он видит, как взгляд другого следует очертаниям предмета, и даже при том, что он ощущает то же, что и говорящий? Иначе: это «истолкование» может также состоять в том, как он теперь применяет слово, например, на что указывает, когда его просят: «Укажите на круг». – Ибо ни выражение «применять определение так- то и так-то», ни выражение «интерпретировать определение так-то и так-то» не обозначают процесс, сопровождающий дефиницию и ее восприятие на слух.
35. Конечно, имеется то, что можно назвать «характерными ощущениями», скажем, при указывании на форму. К примеру, можно обводить пальцем контуры или следить взглядом за движением пальца. – Но это происходит далеко не во всех случаях, когда «подразумевают форму», и далеко не во всех случаях налицо какой-либо иной характерный процесс. – Кроме того, даже если что-то подобное и повторяется во всех случаях, это зависит от обстоятельств – то есть от того, что произошло прежде и произойдет после указания, – чтобы мы могли сказать: «Он указал на форму, а не на цвет».
Ведь выражения «указывать на форму», «обозначать форму» и так далее не употребляются таким же образом, как следующие: «указывать на эту книгу» (а не на ту), «указывать на стул, а не на стол» и так далее. – Только вообрази, сколь различно мы учимся употреблять выражения «указывать на этот предмет», «указывать на тот предмет», и, с другой стороны, «указывать на цвет, а не на форму», «обозначать цвет» и так далее.
Повторим: в определенных случаях, особенно когда указывают «на форму» или «на число», возникают характерные ощущения и способы указания – «характерные» потому, что они повторяются часто (но не всегда), когда форма или число «подразумеваются». Но известно ли тебе также о характерном переживании указания на фигуру в игре как на игровую фигуру? И все равно можно сказать: «Я подразумеваю, что эту фигуру называют королем, именно фигуру, а не тот кусок дерева, на который я указываю». (Узнавать, желать, запоминать и т. д.)
36. И здесь мы поступаем так же, как во множестве подобных случаев: поскольку мы не состоянии выделить конкретное телесное действие, которое называлось бы указанием на форму (в противовес, например, указанию на цвет), мы говорим, что соответствует этим словам духовное [умственное, интеллектуальное] действие.
Где наш язык предполагает тело и где оно отсутствует, там, можно сказать, есть дух.
37. Каково отношение между именем и именованным? – Что ж, каково оно? Рассмотрим языковую игру (2) или другую: там обнаруживается, в чем состоит это отношение. Это отношение может также состоять, среди многого прочего, и в том, что, услышав какое-либо имя, наше сознание рисует себе картину именуемого; и также состоит вдобавок в том, что имя написано на именуемом предмете или произносится, когда указывают на предмет.
38. Но именем чего выступает, например, слово «этот» в языковой игре (8) или слово «это» в наглядном определении «это называется…»? – Если не хотите сбить с толку, лучше всего вообще не называть эти слова именами. – И все же, как ни странно, слово «этот» названо единственным на свете подлинным именем; а все прочее, что мы называем именами, является таковыми лишь в неточном, приблизительном смысле.
Эта причудливая точка зрения возникла из стремления сублимировать логику нашего языка – если можно так выразиться. Надлежащий ответ таков: мы называем «именами» самые разные слова; само слово «имя» употребляется во множестве способов, которые совершенно различно соотносятся друг с другом; – но среди них отсутствует употребление слова «этот».
В общем-то, верно, что, предоставляя наглядное определение, например, мы часто указываем на именуемый объект и называем имя. И точно так же, предоставляя наглядное определение, к примеру, мы произносим слово «это» одновременно с указанием на предмет. И слово «это», и имя часто занимают одно и то же положение в предложении. Но сугубо характерно для имени, что оно определяется посредством указания «Это N» (или «Это называется “N”»). Однако разве мы даем определения: «Это называется “это”» или «Это называется “этот”»? Налицо связь с пониманием именования как, если можно так выразиться, некоего таинственного процесса. Именование проявляется как причудливая связь слова с объектом. – И на самом деле осознаешь эту причудливую связь, когда философ пытается выявить отношение между именем и предметом, глядя на объект перед ним и повторяя имя или даже слово «это» бессчетное количество раз. Ведь философские проблемы возникают, когда язык пребывает в праздности. И в данном случае мы вполне можем представить себе именование как некое чудесное действие рассудка, словно крещение объекта. А еще мы можем применить слово «это» к объекту, как бы обращаясь к объекту как к «этому» – странное использование слова, несомненно присущее исключительно философии.
39. Но почему возникает желание превратить конкретное слово в имя, когда оно очевидно не является именем? – Причина в следующем. Человек поддается искушению опровергнуть обычное восприятие имени. Можно сказать так: имя на самом деле должно обозначать нечто простое. И этому возможно привести такие обоснования. Слово «Нотунг», скажем, является подлинным именем собственным. Меч Нотунг состоит из частей, соотнесенных между собой особым способом. Если их соединить иначе, Нотунг исчезнет. Но ясно, что предложение «У Нотунга острое лезвие» имеет смысл независимо от того, цел ли Нотунг или сломан. Но если «Нотунг» – имя объекта, этот объект перестает существовать, когда Нотунг ломают на части; и поскольку никакой объект уже не сопоставлен имени, оно утратит значение. Но тогда предложение «У Нотунга острое лезвие» содержит слово, которое лишено значения, а следовательно, само предложение не имеет смысла. Однако оно имеет смысл; значит, должно быть нечто, всегда соответствующее словам, из которых состоит предложение. Таким образом, слово «Нотунг» должно исчезать при анализе смысла, а его место займут слова, именующие нечто простое. Разумно назвать эти слова подлинными именами.
40. Давай для начала обсудим это положение нашего довода: слово не имеет значения, если ему ничто не соответствует. – Важно отметить, что слово «значение» используется вопреки нормам языка, если его употребляют, чтобы обозначить нечто, «соответствующее» слову. Иначе: обозначение имени смешивают с носителем имени. Когда г-н N. N. умирает, говорят, что умер именно носитель имени, а не значение. И бессмысленно утверждать второе, ведь если бы имя утратило значение, не имело бы смысла говорить «Г-н N. N. умер».
41. В § 15 мы ввели имена собственные в язык (8). Теперь предположим, что инструмент с именем «N» сломался. Не зная этого, A подает Б знак «N». Имеет ли в данном случае этот знак какое-либо значение? – И что делать Б, когда он получает этот знак? – Мы не решили, как тут быть. Можно было бы спросить: что Б сделает? Что ж, возможно, он будет стоять в растерянности или покажет А обломки. Здесь могут сказать: «N» утратило значение, и это выражение следует понимать так, что знак «N» невозможно дальше употреблять в нашей языковой игре (если мы не дадим ему новое значение). «N» также мог утратить значение, поскольку, по любой причине, инструменту дали другое имя, и знак «N» больше не используется в языковой игре. – Но можно представить и некое соглашение, по которому Б качает головой, когда A просит подать сломанный инструмент. – Тем самым приказ «N», можно сказать, вновь обретает место в языковой игре, пусть инструмент больше не существует, и знак «N» имеет значение, даже когда носитель этого имени прекращает существование.
42. Но имеет ли значение в языковой игре имя, которое, например, никогда не использовалось для инструмента? – Допустим, что «X» – именно такой знак и что A подает этот знак Б – что ж, даже для подобных знаков найдется место в языковой игре, и Б, возможно, придется ответить на них снова покачиванием головы. (Можно счесть это принятой между ними шуткой.)
43. Для большого класса случаев – хотя и не для всех, – в которых мы используем слово «значение», его можно определить так: значение слова – это его употребление в языке.
А значение имени порой объясняется указанием на его носителя.
44. Мы сказали, что предложение «У Нотунга острое лезвие» имеет смысл, даже если Нотунг расколот на части. Это так, потому что в данной языковой игре имя используется и в отсутствие его носителя. Но можно вообразить языковую игру с именами (то есть со знаками, которые, конечно, следует причислять к именам), в которой имена употребляются лишь при наличии носителя; следовательно, их всегда можно заменить указательным местоимением в сочетании с указующим жестом.
45. Указательное «этот» невозможно использовать без носителя имени. Можно сказать: «Пока существует некий этот, имеет значение и слово “этот”, будь этот простым или сложным». – Но это не превращает слово в имя. Напротив: ведь имя не используется с указующим жестом, лишь объясняется его посредством.
46. Что лежит в основании идеи, будто имена на самом деле обозначают нечто простое?
Сократ говорит в «Теэтете»: «Если не ошибаюсь, доводилось слышать, что некоторые люди говорят: нельзя объяснить первичные элементы – скажу так, – из которых состоим мы сами и все остальное; ведь все, что существует само по себе, можно лишь назвать, никакое другое определение невозможно, нельзя сказать, что оно есть и чем не является… Но то, что существует само по себе, следует. именовать без всякого дальнейшего определения. Следовательно, невозможно поведать о любом первичном элементе; ибо оно – только имя и ничего более; имя – все, чем оно обладает. Но как то, что состоит из этих первоначал, является сложным, так и имена элементов становятся описательным языком, если их объединить. Ведь сущность речи – составление имен.»
И «индивидуалии» Рассела, и мои «позиции» («Логикофилософский трактат») были такими первичными элементами.
47. Но каковы простые части, из которых состоит действительность? – Каковы простые части стула? – Это куски дерева, из которых он собран? Или молекулы, или атомы? – «Простой» означает: не являющийся составным. И тут важно вот что: в каком смысле «составным»? Совершенно бессмысленно рассуждать о «простых частях стула».
И снова: состоит ли из частей мое зрительное представление этого дерева, этого стула? И каковы его простые составные части? Многоцветность – лишь один вид сложности; другим видом, к примеру, является ломаный контур из прямых отрезков. А о кривой можно сказать, что она составлена из восходящих и нисходящих сегментов.
Если я говорю кому-то, не вдаваясь в объяснения: «То, что я вижу перед собой, является составным», он вправе спросить: «Что вы подразумеваете под “составным”? Ведь это может означать что угодно!» – Вопрос «Является ли составным то, что ты видишь?» приобретает смысл, только если уже определено, о каком виде сложности – то есть о каком сугубом употреблении данного слова – идет речь. Если было принято, что зрительный образ дерева называется «сложным», когда мы видим не один ствол, но и ветви, то вопрос: «Является ли зрительный образ этого дерева простым или сложным?» и вопрос: «Каковы его простые составные части?» очевидно имеют ясный смысл – ясное употребление. И конечно, ответом на второй вопрос будет не: «Ветки» (это ответ на грамматический вопрос: «Что тут называется простыми составными частями?»), а скорее, описание отдельных ветвей.
А разве шахматная доска, например, не является очевидно и безусловно составной? – Ты, вероятно, полагаешь, что в ней сочетаются тридцать две белые и тридцать две черные клетки. Но мы могли бы сказать, к примеру, что она составлена из черного и белого цветов и сетки квадратов. И поскольку на нее можно смотреть под совершенно различными углами зрения, ты все еще утверждаешь, что шахматная доска безусловно «составная»? – Спрашивать: «На самом ли деле данный объект составной?» вне рамок конкретной языковой игры – все равно, что уподобиться мальчику, которого однажды попросили ответить, в каком залоге выступают глаголы в таких-то и таких-то предложениях, в активной или пассивной форме, а он крепко задумался над тем, означает ли глагол «спать» активное или пассивное действие.
Мы употребляем слово «составной» (и следом за ним слово «простой») огромным числом разнообразных и все же в известной степени родственных способов. (Прост ли цвет клетки на шахматной доске или он состоит из чистого белого и чистого желтого цветов? И прост ли белый или он состоит из цветов радуги? – Прост ли отрезок длиной 2 см или он состоит из двух частей, каждый длиной в 1 см? Но почему не из отрезка в 3 см и другого в 1 см, отложенных в противоположных направлениях?)
На философский вопрос: «Является ли сложным зрительный образ этого дерева и каковы его составные части?» правильным ответом будет: «Зависит от того, что понимать под “сложным”». (И это, конечно, не ответ, а отклонение вопроса.)
48. Применим метод из § 2 к отрывку из «Теэтета». Представим себе языковую игру, в которой содержание этого отрывка имеет смысл. Язык служит для описания комбинаций цветных квадратов на поверхности. Квадраты образую сетку, как на шахматной доске. Тут имеются красные, зеленые, белые и черные квадраты. Слова языка (соответственно) будут «К», «З», «Б» и «Ч», и предложения – ряды этих слов. Они описывают расположение квадратов в следующем порядке:

Значит, например, предложение ККЧЗЗЗКББ будет описывать такое расположение:
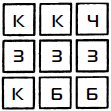
Здесь предложение выступает комплексом имен, которым соответствует комплекс элементов. Первичные элементы – цветные квадраты. «Но просты ли они?» – Я не знаю, что можно назвать более «простым», что было бы более естественным в данной языковой игре. Но при иных обстоятельствах я бы назвал одноцветный квадрат «сложным», состоящим, быть может, из двух прямоугольников или из элементов цвета и формы. Однако понятие сложности можно также распространить столь широко, что и меньшую область назовут «состоящей» из большей области и той, которая из нее вычитается. Сравните «сложение» сил и «деление» прямой точкой, расположенной вне ее; эти выражения показывают, что мы порой склонны воспринимать меньшее как результат составления больших частей, а большее как результат деления меньшего. Но я не знаю, следует ли говорить, что сетка, описанная в нашем предложении, состоит из четырех или из девяти элементов! А само предложение состоит из четырех букв или из девяти? – И каковы именно его элементы: типы букв или же буквы? Не важно, что мы выберем, пока удается избегать недоразумений в каждом конкретном случае.
49. Но что означает говорить, что мы не можем определить (то есть, описать) эти элементы, можем их лишь назвать? Это могло бы означать, например, что когда, в предельном случае, комплекс состоит всего из одного квадрата, его описание является просто именем этого цветного квадрата.
Здесь мы могли бы сказать – хотя это легко порождает все возможные философские суеверия, – что знак «К» или «Ч» и т. д. иногда выступает как слово, а иногда – как суждение. Но «является ли он словом или суждением» зависит от ситуации, в которой его произносят или записывают. Например, если A должен описать сочетания цветных квадратов Б и он употребляет слово «К» отдельно, мы в состоянии сказать, что слово является описанием – суждением. Но если он запоминает слова и их значения, или если он учит кого-то еще употреблять эти слова методом наглядного обучения, то мы не можем утверждать, что они выступают как суждения. В данной ситуации слово «К», к примеру, не является описанием; оно называет элемент, но было бы странно на основании этого заключать, что элемент может быть только поименован! Ведь обозначение и описание находятся на разных уровнях: обозначение есть подготовка к описанию. Обозначение – еще не ход в языковой игре, как и расстановка фигур на шахматной доске не является собственно ходом. Можно сказать: когда нечто поименовано, еще ничего не сделано. Это нечто даже имя получило лишь в рамках языковой игры. Это, кстати, имел в виду Фреге, когда говорил, что слово имеет значение только в составе предложения.
50. Что значит говорить, что мы не можем приписать элементам ни бытие, ни небытие? – Можно заметить: если все, что мы называем «бытием» и «небытием», состоит из существования и несуществования связей между элементами, не имеет смысла рассуждать о бытии (небытии) элемента; точно так же если все, что мы называем «разрушением», заключается в разделении элементов, нет смысла говорить о разрушении элемента.
Можно было бы, однако, сказать: бытие нельзя приписать элементу, поскольку, если бы он не существовал, невозможно было бы даже его поименовать, а значит, что-либо вообще о нем сказать. – Но рассмотрим аналогичный случай. Есть нечто, о чем нельзя сказать ни то, что оно длиной один метр, ни что оно длиной не один метр, и это парижский метровый эталон. – Но это, разумеется, не означает приписывать некие особые свойства, мы лишь отмечаем особую роль эталона в языковой игре измерений в метрах. – Представим теперь, что образцы цвета хранятся в Париже вместе с метровым эталоном. Мы определяем: «сепия» означает эталонный цвет сепии, хранимый в герметично запечатанном помещении. И тогда лишено смысла рассуждать, что данный образец имеет или не имеет этот цвет.
Мы можем выразить это так: данный образец – инструмент языка, используемого при описании цвета. В этой языковой игре он выступает не как то, что представляется, но как средство представления. – И это применимо и к элементу языковой игры (48), когда мы именуем его, произнося слово «К»: тем самым объект получает роль в нашей языковой игре и становится средством представления. И говорить: «Если его не существовало, у него не было бы имени», все равно что утверждать: если бы нечто не существовало, мы не могли бы использовать его в нашей языковой игре. – То, что выглядит необходимо существующим, является частью языка. Такова парадигма нашей языковой игры, основа, посредством которой происходит сравнение. И, быть может, это важно отметить; тем не менее это касается лишь конкретной языковой игры – нашего способа представления.
51. В описании языковой игры (48) я сказал, что слова «К», «Ч» и т. д. соответствуют цветам клеток. Но в чем проявляется это соответствие; в каком смысле можно говорить, что конкретные цвета клеток соответствуют этим знакам? Ведь определение в (48) просто устанавливает связь между этими знаками и конкретными словами нашего языка (названия цветов). – Что ж, предполагалось, что употреблению знаков в языковой игре можно научить иначе, в частности, указанием на образцы. Пусть так; но что означает утверждать, что в практике использования языка определенные элементы соответствуют знакам? – Значит ли это, что человек, описывающий сочетания цветных клеток, всегда скажет «К» относительно красного квадрата, «Ч» относительно черного и так далее? Но если он ошибется в описании и по ошибке скажет «К» относительно черного квадрата – по какому критерию это будет расценено как ошибка? – Или же обозначение через «К» красного квадрата заключается в том, что люди, пользующиеся этим языком, всегда, употребляя знак «К», представляют себе красный квадрат?
Чтобы лучше понять, тут, как и в бесчисленных подобных случаях, мы должны сосредоточиться на деталях происходящего; рассмотреть их вблизи.
52. Если я склонен предполагать, что мышь появляется на свет, самозарождаясь из грязных тряпок и пыли, мне следует тщательно изучить эти тряпки, чтобы выяснить, где в них пряталась мышь, как она туда забралась и так далее. Но если я убежден, что мышь не может родиться от тряпок, тогда подобное исследование, вероятно, будет излишним.
Но сначала мы должны научиться понимать, что противостоит в философии таким тщательным исследованиям.
53. В нашей языковой игре (48) имеются различные возможности; во множестве случаев мы скажем, что знак в игре был именем квадрата такого-то и такого-то цвета. Мы скажем так, например, доведись нам узнать, что людей, пользующихся этим языком, учили употреблять знаки таким-то и таким-то способом. Или если записано, допустим, в форме таблицы, что данный элемент соответствует такому-то знаку, а сама таблица использовалась при обучении языку и к ней обращались в ряде спорных случаев. Можно также представить, что подобная таблица служит инструментом языковой практики. Описание комплекса тогда происходит следующим образом: человек, описывающий комплекс, сверяется с таблицей, отыскивает в ней каждый элемент комплекса и находит соответствующие знаки (а тот, кому дается описание, также может использовать таблицу для преображения описания в картину цветных квадратов). Об этой таблице можно заметить, что здесь она играет ту роль, какую в иных случаях исполняют память и ассоциации. (Обычно мы не выполняем просьбу: «Принеси мне красный цветок», находя красный в таблице цветов и затем отыскивая цветок такого цвета; но когда нужно подобрать или смешать особый оттенок красного, мы на самом деле используем порой образец или таблицу.)
Если назвать такую таблицу выражением правила языковой игры, можно сказать: то, что мы называем правилом языковой игры, способно выполнять в игре различные роли.
54. Вспомним случаи, когда говорят, что в игру играют по определенному правилу.
Правило может быть советом при обучении игре. Обучающемуся дают совет и позволяют проверить его на практике. – Или же оно само может оказаться инструментом игры. – Или же правило не применяется ни при обучении, ни непосредственно в игре и не включено в список правил. Человек учится играть, наблюдая, как играют другие. Но мы говорим, что игра ведется согласно таким- то и таким-то правилам, поскольку наблюдатель может изучить эти правила из игровой практики – как естественный закон, управляющий игрой. – Но как в данном случае наблюдателю выделить ошибки игроков и правильные ходы? – Имеются характерные признаки в поведении игроков. Подумайте о такой характерной особенности, как исправление оговорки в языке. Вполне возможно понять, что некто делает это, даже, не зная их языка.
55. «То, что обозначают имена языка, не подвержено разрушению; ведь должна быть возможность описать положение дел, при котором уничтожено все разрушимое. И это описание будет содержать слова; а то, что соответствует им, не может поэтому быть уничтожено, так как иначе слова лишатся значения». Не следует пилить сук, на котором я сижу.
Можно было бы, конечно, сразу возразить, что этому описанию придется исключить себя из разрушения. – Но что соответствует отдельным словам описания и потому не может быть уничтожено, если это верно, – именно то, что наделяет слова значением – то, без чего у них не было бы никакого значения. В некотором смысле, однако, данный человек безусловно соответствует своему имени. Но он разрушим, а его имя не утрачивает значение, когда носитель гибнет. – Примером соответствия имени, без которого оно не будет иметь значения, может служить парадигма, которая используется в связи с именем в языковой игре.
56. Но что, если никакой образец не является частью языка, и мы лишь держим в памяти цвет (например), который обозначает данное слово? – «А если мы держим его в памяти, он возникает перед нашим мысленным взором всякий раз, когда мы произносим слово. Значит, если предполагается, что мы всегда его помним, этот цвет сам по себе должен быть неуничтожимым». – Но что мы берем как критерий правильности воспоминаний? – Когда мы опираемся на образец, а не на память, при определенных обстоятельствах мы говорим, что образец изменил цвет и судим об этом по памяти. Но разве нельзя порой говорить о помутнении (например) образа в памяти? Разве мы не полагаемся на свою память в той же мере, что и на образец? (Ведь кто-то наверняка захочет сказать: «Не будь у нас памяти, мы бы отдались на милость образцов».) – Или взять какую-нибудь химическую реакции. Допустим, вам нужно изобразить конкретный цвет «C», который возникает, когда происходит реакция химических веществ X и Y. – Допустим, в один день этот цвет кажется тебе светлее, чем в другой; разве ты не скажешь: «Я, верно, ошибаюсь, цвет, конечно, тот же самый, что и вчера»? Это показывает, мы не всегда опираемся на свидетельства памяти как на решения высшей и окончательной инстанции.
57. «Нечто красное может быть разрушено, но краснота не может быть уничтожена, и именно поэтому значение слова “красный” не зависит от бытия красного предмета». – Конечно, не имеет смысла говорить, что красный цвет разорван или разбит вдребезги. Но разве мы не говорим: «Краснота исчезает»? И не цепляйся за мысль о том, что мы всегда можем вызвать красное перед своим мысленным взором, даже когда ничего красного не осталось. Это как сказать, что всегда будет химическая реакция, порождающая красное пламя. – Допустим, ты уже не в силах вспомнить цвет, что тогда? – Когда мы забываем, какой цвет обозначает это имя, оно утрачивает для нас значение; то есть мы больше не в состоянии играть с ним в особую языковую игру. И сложившаяся ситуация сопоставима с той, когда мы теряем парадигму, инструмент нашего языка.
58. «Я хочу ограничить понятие “имя” лишь теми словами, которые не могут встретиться в сочетании “X существует”. – То есть, нельзя сказать: “Красное существует”, потому что, не будь никакой красноты, о ней вообще нельзя было бы говорить». – Точнее: если «X существует» должно просто выражать, что «X» имеет значение, – тогда это не суждение, которое рассматривает «X», а суждение относительно нашего употребления языка, а именно, об употреблении слова «X».
Кажется, будто мы сообщаем нечто о природе красного, когда говорим, что слова «Красное существует» лишены смысла. А именно, что красное существует на самом деле и «в своем праве». И та же идея – что это суждение является метафизическим утверждением о красном – находит новое выражение, когда мы говорим следующее: красное существует вне времени и, возможно, еще сильнее, – «неуничтожимо».
Но в действительности мы хотим просто принять «Красное существует» как утверждение: слово «красное» имеет значение. Или лучше так: «Красное не существует» как «Красное не имеет значения». Мы лишь хотим подчеркнуть, не что данное выражение говорит об этом, но что это оно должно утверждать, означай оно хоть что-нибудь. Что, пытаясь говорить об этом, оно противоречит само себе – поскольку красное существует «в своем праве». Между тем единственное противоречие заключено в чем-то наподобие вот этого: суждение выглядит так, будто говорит о цвете, но предполагается, что оно должно сообщать нечто об употреблении слова «красное». – На самом деле мы вполне охотно говорим, что существует конкретный цвет; и это все равно что подтверждать существование чего-то, имеющего этот цвет. И первое выражение не менее точно, нежели второе; в особенности там, где «то, у чего есть цвет» не является физическим объектом.
59. «Имя обозначает лишь то, что является элементом реальности. То, что не может быть уничтожено; что остается тем же самым при всех переменах». – Но что же это? – Да ведь оно витало перед нашими глазами, когда мы произносили предложение! Это самое выражение особого зрелища: особой картины, которую мы хотим использовать. Ибо, разумеется, опыт не показывает нам эти элементы. Мы видим составные части чего-то сложного (стула, например). Мы говорим, что спинка – часть стула, но, в свою очередь, она состоит из нескольких кусков дерева, в то время как ножка – простая составная часть. Мы также видим целое, которое меняется (разрушается), а его составные части при этом остаются неизменными. Они – материал, из которых мы создаем картину реальности.
60. Когда я говорю: «Моя метла в углу» – неужели это утверждение о черенке и прутьях? Что ж, его, во всяком случае, можно заменить утверждением о положении черенка и положении прутьев. И безусловно это утверждение является проанализированной формой первого. – Но почему я называю его «проанализированным»? – Что ж, если метла имеется в наличии, это неоспоримо означает, что черенок и прутья тоже наличествуют и находятся в особом отношении к друг другу; и это отношение кроется в значении первого предложения и выражено в проанализированном предложении. Значит, тот, кто говорит, что метла стоит в углу, на самом деле подразумевает: там стоят черенок и прутья, и прутья прикреплены к черенку? – Спроси мы кого-либо, имел ли он в виду это, нам, вероятно, ответят, что нисколько не задумывались отдельно о черенке и отдельно о прутьях. И это будет правильный ответ, ведь этот человек не собирался говорить ни о черенке, ни о прутьях по отдельности. Предположим, вместо просьбы: «Принеси мне метлу», вы скажете: «Принеси мне черенок и прутья, которые к нему прикреплены». Ответом наверняка будет: «Тебе нужна метла? Почему ты так странно выражаешься?» – Лучше ли собеседник поймет проанализированное предложение? – Это предложение, можно сказать, достигает того же, что и обычное, но более обстоятельным способом. – Вообразим языковую игру, в которой кому-то приказывают принести те или иные предметы, состоящие из нескольких частей, переместить их или сделать еще что-то подобное. Есть два способа сыграть: в одном (a) сложные объекты (метлы, стулья, столы и т. д.) наделены именами, как в (15); в другом (b) имена носят лишь части, а целое описывается их посредством. – В каком смысле просьба во второй игре будет проанализированной формой просьбы из первого случая? Неужели вторая просьба заключена в первой и выявляется при анализе? – Верно, метла разнимается на части, если отделить черенок от прутьев; но следует ли отсюда, что просьба принести метлу тоже состоит из составных частей?
61. «Но все равно ты не станешь отрицать, что просьба (a) означает то же самое, что и просьба (b); и как ты назовешь вторую, если не проанализированной формой первой?» – Конечно, я тоже скажу, что просьба (a) имеет одинаковое значение с (b); или, как я выразил это ранее: они достигают одного и того же. И это означает, что если мне покажут просьбу (a) и спросят: «Значит ли просьба (b) то же самое?» или, иначе: «Какой просьбе вида (b) это противоречит?», я должен буду дать такой-то и такой-то ответ. Но отсюда вовсе не следует, что мы пришли к общему согласию относительно употребления выражения «иметь одинаковое значение» или «достигать того же самого». Ведь можно спросить, в каких случаях мы говорим: «Это просто две формы одной и той же игры».
62. Предположим, например, что человек, которого просят в (a) и (b), должен свериться с таблицей, сопоставляющей имена и образы, прежде чем принести требуемое. Делает ли он то же самое, когда выполняет просьбу (a) и когда – просьбу (b)? – Да и нет. Можно сказать: «Суть обеих просьб та же самая». Я бы сказал именно так. – Но не всегда ясно, что следует называть «сутью» просьбы. (Сходным образом о некоторых предметах можно сказать, что они служат той или иной цели. Существенно то, что вот это – лампа, что она дает свет; а то, что она украшает собой комнату, заполняет пустое место и т. д., не существенно. Но далеко не всегда можно провести строгое различие между существенным и несущественным.)
63. Однако, говоря, что предложение (b) есть «проанализированная» форма высказывания (a), мы охотно поддаемся соблазну счесть первое более фундаментальной формой; решить, будто оно показывает, что подразумевает другое, и так далее. Например, мы мыслим: если располагаешь лишь непроанализированной формой, ощущаешь недостаток анализа; но располагая проанализированной формой, ты обладаешь всем. – Но разве я не могу сказать, что в обоих случаях утрачивается та или иная сторона дела?
64. Представим, что мы изменили языковую игру (48) таким образом, чтобы имена означали не одноцветные квадраты, но прямоугольники, каждый из которых состоит из двух подобных квадратов. Назовем прямоугольник, который наполовину красный и наполовину зеленый, «У»; тот, который наполовину зеленый и наполовину белый, – «Ф»; и так далее. Разве нельзя представить людей, способных подобрать имена таким сочетаниям цветов, но не каждому цвету по отдельности? Вспомни случаи, когда мы говорим: «У этого сочетания цветов (скажем, у французского триколора) особый характер».
В каком смысле символы этой языковой игры нуждаются в анализе? Насколько вообще возможно заменить эту языковую игру игрой (48)? – Это всего-навсего другая языковая игра; даже при том, что она родственна игре (48).
65. Здесь мы наталкиваемся на большой вопрос, стоящий за всеми этими соображениями. – Ведь мне могут возразить: «Вы выбираете легкий путь! Вы рассуждаете о всевозможных языковых играх, но нигде не сказали, в чем суть языковой игры, а следовательно, языка; что общего у всех этих действий, что превращает их в язык или в часть языка. То есть вы уходите от той части исследования, которая некогда вызывала самые серьезные затруднения, от исследования общей формы суждений в языке».
И это верно. – Вместо того, чтобы выделить нечто общее для того, что мы называем языком, я говорю, что у этих явлений нет ничего общего, способного побудить нас употреблять для них одно и то же слово. – Однако они связаны друг с другом различными способами. И именно из-за этой связи, или этих связей, мы все их называем «языком». Я попытаюсь объяснить.
66. Рассмотрим, к примеру, состязания, которые называются «играми». Я имею в виду настольные игры, карточные игры, игры с мячом, Олимпийские игры и так далее. Что общего у них всех? – Не говорите: «Тут должно быть что-то общее, иначе их не назвали бы «играми»», – но приглядитесь и попытайтесь найти это общее. – Ибо если присмотреться к ним, не увидишь ничего общего, только подобия, связи и целый ряд таких отношений. Повторюсь: не думайте, но смотрите! – Присмотрись, например, к настольным играм с их многообразными отношениями. Теперь карточные игры; здесь много сходного с играми первой группы, но отдельные общие черты исчезают, а другие возникают. А когда мы переходим к играм с мячом, и многое общее сохраняется, но многое и теряется. – Все ли они «забавны»? Сравним шахматы с игрой в крестики и нолики. Всегда ли налицо выигрыш и проигрыш и состязание между игроками? Подумай о терпении. В играх с мячом побеждают и проигрывают; но когда ребенок бросает мяч в стену и ловит снова, эта черта пропадает. Взглянем на роль навыков и удачи и на различие в навыках между шахматистом и теннисистом. Теперь подумай об играх наподобие хоровода; тут есть элемент развлечения, но сколько других характерных черт исчезло! И можно перебрать многие и многие группы игр сходным образом; и увидеть, как общие черты неожиданно возникают и исчезают.
Итог этого выяснения таков: мы видим сложную сеть подобий, накладывающихся на и перекрывающих друг друга; иногда имеется полное сходство, а иногда – лишь в деталях.
67. Я не могу придумать лучшего выражения, чтобы характеризовать эти подобия, чем «семейное сходство»; ведь различные черты среди членов одной семьи: телосложение, черты лица, цвет глаз, походка, характер и т. д. и т. п. накладываются на и перекрещиваются во многом тем же образом. – И я скажу: «игры» образуют семью. Кстати, и виды чисел, например, образуют семью. Почему мы называем нечто «числом»? Что ж, потому, возможно, что оно состоит в – прямых – отношениях со многим, что уже было названо числом; и это, можно сказать, устанавливает косвенные отношения с другим, что мы называем тем же именем. И мы расширяем наше представление о числе, как если бы, прядя нить, сплетали волокно с волокном. Крепость нити зависит вовсе не от того, что одно из волокон тянется по всей ее длине, но от того, что многие волокна переплетаются.
Но если кто-то захочет сказать: «Есть кое-что общее у всех этих построений – а именно, дизъюнкция всех этих совокупностей», – я отвечу: вы попросту играете словами. Можно ведь сказать и так: «Что-то тянется по всей длине нити – а именно, непрерывное переплетение этих волокон».
68. «Хорошо: для тебя понятие числа определяется как логическая сумма этих отдельных взаимосвязанных понятий – кардинальные числа, рациональные числа, действительные числа и т. д.; и сходным образом понятие игры предстает логической суммой соответствующего набора частных понятий». – Совсем не обязательно. Ведь я могу задать понятию «число» жесткие рамки, то есть употреблять слово «число» для строго ограниченного понятия; но также я могу употреблять его так, чтобы расширению понятия не препятствовали никакие границы. И именно так мы употребляем слово «игра». Ведь на чем основывается понятие игры? Что по-прежнему считается игрой, а что – нет? Ты можешь установить границу? Нет. Ты можешь провести линию, ибо до сих пор не проведено еще ни одной. (Но это не доставляло вам неудобств раньше, когда вы употребляли слово «игра».)
«Но тогда употребление слова не регулируется, и “игра”, в которую мы играем с этим словом, тоже не регулируется». – Употребление слова не повсеместно ограничено правилами; но и в теннисе не больше правил относительно того, как высоко подбрасывать мяч и с какой силой по нему бить; и все же теннис – игра со своими правилами.
69. Как объяснить кому-то, что такое игра? Полагаю, мы должны описать ему игры и потом добавить: «Эти и подобные явления называются играми». И сами мы намного ли больше знаем об играх? Или лишь другим людям мы не способны в точности объяснить, что такое игра? – Это не невежество. Мы не ведаем границ, поскольку ни одна до сих пор не установлена. Повторюсь: можно провести границу – для конкретной цели. Необходимо ли это, чтобы употреблять понятие? Нисколько! (За исключением особых случаев.) В той же степени, что и определение: 1 шаг = 75 см, чтобы ввести в употребление меру длины «один шаг». И если ты хочешь сказать: «Тем не менее раньше эта мера не была точной», я отвечу: очень хорошо, она была неточной. – Между прочим, с тебя еще определение точности.
70. «Но если понятие “игры” лишено границ таким вот образом, выходит, ты на самом деле не знаешь, что подразумеваешь под словом “игра”». Когда я даю описание: «Земля была устлана растениями» – ты хочешь сказать, что я не буду знать, о чем говорю, пока не смогу привести определение растения?
Что я имею в виду, можно объяснить, скажем, рисунком, и словами «Земля выглядит примерно вот так». Возможно, я даже скажу: «выглядит в точности вот так». – Тогда, значит, там были именно эта трава и эти листья, как нарисованные? Нет, не значит. И я не должен принимать никакой рисунок как совершенно точный в этом смысле.
71. Могут сказать, что понятие «игры» – понятие с расплывчатыми границами. – «Но является ли расплывчатое понятие понятием как таковым?» – А будет ли мутная фотография изображением человека вообще? И всегда ли замена нечеткого образа четким – благо? Разве зачастую размытость не именно то, что нам требуется? Фреге сравнивает понятие с некоей очерченной областью и говорит, что область с неопределенными границами вообще не является областью. Это, по-видимому, означает, что нам она бесполезна. – Но бессмысленно ли говорить: «Встань приблизительно вон там»? Предположим, я стою с кем-то на городской площади и произношу это. При этом я не очерчиваю никаких границ, но, возможно, указываю рукой – словно обозначая конкретное место. И, похоже, можно объяснить, что такое игра. Человеку приводят примеры и добиваются, чтобы он понял нужным образом. – Этим я, однако, вовсе не подразумеваю, что он должен увидеть в примерах то общее, которое я – по некоторым причинам – не способен выразить; но теперь он должен применять те примеры соответственно. В данном случае приведение примеров не является косвенным средством объяснения – в отсутствие лучшего. Ведь любое общее определение тоже можно понять неправильно. Дело в том, что именно так мы играем в игру. (Я имею в виду языковую игру со словом «игра».)
72. Видение общего. Допустим, я показываю кому-то различные многоцветные картинки и говорю: «Цвет, который ты видишь на них на всех, называют “желтой охрой”». – Это определение, и другой человек должен его понять, разглядывая картинки и выискивая в них общее. Тогда он сможет взглянуть на это общее и указывать на него. Сравним это со случаем, когда я показываю ему фигуры разной формы, раскрашенные одним и тем же цветом, и говорю: «То, что у них общего, называется “желтой охрой”». И сравним с другим случаем: я показываю ему образцы различных оттенков синего и говорю: «Цвет, который присущ им всем, я называю синим».
73. Когда кто-то определяет для меня названия цветов, указывая на образцы и говоря: «Этот цвет называют синим, это зеленый…», данную ситуацию можно во многих отношениях сравнить с изучением таблицы, в которой образцам цвета соответствуют слова. – Впрочем, это сравнение может вводить в заблуждение. – Теперь позволим себе расширить сравнение: понять определение значит обрести в сознании представление определяемого предмета, то есть образец или картину. Так, если мне показывают всевозможные листья и говорят: «Это называется лист», я получаю представление о форме листа, и ее картина откладывается у меня в сознании. – Но как выглядит изображение листа, когда показывает не конкретную форму, а «общее для всех форм листьев»? Какой оттенок имеет «запечатленный в сознании образец» зеленого цвета – образец того, что является общим для всех оттенков зеленого?
«Возможно, существуют какие-либо “общие” образцы? Скажем, схема листа или образец чистого зеленого цвета?» – Конечно, возможно. Но чтобы схема стала понятна именно как схема, а не как особая форма листа, и чтобы полоска чисто зеленого цвета была признана общим для всего зеленого, а не образцом данного чисто зеленого цвета, – это, в свою очередь, зависит от способа применения образцов.
Спроси себя: какой формы должен быть образец зеленого цвета? Прямоугольной? Или тогда это будет образец зеленого прямоугольника? – Значит, он должен быть «нерегулярной» формы? И что тогда помешает нам воспринять его – то есть применять в этом качестве – лишь как образец неправильной формы?
74. Сюда также относится следующая мысль: если рассматривать данный лист как образец «общей формы листьев», ты будешь воспринимать его иначе, нежели тот, кто, скажем, видит в нем образец конкретной формы. И пусть так – хотя это не так, – это говорило бы, как свидетельствует опыт, только о том, что, видя лист особым образом, ты используешь его таким-то и таким-то способом или согласно таким-то и таким-то правилам. Конечно, существуют те и иные способы видения; и бывают случаи, когда тот, кто видит образец так, и применяет его так, а тот, кто видит по-другому, и применяет иначе. Например, если видишь на схеме изображение куба на плоскости как фигуры, состоящей из квадрата и двух ромбов, то, возможно, выполнишь просьбу: «Принеси мне что-то наподобие этого» отлично от человека, который видит изображение трехмерным.
75. Что означает знать, что такое игра? Что означает знать это и не быть в состоянии это сказать? Равнозначно ли это знание, так или иначе, несформулированному определению? И если оно будет сформулировано, я смогу опознать в нем выражение моего знания? Но разве мое знание, мое представление об игре не выражено полностью в объяснениях, которые я могу привести? То есть как я описываю различные типы игр, как показываю, каким образом конструируются по аналогии всевозможные виды других игр, говорю, что едва ли следует относить то- то и то-то к играм, и так далее.
76. Если кто-то намерен провести четкую границу, я могу не признать в ней ту, которую всегда желал провести сам или проводил мысленно. Ибо я вообще не хотел проводить границы. Значит, представление этого человека отлично от моего, но все же родственно. И родство тут такое же, как у двух картин, одна из которых состоит из цветных пятен с размытыми очертаниями, а вторая – из пятен схожей формы и положения, но с четкими очертаниями. Родство здесь столь же бесспорно, как и различие.
77. И если мы продолжим это сравнение, станет ясно, что степень, до которой четкое изображение схоже с размытым, зависит от степени размытости последнего. Ведь представим, что необходимо передать четкое изображение «посредством» размытого. На последнем имеется размытый красный прямоугольник: и мы заменяем его четкой фигурой. Разумеется, можно нарисовать несколько четко очерченных прямоугольников, взяв за основу размытый. – Но если в оригинале нет резких цветовых границ, разве не окажется безнадежной попытка нарисовать четкую фигуру, соответствующую размытой? И не скажем ли мы тогда: «Тут я мог бы нарисовать и прямоугольник, и круг, и сердце, ведь цвета сливаются. Что угодно – то есть ничто – будет и не будет правильным». И в такое положение попадаешь, когда ищешь определения, соответствующие нашим представлениям в эстетике или в этике.
В подобном затруднении всегда спрашивай себя: как мы узнали значение этого слова («благо», например)? Из каких примеров? Из какой языковой игры? Тогда будет проще понять, что у слова должно быть семейство значений.
78. Сравним знание и высказывание:
– Какова высота Монблана —
– Как употребляется слово «игра» —
– Как звучит кларнет.
Если тебя удивляет, что можно что-то знать и не быть в состоянии это сказать, ты, вероятно, думаешь о первом случае. Но, конечно, не о третьем.
79. Рассмотрим такой пример. Если скажут: «Моисей не существовал», это может означать очень многое. Например: у израильтян не было единоличного вождя, когда они покидали Египет, или их вождя звали не Моисей, или не было никого, кто совершил все то, что Библия приписывает Моисею, и т. д. и т. п. Следуя Расселу, мы можем сказать: имя «Моисей» можно определить посредством различных описаний. Например, «человек, который провел израильтян через пустыню»; «человек, который жил в то время и в той местности и звался Моисеем»; «человек, которого младенцем вытащила из Нила дочь фараона» и так далее. И всякий раз, когда мы принимаем то или иное определение, высказывание «Моисей не существовал» приобретает различный смысл, как и любое другое суждение о Моисее. – И если нам говорят: «N не существовал», мы спрашиваем: «Что вы имеете в виду? Вы хотите сказать… или… и т. д.?»
Но когда я утверждаю что-либо о Моисее – всегда ли я готов заменить именем собственным одно из этих описаний? Возможно, я скажу: под «Моисеем» я понимаю человека, который совершил то, что Библия приписывает Моисею; во всяком случае, многое из этого. Но много – это сколько именно? И решил ли я, сколь многое должно оказаться ложным для меня, чтобы само суждение стало ложным? Употребляю ли я имя «Моисей» однозначно и определенно во всех возможных случаях? – Разве это не тот случай, при котором у меня, так сказать, в распоряжении целый набор подпорок, и я готов опереться на следующую, если из-под меня выдернут другую, и наоборот? – Рассмотрим иной случай. Когда я говорю: «N мертв», тогда что-то наподобие следующего может быть связано со значением имени «N»: я верю, что жил некий человек, которого я (1) видел в таких-то и таких-то местах, который (2) выглядел так-то (изображения), (3) делал то-то и то-то и (4) носил имя «N» в общественной жизни. – Если спросят, что я подразумеваю под «N», я должен перечислить все или часть этих характеристик, причем по разным поводам разные. Таким образом, мое определение «N», возможно, будет «человек, о котором верно все сказанное». – Но если что-то окажется ложным? – Готов ли я признать суждение «N мертв» ложным, пусть ложными, как выяснится, будут лишь второстепенные для меня подробности? Но где пролегают границы второстепенности? – Дай я определение имени в таком случае, мне бы следовало теперь его изменить.
И это может быть выражено так: я употребляю имя «N» без фиксированного значения. (И его употреблению это причиняет столь же малый урон, как столу то обстоятельство, что он стоит на четырех, а не на трех ножках и потому иногда покачивается.)
Следует ли говорить, что я употребляю слово, значение которого не знаю, и потому изрекаю бессмыслицу? – Говори что пожелаешь, пока это не мешает тебе воспринимать факты. (А когда ты их видишь, многого уже не скажешь.)
(Неустойчивость научных определений: что сегодня считается наглядным проявлением феномена, завтра будет использоваться для его описания.)
80. Я говорю: «Там стоит стул». Что, если я подойду к нему, желая переставить, а он вдруг исчезнет? – «Значит, это был не стул, а какая-то иллюзия». – Но мгновение спустя мы снова его видим и можем к нему прикоснуться и так далее. – «Значит, стул на самом деле был там, а его исчезновение оказалось иллюзией». – Но допустим, что через некоторое время он вновь исчезнет – или нам покажется, что он исчез. Что мы скажем теперь? Имеется ли у нас правило для подобных случаев – правило, позволяющее употреблять слово «стул» в таких ситуациях? Игнорируем ли мы их, когда употребляем слово «стул»; и должны ли мы говорить, что на самом деле не вкладываем в это слово никакого значения, поскольку не располагаем правилами для всех возможных его применений?
81. Ф. П. Рамсей однажды в разговоре со мной подчеркнул, что логика является «нормативной наукой». Не знаю, что конкретно он имел в виду, но это несомненно тесно связано с тем, что позднее открылось мне: а именно, что в философии мы часто сравниваем употребление слов с играми и исчислениями, имеющими установленные правила, но не можем утверждать, что некто, использующий язык, должен играть в такую игру. – Но если вы говорите, что наши языки суть лишь подобия таких исчислений, мы оказываемся на грани непонимания. Ведь тогда может показаться, будто мы рассуждаем об идеальном языке. Как если бы наша логика была, так сказать, логикой вакуума. – Учитывая, что логика не рассматривает язык – или мысль – в том смысле, в каком естествознание рассматривает явления природы, большее, что можно тут сказать, – что мы конструируем идеальные языки. Но слово «идеальный» склонно вводить в заблуждение, поскольку звучит так, будто эти языки лучше, совершеннее, чем повседневный язык; будто логик наконец показал людям, как должно выглядеть надлежащее предложение. Все это, однако, может предстать в правильном свете, только когда будет обретена большая ясность относительно понятий понимания, значения и мышления. Ибо тогда станет ясно и то, что может подталкивать нас (и уже подтолкнуло меня) к мысли: если кто-либо произносит предложение и наделяет его значением или понимает, он тем самым выполняет исчисление по определенным правилам.
82. Что я называю «правилом, по которому он действует»? – Гипотезу, удовлетворительно описывающую, как он у нас на глазах употребляет слова; или правило, на которое он опирается, когда использует знаки; или то, которое он озвучивает в ответ на вопрос, каковы его правила? – Но что, если наблюдение не позволяет нам однозначно выделить правило, и вопрос не получает желаемого ответа? – Ведь он уже дал мне определение, когда я спросил, что он подразумевает под «N», но сам готов изменить это определение при необходимости. – Итак, как мне выявить правило, по которому он играет? Сам он его не знает. – Или, что будет точнее: какое значение выражение «правило, по которому он действует» остается в итоге?
83. Разве аналогия между языком и играми не способна пролить свет? Мы легко можем представить людей, что развлекают себя забавами на воздухе, играют в мяч, начиная разные известные им игры, но многие не доводят до конца и просто бесцельно перебрасываются мячом, гоняются друг за другом и в шутку кидают один в другого мячом и так далее. А теперь кто-то говорит: все время они играют в мяч и следуют определенными правилами при каждом броске.
И не тот ли это случай, когда мы играем и придумываем правила в ходе игры? И даже меняем их в ходе игры.
84. Я сказал, что применение слова не всецело ограничено правилами. Но на что похожа игра, всецело ограниченная правилами? чьи правила не допускают и толики сомнений и исключают любую их возможность? – Разве нельзя представить правило, определяющее применение правила, и сомнение, которое оно исключает, и так далее? Но это не значит утверждать, что мы сомневаемся, поскольку можем представить себе сомнение. Я с легкостью воображу кого-то, кто открывает входную дверь, всякий раз сомневаясь, не ждет ли его зияющая пропасть, и удостоверяясь, что все в порядке, прежде чем выйти (и в некоторых случаях он может оказаться правым), – но это не вынуждает меня сомневаться в подобных случаях.
85. Правило выступает как дорожный указатель. – Но разве указатель не оставляет сомнений в том, куда следует двигаться? Разве он показывает, в каком направлении нужно идти, когда я уже его миновал, будь то на дороге, на пешеходной тропе или в сельской местности? И как он сообщает, какое направление мне следует выбрать: по стрелке или (например) противоположное? – А если имеется не один указатель, но вереница следующих друг за другом, или череда пометок мелом на земле, – неужели существует единственный способ их истолковать? – Значит, я могу сказать, что дорожный указатель в конце концов не оставляет простора для сомнений. Скорее, так: порой он допускает сомнения, а порой не допускает. И теперь это уже не философское суждение, а эмпирическое.
86. Представим языковую игру как в (2), в которую играют при помощи таблицы. Знаки, которые А подает Б, теперь письменные. У Б есть таблица; в первой колонке знаки, употребляемые в игре, во второй – изображения строительных камней. А показывает Б письменный знак; Б ищет его в таблице, смотрит на соответствующее изображение и так далее. Значит, таблица есть правило, которому он следует, выполняя поручения. – Поиску изображения в таблице учатся через тренировку, и часть этой тренировки состоит, возможно, в обучении ученика умению водить горизонтально пальцем слева направо, то есть на самом деле проводить горизонтальные линии. Предположим, что теперь ведены различные способы чтения таблицы; один раз, как описано выше, по схеме:
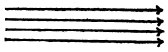
другой раз вот так:
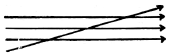
или каким-то иным способом. – Подобная схема предоставляется вместе с таблицей как правило ее применения. Не можем ли мы теперь придумать новые правила для прояснения этого? И, с другой стороны, полна или нет первая таблица без схемы со стрелками? А разве не полны другие таблицы без своих схем?
87. Предположим, я даю такое объяснение: «под “Моисеем” я понимаю человека, который существовал, вывел израильтян из Египта, не важно, как его звали тогда, и независимо от того, что он мог или не мог совершить еще». – Но сомнения, подобные тем, что связаны с «Моисеем», возможны и относительно слов этого объяснения (что вы называете «Египтом», кого зовете «израильтянами» и т. д.). И эти вопросы не заканчиваются, когда мы переходим к таким словам, как «красное», «темное», «сладкое». – «Но тогда каким образом объяснение помогает мне понять, если в конце концов оно не является окончательным? В данном случае объяснение никогда не завершается; значит, я по-прежнему не понимаю, что имеется в виду, и никогда не пойму!» – Как если бы объяснение повисло в воздухе, если его не подкрепит другое. Да, одно объяснение может на самом деле опираться на другое, уже данное, но ни одно не нуждается в другом – если только оно не требуется, чтобы избежать недоразумения. Можно сказать: объяснение служит избавлению или предотвращению недоразумения – которое возникло бы, не будь объяснения; но не любого, какое можно вообразить.
С легкостью может показаться, будто всякое сомнение просто обнажает существующий пробел в основаниях; значит, достоверное понимание возможно, лишь если мы подвергаем сомнению все, в чем можно усомниться, а затем устраняем все эти сомнения.
Указатель в порядке – если, при нормальных условиях, он служит своему назначению.
88. Если я говорю кому-то: «Встань приблизительно здесь», разве это уточнение не может успешно сработать? И разве любое другое не может обернуться неудачей? Но ведь это неточное объяснение? – Да; и почему бы нам не назвать его «неточным»? Только давай разберемся, что означает «неточный». Ибо это слово не означает «негодный». И давай рассмотрим то, что называем «точным» объяснением, в отличие от этого. Например, меловая линия вокруг какого-то участка? Тут нам сразу бросается в глаза, что линия имеет ширину. Значит, цветовая граница должна быть точнее. Но обладает ли эта точность какой-либо функцией; не вхолостую ли работает двигатель? И не забудем также, что мы еще не определили, что должно считаться переступанием через эту точную границу; как и какими инструментами это может быть установлено. И так далее.
Мы понимаем, что значит устанавливать точное время на карманных часах или регулировать их, чтобы они показывали точное время. Но что, если спросят: эта точность является идеальной или же насколько она близка к идеалу? – Конечно, мы можем рассуждать о способах измерения времени, которые различаются, и о способе более точном, нежели измерение времени карманными часами; способе, при котором слова «установить точное время на часах» имеют отличное, пусть и родственное, значение, а слова «узнавать время» значат что-то еще, и так далее. – Теперь, если я говорю кому-то: «Вы должны быть пунктуальнее; вам известно, что обед начинается ровно в час», – разве тут не идет речь о точности? ведь возможно сказать: «Подумайте об определении времени в лаборатории или обсерватории; там вы поймете, что такое точность».
«Неточный» на самом деле своего рода упрек, а «точный» – похвала. И отсюда следует, что неточный достигает цели с меньшим совершенством, чем более точный. Значит, суть в том, что мы называем «целью». Вправду ли я неточен, когда указываю расстояние до Солнца с погрешностью в метр или заказываю столяру стол, ширину которого называю с погрешностью до тысячной дюйма? Не существует единого идеала точности; мы не знаем, что нужно понимать под этим словом – если сами не установили, что именно должно так называться. Но достичь подобного соглашения трудно; по крайней мере, такого, которое бы вас удовлетворило.
89. Эти рассуждения подводят нас к вопросу: в каком смысле логика является чем-то сублимированным?
Ведь кажется, что логике присуща особая глубина – универсальная значимость. Кажется, что логика лежит в основании всех наук. – Ибо логическое исследование изучает природу всего. Оно стремится обнажить основы и не уделяет внимания тому, произошло ли что-либо в реальности. – Логика вырастает не из интереса к фактам природы, не из потребности постичь причинные связи, но из стремления познать основы, или суть, всего эмпирического. Но вовсе не ради этого мы разыскиваем новые факты; скорее, для нашего исследования существенно то, что мы не пытаемся посредством него узнать что-либо новое. Мы хотим понять то, что уже открыто взорам. Ведь именно это мы, в известной степени, не понимаем. Августин говорит в «Исповеди»: «quid est ergo tempus? si nemo ex me quaerat scio; si quaerenti explicare velim, nescio». – Этого нельзя произнести применительно к вопросам естествознания (например, «Каков удельный вес водорода?»). Нечто, нам известное, когда никто об этом не спрашивает, но то, чего мы больше не знаем, когда, как предполагается, должны объяснить, – и есть то, о чем мы должны напоминать себе. (И это очевидно нечто, о чем, по какой-то причине, напоминать себе затруднительно.)
90. Мы чувствуем себя обязанными проникать в суть явлений: наше исследование, однако, направлено не на явления, но, как могут сказать, на «возможности» явлений. Мы напоминаем себе, иначе говоря, о типах высказываний о явлениях. То есть Августин перечисляет различные утверждения о продолжительности, прошлом, настоящем и будущем событий. (Это, конечно, не философские утверждения о времени, прошлом, настоящем и будущем.)
Посему наше исследование является грамматическим. Такое исследование проливает свет на нашу проблему, устраняя недоразумения. Последние связаны с употреблением слов и возникают, среди прочего, вследствие определенных аналогий между формами выражения в различных областях языка. – Некоторые из них можно устранить, заменяя одну форму выражения другою; это можно назвать «анализом» наших форм выражения, ибо процесс отчасти напоминает процедуру разборки на составные элементы.
91. Но теперь все может выглядеть так, будто имеется нечто наподобие окончательного анализа наших форм языка, то есть единственная полностью разобранная на элементы форма всякого выражения. Как если бы наши обычные формы выражения были, по существу, непроанализированными; как если бы в них таилось нечто, подлежащее извлечению на свет. Когда это сделано, выражение полностью разъяснено, и наша проблема решена. Можно выразить это и так: мы устраняем недоразумения, делая наши выражения более точными; но теперь похоже, будто мы движемся в направлении особого состояния, состояния абсолютной точности; будто это и есть настоящая цель нашего исследования.
92. Это находит выражение в вопросах касательно сущности языка, суждений, мысли. – Ведь если и в этих исследованиях мы пытаемся понять сущность языка – его функцию, его структуру, – эти вопросы все же сосредоточены на другом. Ибо они характеризуют как сущности не то, что уже открыто взорам и обозримо при упорядочивании, но то, что скрыто под поверхностью. То, что залегает глубоко, то, что мы видим, когда заглядываем внутрь, и то, что позволяет выявить анализ.
«Сущность скрыта от нас»: вот форма, которую принимает наша проблема. Мы спрашиваем: «Что такое язык?», «Что такое суждение?» И ответ на эти вопросы надлежит дать раз и навсегда; независимо от любого будущего опыта.
93. Один может сказать: «Суждение – самое обычное на свете», а другой: «Суждение – что-то очень странное». И второй попросту не способен приглядеться и увидеть, как на самом деле работают суждения. Ему мешают формы, которые мы используем, высказываясь о суждениях и мыслях.
Почему мы считаем суждение чем-то замечательным? С одной стороны, из-за огромной важности, ему свойственной. (И это верно). С другой стороны это, вместе с непониманием логики языка, искушает нас помыслить о том, что посредством суждений можно добиться чего-то экстраординарного, чего-то уникального. – Непонимание же создает впечатление, будто суждение есть нечто странное.
94. «Суждение – странная штука!» Здесь таится зародыш сублимации нашего логического представления, склонность допускать наличие чистой сущности между пропозициональными знаками и фактами. И даже попытаться очистить, сублимировать сами знаки. – Ведь наши формы выражения всеми способами мешают нам заметить, что не происходит ничего необычного, и заставляют гоняться за химерами.
95. «Мысль должна быть чем-то уникальным». Когда мы говорим и подразумеваем, что то-то и то-то имеет место, мы – с нашим разумением – не останавливаемся перед фактом, но имеем в виду: это – есть – так. Но данный парадокс (имеющий форму трюизма) можно выразить и таким образом: мыслимо и то, что не имеет места.
96. Другие иллюзии примыкают отовсюду к той, о которой говорится тут. Мысль, язык теперь предстают перед нами как уникальный коррелят, своего рода картина мира. Эти понятия: суждение, язык, мысль, мир – выстраиваются вереницей одно за другим, и все они равнозначны. (Но как должны употребляться эти слова? Языковая игра, в которой они применимы, отсутствует.)
97. Мысль окружена ореолом. – Ее сущность, логика, выражает порядок, фактически априорный порядок мира: то есть порядок возможностей, которые должны быть общими для мира и для мысли. Но этот порядок, как кажется, должен быть крайне прост. Он предшествует всякому опыту, пронизывает все события, и никакие эмпирические облака или сомнения не могут его затронуть. – Он как чистейший кристалл. Но этот кристалл не является абстракцией; он есть нечто конкретное, пожалуй, самое конкретное, наиболее твердый предмет на свете («Логико-философский трактат», 5.5563). Мы тешим себя иллюзией, будто своеобразие, глубина, важность нашего исследования заключаются в стремлении постичь ни с чем не сравнимую сущность языка. То есть порядок, соотносящий понятия суждения, слова, доказательства, истины, опыта и так далее. Этот порядок есть сверх-порядок, так сказать, сверх-понятий. При этом, разумеется, если слова «язык», «опыт», «мир» имеют употребление, последнее должно быть столь же скромным, как и у слов «стол», «лампа», «дверь».
98. С одной стороны ясно, что всякое предложение в нашем языке находится «в порядке как оно есть». Иначе говоря, мы не стремимся к идеалу, как если бы наши обычные расплывчатые предложения еще не обрели безусловный смысл, и совершенный язык ожидал бы, пока мы его сконструируем. – С другой стороны, кажется очевидным, что там, где смысл, должен быть совершенный порядок. – Значит, совершенный порядок должен быть даже в наиболее расплывчатых предложениях.
99. Смысл предложения – можно было бы сказать так – может, конечно, оставлять то и это открытым, но все равно предложение должно иметь определенный смысл. Неопределенный смысл – это отсутствие смысла как такового. – Сходно: неопределенная граница вообще не является границей. Тут могут подумать: если я говорю, что «крепко запер человека в комнате – всего одна дверь осталась открытой», – значит, я попросту его не запер; его закрыли в комнате только на словах. Здесь тянет сказать: «Ты вообще ничего не сделал». Ограждение с дырою – вовсе не ограждение. – Но верно ли это?
100. «Тем не менее это не игра, если имеется некая неопределенность в правилах». – Но разве это мешает игре быть игрой? – «Возможно, ты назовешь это игрой, но в любом случае это, конечно, не совершенная игра». Это значит: такая игра не может считаться вполне чистой, а меня интересуют исключительно явление в чистом виде. – Но я хочу сказать: мы неправильно понимаем роль идеала в нашем языке. То есть: мы должны называть игрой и это, но мы ослеплены идеалом и поэтому не видим отчетливо фактическое употребление слова «игра».
101. Мы хотим сказать, что в логике не может быть неопределенности. Нас обуревает мысль о том, что идеал «должен» быть найден в реальности. В то же время мы еще не осознаем, каким образом он может обнаружиться, и не понимаем природу этого «должен». Мы думаем, что он должен найтись в реальности, поскольку верим, что уже наблюдали его там.
102. Строгие и четкие правила логической структуры суждений кажутся нам чем-то, что скрывается в глубине, таится в сфере понимания. Я уже их вижу (даже через сферу): ведь я понимаю пропозициональный знак, использую его, чтобы высказать нечто.
103. Идеал, если задуматься, непоколебим. Невозможно выйти за его пределы; ты всегда вынужден возвращаться. Нет ничего вовне; снаружи нельзя дышать. – Откуда проистекает это представление? Он словно очки на носу, через которые мы смотрим на все, что видим. И нам не приходит в голову их снять.
104. Мы используем как предикаты то, что лежит в основе способов представления чего-либо. Под впечатлением возможности сравнения мы полагаем, что ощущаем наиболее общее положение дел.
105. Когда мы считаем, будто должны отыскать этот порядок, этот идеал в нашем повседневном языке, у нас возникает неудовлетворенность тем, что обычно называют «суждениями», «словами», «знаками».
Суждение и слово, с которыми имеет дело логика, считаются по определению чистыми и четко очерченными. И мы ломаем головы над природой подлинного знака. – Возможно, это идея знака? или его идея в настоящий миг?
106. Здесь довольно трудно сохранять трезвость взгляда – сознавать, что мы должны придерживаться предметов повседневного мышления, а не сбиваться с пути и не воображать, будто нам надлежит описывать нечто крайне тонкое, что, в свою очередь, мы в конце концов не в состоянии описать теми средствами, какие имеются в нашем распоряжении. Мы чувствуем себя так, будто должны вручную починить порванную паутину.
107. Чем пристальнее мы вглядываемся в повседневный язык, тем более очевидным становится конфликт между языком и нашим требованием. (Ведь кристальная чистота логики есть, конечно, не результат исследования, а необходимое условие.) Конфликт становится невыносимым; требование чистоты грозит обернуться пустышкой. – Мы ступили на скользкий лед, где нет и следа трения, зато, в некотором смысле, условия идеальны, но именно из-за этого мы не можем двигаться. Мы хотим двигаться: следовательно, нам нужно трение. Обратно на грубую почву!
108. Мы понимаем: то, что называется «предложением» и «языком», является не формальным единством, которое я вообразил, но семейством образований, более или менее родственных друг другу. – Но что случилось с логикой? Ее строгость, кажется, отступает. – Разве логика не исчезает полностью в данном случае? – Ибо как она может утратить свою строгость? Конечно, не благодаря нашему стремлению лишить ее этой строгости. – Предрассудок кристальной чистоты можно устранить, лишь развернув полностью направление нашего исследования. (Можно сказать: ось исследования нужно развернуть относительно фиксированной точки реальных потребностей.) Философия логики рассуждает о предложениях и словах в точно таком же смысле, в каком мы говорим о них в обычной жизни, когда произносим, например, «Это китайское предложение» или «Нет, это лишь похоже на письмо; на самом деле это узор», и так далее.
Мы говорим о пространственном и временном феномене языка, не о каком-то внепространственном и вневременном фантоме. [Пометка на полях: Только феноменом возможно интересоваться различным образом.] Но мы говорим о нем так, как говорят о шахматных фигурах, задавая правила игры, а не описывая физические свойства. Вопрос «Что такое слово на самом деле?» аналогичен вопросу: «Что такое фигура в шахматах?»
109. Верно утверждать, что наши рассуждения могут и не быть научными. Нам ни в коей степени не интересно выяснять опытным путем, «что, вопреки нашим устоявшимся представлениям, возможно думать так-то и так- то» – что бы это ни означало. (Мышление как пневматический процесс.) И вероятно, что нам нет необходимости развивать какую-либо теорию. В наших рассуждениях не должно быть ничего гипотетического. Мы должны устранить объяснение, его место займет сугубо описание. И это описание обретает способность проливать свет, то есть цель, в связи с философскими проблемами. Они, конечно, не являются эмпирическими; они разрешаются, скорее, изучением устройства нашего языка, и таким способом изучения, который вынуждает нас признать это устройство вопреки склонности истолковать их неверно. Проблемы разрешаются не получением новых данных, но упорядочиванием того, что давно известно. Философия – битва против зачаровывания рассудка посредством языка.
110. «Язык (или мысль) – нечто уникальное» – это утверждение оказывается предрассудком (не ошибкой), порожденным грамматическими иллюзиями.
И его патетика сводится именно к этим иллюзиям, к этим проблемам.
111. Проблемы, возникающие в связи с неверным истолкованием форм нашего языка, обладают глубоким характером. Это глубокое беспокойство; их корни сидят столь же глубоко в нас, как и формы нашего языка, и их значение столь же велико, как и важность нашего языка. – Давай спросим себя: почему мы считаем грамматическую шутку глубокой? (То есть какова глубина философии?)
112. Сходство, поглощаемое в формах нашего языка, производит обманчивое впечатление и вызывает беспокойство. «Но это вовсе не так» – говорим мы. «Это так, как должно быть!»
113. «Но это вот так» – говорю я себе снова и снова. Я чувствую, что если бы сумел полностью сосредоточиться на этом факте, воспринять его целиком, то осознал бы суть дела.
114. («Логико-философский трактат», 4.5): «Общая форма суждений: что-либо имеет место». – Этот тип суждения человек повторяет себе бесчисленное множество раз. Он полагает, что многократно прослеживает очертания природы предмета или явления, а на самом деле попросту очерчивает форму, сквозь которую мы изучаем природу.
115. Картина берет нас в плен. И мы не можем выбраться наружу, потому что она заключена в нашем языке, а язык, кажется, непрерывно воспроизводит ее для нас.
116. Когда философы употребляют слово – «знание», «быть», «объект», «я», «суждение», «имя» – и пытаются ухватить суть чего-либо, всегда следует спрашивать себя: это слово употреблялось ли когда-нибудь подобным образом в языковой игре, в которой оно применялось изначально?
Мы лишь возвращаем слова из метафизического в повседневное употребление.
117. Мне говорят: «Вы понимаете это выражение, не так ли? Что ж – выходит, я употребляю его в значении, которое вам знакомо». – Как если бы значение было атмосферой, окружающей слово и привносимой в каждое употребление.
Если, например, кто-то говорит, что предложение «Это здесь» (и указывает на предмет перед собой), имеет для него смысл, тогда он должен спросить себя, в каких конкретных обстоятельства употребляется это предложение. В них оно действительно имеет смысл.
118. Каким образом наше исследование становится важным, ведь оно, кажется, лишь уничтожает все интересное, то есть все, что является важным и значимым? (Как если бы оно разрушало все строения, оставляя только мусор и щебень.) На самом деле мы разрушаем только карточные домики и расчищаем почву языка, на которой они стоят.
119. Результаты философии заключаются в выявлении тех или иных очевидных нелепиц и шишек, которые получает понимание, ударяясь о границы языка. Эти шишки заставляют нас признать ценность философского открытия.
120. Когда я рассуждаю о языке (словах, предложениях и т. д.), я должен использовать повседневный язык. Быть может, этот язык слишком груб и материален для того, что мы хотим сказать? Значит, нужно сконструировать другой? – И странно в таком случае, что мы вообще можем что-либо поделать с тем языком, который употребляем.
Давая объяснения, я вынужден пользоваться полноценным языком (а не своего рода предварительным, временным); это само по себе показывает, что я могу лишь сообщать о языке что-то внешнее.
Да, но как тогда эти объяснения могут нас удовлетворять? – Что ж, сами твои вопросы формулируются на этом языке; их надлежит выражать на этом языке, если есть, о чем спрашивать.
А твои сомнения суть непонимание.
Твои вопросы относятся к словам; значит, я должен говорить о словах.
Ты говоришь: дело не в слове, а в значении, и полагаешь значение чем-то, сходным со словом и в то же время отличным от него. Слово тут, значение там. Деньги и корова, которую можно на них купить. (С другой стороны: деньги и их использование.)
121. Можно было бы подумать: если философия говорит об употреблении слова «философия», то должна быть философия второго порядка. Но это не так: скорее, тут как с орфографией, имеющей дело со словом «орфография» в числе прочих, не становясь при этом явлением второго порядка.
122. Главная причина нашей неспособности понять – отсутствие ясного представления об употреблении слов. – Нашей грамматике недостает подобной наглядности. Ясное представление ведет именно к тому пониманию, которое состоит в «прозревании связей». Отсюда важность отыскания и изобретения промежуточных звеньев. Понятие ясного представления имеет для нас фундаментальное значение. Оно характеризует форму выражения, способ, которым мы смотрим на мир. (Вправду ли это – «мировоззрение»?)
123. Форма философской проблемы: «Я не знаю, куда пойти».
124. Философия никоим образом не вмешивается в фактическое употребление языка; она может лишь его описывать.
Ведь она не способна привести какие-либо обоснования. Она оставляет все, как есть.
Она и математику оставляет, как есть, и никакое математическое открытие не сулит философии развития. «Ведущей проблемой математической логики» является для нас проблема математики, как и любая другая.
125. Задача философии не в том, чтобы выявлять противоречия посредством математических или логико-математических открытий, но в том, чтобы позволить нам получить ясное представление о состоянии математики, вызывающем беспокойство: положение дел до разрешения противоречия. (И это не означает, что мы обходим трудности.) Главное здесь то, что мы устанавливаем правила и практику игры, и тогда, когда мы следуем правилам, все идет не так, как предполагалось. Иначе говоря, мы словно запутываемся в собственных правилах.
Эту путаницу в правилах мы и хотим понять (получить о ней четкое представление).
Это проливает свет на наше понятие значения. Поскольку в подобных случаях все происходит иначе, нежели мы предполагали, предвидели. Именно так мы говорим, сталкиваясь, например, с противоречием: «Я не имел этого в виду».
Гражданский статус противоречия, его положение в гражданском обществе: вот философская проблема.
126. Философия просто помещает все перед нашими глазами и ничего не объясняет и не выводит. – Поскольку все открыто взору, объяснять нечего. А то, что скрыто, к примеру, нам неинтересно.
Можно было бы назвать «философией» то, что возможно до всех новых открытий и изобретений.
127. Работа философа состоит в собирании упоминаний ради конкретной цели.
128. Попытайся кто-либо сформулировать тезисы в философии, было бы невозможно их обсуждать, потому что все бы с ними согласились.
129. Стороны явлений, наиболее важные для нас, скрыты от взора из-за их простоты и очевидности. (Человек неспособен заметить нечто, поскольку оно всегда перед глазами.) Истинное основание его устремлений никогда не открывается человеку. Если только сам этот факт не бросится в глаза. – И это значит: мы не в состоянии поражаться тому, что, будучи замечено, является самым поразительным и невероятным.
130. Наши простые и ясные языковые игры не являются предварительными исследованиями для последующего упорядочивания языка – ведь это лишь первое приближение, которое игнорирует трение и сопротивление воздуха. Языковые игры, скорее, выступают объектами сравнения, предназначение которых – проливать свет на факты нашего языка, посредством обнаружения не только сходств, но и различий.
131. Ведь несоответствий и пустот в наших утверждениях можно избежать, лишь представляя образец тем, что он есть, как объект сравнения – если можно так выразиться, как некое мерило; а не как устоявшееся представление, которому должна соответствовать реальность. (Догматизм, в который мы впадаем столь охотно при философствовании.)
132. Мы хотим установить порядок нашего знания об употреблении языка: порядок, нацеленный на конкретный результат; один из многих возможных порядков; отнюдь не единственно возможный. С этой целью мы постоянно выделяем различия, которые часто упускаем из вида в наших обычных формах языка. И может показаться, будто мы ставим себе задачей преобразовать язык.
Подобное преобразование ради сугубой практической цели, ради усовершенствования нашей терминологии, предназначенной устранить недоразумения в практике, вполне возможно. Но эти случаи нас не интересуют. Путаница, нас занимающая, возникает, когда язык ведет себя как двигатель на холостом ходу, а не когда он работает.
133. Нашей целью не является усовершенствование или завершение системы правил употребления слов неким способом, о каком прежде и не слыхали.
Ибо ясность, к которой мы стремимся, есть полная ясность. Но это просто означает, что философские проблемы должны полностью исчезнуть.
Истинное открытие делает меня способным прекратить философствовать, когда я этого хочу. – Оно приносит философии мир, так что последняя уже не изводит себя вопросами, которые ставит под сомнение ее самое. – Вместо этого мы на примерах показываем действие того или иного метода; и ряд примеров может быть нарушен. – Решаются проблемы (устраняются трудности), а не единичная проблема.
Нет одного философского метода, зато есть многие методы, наподобие различных терапий.
134. Рассмотрим суждение: «Нечто имеет место». – Как я могу утверждать, что это – общая форма суждения? – Прежде всего это самостоятельное суждение, предложение языка, поскольку у него есть подлежащее и сказуемое. Но как это предложение употребляется – в повседневном языке? Ведь я взял его именно оттуда.
Мы можем сказать, например: «Он объяснил мне свои взгляды, сказал, что дела обстоят так и что поэтому ему нужен задаток». До сих пор, можно сказать, это предложение соответствовало любому высказыванию. Оно применяется как пропозициональная схема, но лишь потому, что обладает базовой конструкцией предложения. Возможно сказать вместо этого: «То-то и то-то имеет место», «Такова ситуация» и так далее. Также возможно просто употребить какую-либо букву, переменную, как в символической логике. Но никто не собирается называть букву «p» общей формой суждений. Повторим: высказывание «Что-либо имеет место» занимает свое положение исключительно потому, что оно соответствует структуре предложения повседневного языка. Но хотя это суждение, тем не менее его употребляют как логическую переменную. Говорить, что это суждение соответствует (или не соответствует) реальности, бессмысленно. Тем самым иллюстрируется, что одним из свойств нашего представления о суждении выступает тот факт, что оно звучит как суждение.
135. Но разве мы не обладаем понятием того, что такое суждение, представлением о том, что мы подразумеваем под «суждением»? – Да; сходным образом мы обладаем понятием того, что подразумеваем под «игрой». Если нас спросят, что такое суждение – будь то другой человек, кому мы отвечаем, или мы сами, – мы приведем примеры, и они будут включать то, что можно назвать индуктивно определенным рядом суждений. Это способ, каким мы приобретаем такие понятия, как «суждение». (Сравни понятия суждения и числа.)
136. По сути, представить высказывание «Нечто имеет место» как общую форму суждения, все равно что дать следующее определение: суждение – то, что может быть истинным или ложным. Поскольку вместо «Нечто имеет место» возможно сказать «Это истина». (Или же «Это ложь».) Но мы имеем:
«p» истинно = p «p» ложно = не-p.
И говорить, что суждение есть то, что может быть истинным или ложным, означает утверждать: мы называем суждением нечто, когда в своем языке можем применить к нему исчисление истинностной функции.
Теперь все выглядит так, будто определение – суждение есть то, что является истинным или ложным – обнаруживает, что такое суждение, говоря: то, что соответствует понятию «истинности» или чему соответствует понятие «истинности», и будет суждением. Как если бы мы располагали понятиями истинности и ложности, которые могли бы применить для определения того, что является, а что не является суждением. То, что сцепляется с понятием истины (как зубчатое колесо), и есть суждение.
Но это неудачная картина. Как если бы сказали: «Король в шахматах – единственная фигура, которой можно объявить шах». Но это означает лишь, что в нашей партии шах можно объявить только королю. Равно как и суждение, что лишь суждение может быть истинным или ложным, говорит не больше, чем следующее: мы всего-навсего приписываем тому, что называем суждением, предикаты «истинный» и «ложный». А что такое суждение, в одном смысле определяется правилами построения предложения (в немецком языке, например), а в другом – при помощи знака в языковой игре. И употребление слов «истинный» и «ложный» может относиться к элементам этой игры, а следовательно, принадлежать нашему понятию «суждения», но не «соответствовать» ему. Иначе можно сказать, что шах принадлежит нашему понятию о фигуре короля в шахматах (есть, допустим, составная его часть). И говорить, что шах не соответствует нашему определению пешек, значит утверждать, что игра, в которой шахуют пешек, где проигрывает тот, кто потерял все пешки, была неинтересной, глупой, слишком сложной или что-нибудь еще в том же духе.
137. Как насчет того, чтобы научиться определять подлежащее посредством вопроса «Кто или что…?» – Здесь, конечно, присутствует то, что именуется «соответствием» подлежащего вопросу; ведь иначе, как мы можем узнать подлежащее посредством вопроса? Мы узнаем это образом, весьма схожим с тем, каким выясняем, какая буква алфавита следует за «K», проговаривая буквы алфавита вплоть до «K». И в каком же смысле «Л» соответствует этому перечню букв? – В данном смысле «истинный» и «ложный» могут быть сочтены соответствующими суждениям; и ребенка можно научить проводить различие между суждениями и другими выражениями, сказав: «Спроси себя, можешь ли ты добавить «истинно» после фразы. Если да, тогда эта фраза – суждение». (И сходно можно сказать: спроси себя, можешь ли ты поставить слова «Нечто имеет место» перед фразой.)
138. Но разве значение слова, которое я понимаю, не может соответствовать смыслу предложения, который я тоже понимаю? Или значение одного слова соответствует значению другого? – Конечно, если значение есть употребление слова, не имеет смысла рассуждать о каком бы то ни было «соответствии». Но мы понимаем значение слова, когда слышим его или произносим; мы улавливаем значение мгновенно, и то, что мы схватываем таким образом, должно безусловно как-то отличаться от «употребления», которое развернуто во времени.
139. Когда кто-то произносит слово «куб», например, я знаю, что оно означает. Но способно ли полное употребление слова открыться мне, когда я понимаю его таким образом?
Что ж, с другой стороны, разве значение слова не определяется также через это его употребление? И не конфликтуют ли между собой эти способы выяснения значения? Может ли то, что мы схватываем мгновенно согласно употреблению, соответствовать или не в быть состоянии соответствовать употреблению? И как то, что открывается нам в единый миг, что возникает перед мысленным взором в мгновение ока, может соответствовать употреблению?
Что возникает перед нашим мысленным взором, когда мы понимаем слово? – Наверное, некая картина? Разве это не может быть картина?
Предположим, картина и вправду возникает в сознании, когда мы слышим слово «куб», – скажем, образ куба. В каком смысле эта картина может соответствовать или не соответствовать употреблению слова «куб»? – Возможно, ты скажешь: «Все просто; если этот образ приходит ко мне, а я указываю, к примеру, на треугольную призму и говорю, что это – куб, тогда употребление слова не соответствует образу». – Но разве оно не соответствует? Я преднамеренно выбрал этот пример, поскольку несложно вообразить метод проецирования, по которому данный образ все же окажется соответствующим.
Образ куба действительно предлагает нам определенное употребление, но для меня возможно использовать его и иначе.
140. Тогда какую ошибку я допустил? Не ту ли, какую хотелось бы выразить так: я счел, что картина навязывает мне конкретное употребление? Как я мог подумать об этом? Что именно я подумал? Существует ли вообще картина, или нечто, похожее на картину, что навязывает нам конкретное употребление; быть может, моя ошибка связана с тем, что я перепутал одну картину с другой? – Ведь мы могли бы выразиться и так: мы пребываем самое большее под психологическим, а не логическим воздействием. А теперь выглядит так, будто нам известны обе разновидности случаев.
Каково следствие моего довода? Он привлек наше внимание (напомнил нам о том) к тому факту, что имеются и другие процессы помимо того, о котором мы думали первоначально и который мы порой готовы именовать «применением образа куба». Таким образом, наша «убежденность в навязывании употребления» заключается в том, что мы сосредоточились исключительно на этом случае и ни на каком другом. «Есть и иное решение» означает: имеется что-то еще, что я также готов назвать «решением»; к чему готов применить такой-то и такой-то образ, такую-то и такую-то аналогию, и так далее.
Очень важно понимать, что один и тот же образ, возникающий перед нашим мысленным взором, когда мы слышим слово, может применяться различно. Будет ли он иметь сходное значение в обоих случаях? Думаю, мы скажем – нет.
141. Предположим, однако, что в нашем сознании возникает не просто образ куба, но и метод проецирования. – Как мне представить это? – Возможно, я вижу перед собой схему, обозначающую метод проецирования: скажем, рисунок двух кубов, соединенных линиями проекции. – И что, это позволяет существенно продвинуться вперед? Я могу теперь вообразить различные применения этой схемы? – Что ж, да; но не значит ли это, что применение возможно представить мысленно? – Вероятно: только нужно отчетливо сформулировать, как мы применяем это выражение. Допустим, я объясняю кому-то различные методы проецирования, чтобы этот человек мог их применять; давай спросим себя, когда именно метод, который я имел в виду, возникнет в его сознании Теперь мы очевидно принимаем два различных критерия: с одной стороны, картина (любого вида), которая рано или поздно возникает в сознании; с другой – применение, которое – постепенно – обретает воображаемое. (И нельзя ли недвусмысленно сказать здесь, что для картины абсолютно несущественно, что она имеется в воображении, а не в качестве рисунка или модели; или снова: как нечто, что сам он создает как модель?)
Возможен ли конфликт между картиной и применением? Да, возможен, поскольку картина внушает нам ожидания иного применения, ведь люди обычно используют этот образ вот так.
Я хочу сказать: у нас есть типичный случай и нетипичные случаи.
142. Лишь в типичных случаях употребление слова четко предписано; мы знаем и ничуть не сомневаемся, что следует сказать тогда-то или тогда-то. Чем нетипичнее случай, тем более сомнительным представляется то, что мы говорим. И если все вправду сильно отличается от того, что есть на самом деле – если нет, например, никакого характерного выражения боли, страха, радости; если правило становится исключением, а исключение правилом; или оба превращаются в явления примерно одинаковой частоты, – это приведет к тому, что наши типичные языковые игры утратят смысл. – Процедура взвешивания куска сыра и определения цены по перемещению стрелки весов потеряла бы смысл, если бы часто случалось, что куски сыра внезапно увеличивались в размерах или уменьшались без всякой видимой причины. Это замечание станет яснее, когда мы будем обсуждать отношение выражения к ощущению и подобные темы.
143. Теперь изучим следующий тип языковой игры: когда A дает приказ, Б должен записать последовательность знаков согласно определенному правилу.
Пускай первый из этих рядов будет рядом натуральных чисел в десятичной записи. – Как Б учиться понимать эту запись? – Прежде всего для него запишут ряд чисел и потребуют, чтобы он их переписал. (Пусть вас не смущает выражение «ряд чисел»; оно здесь применено правомерно.) И тут уже наблюдается типичное и нетипичное в реакции обучающегося. – Сначала, возможно, мы водим его рукой, пока он записывает ряд от 0 до 9; но тогда его возможность понимать будет зависеть от того, сможет ли он продолжить запись самостоятельно. – И здесь можно предположить, например, что он записывает числа независимо, но в неверном порядке: иногда пишет одну цифру, иногда наугад ставит другую. И коммуникация на этом прекращается. – Или снова: он допускает «ошибки» в порядке. – Различие между этим и первым случаем, конечно, состоит в частоте. – Или он делает систематическую ошибку; к примеру, записывает любое второе число или воспроизводит ряд 0, 1, 2, 3, 4, 5 как 1, 0, 3, 2, 5, 4. Здесь так и хочется сказать, что он понял неправильно.
Заметим, однако, что нет четкого различия между случайной и систематической ошибкой. То есть между тем, что мы склонны называть «случайным» и «систематическим». Пожалуй, возможно отучить от систематической ошибки (как от дурной привычки). Или же мы примем его способ записи и постараемся обучить его нашему как разновидности, варианту его собственного. – И тут его обучаемость тоже может достичь предела.
144. Что я имею в виду, когда говорю, что «обучаемость тоже может достичь предела»? Я рассуждаю на основе собственного опыта? Конечно, нет. (Даже будь у меня такой опыт.) Тогда чего же я добиваюсь этим суждением? Что ж, мне бы хотелось услышать: «Да, все верно, это также можно вообразить, это может случиться». – Но пытаюсь ли я привлечь чье-то внимание к факту, что человек способен это вообразить? – Я хотел вызвать в его сознании конкретную картину, и принятие им картины состоит в том, что теперь он склонен воспринимать данный случай иначе: то есть сравнивать его с этим, а не с тем набором картин. Я изменил его способ смотреть на мир. (Индийский математик: «Посмотри на это».)
145. Предположим, что обучающийся теперь записывает ряд от 0 до 9 правильно. – И это будет означать, что он записывает ряд верным образом регулярно, а не единственный раз из ста попыток. Тогда я продолжаю ряд и привлекаю его внимание на воспроизведение первого ряда в единицах; затем на воспроизведение в десятках. (Что лишь означает, что я использую конкретные акценты, подчеркиваю цифры, пишу их одну за другой таким- то и таким-то способом, и тому подобное.) – И в некоторый миг он продолжает ряд самостоятельно – или не продолжает. – Почему ты так говоришь? Уж это вполне очевидно! – Конечно; я только хотел сказать: действенность любого последующего объяснения зависит от реакции обучающегося.
Теперь, однако, предположим, что после некоторых усилий со стороны учителя он сумел продолжить ряд правильно, то есть так, как делаем мы. Значит, можно сказать, что он овладел системой записи. – Но как далеко ему следует продолжать этот ряд, чтобы мы это признали? Очевидно, тут не может быть предела.
146. Допустим, теперь я спрашиваю: «Он понял систему, когда продолжил до сотого члена?» Или – если мне нельзя говорить о «понимании» в нашей примитивной языковой игре: он усвоил систему, если сумел продолжить ряд настолько далеко? – Возможно, ты скажешь: усвоение системы (или, опять, понимание) не может заключаться в способности продолжить ряд до того или того числа; это лишь применение понимания. Само понимание есть состояние, которое служит источником правильного применения.
О чем тут действительно говорится? Разве не о выведении ряда из его алгебраической формулы? Или, по крайней мере, о чем-то подобном? – Но с этого мы начинали. Суть в том, что мы можем думать о более чем одном применении алгебраической формулы; и всякий тип применения можно, в свою очередь, сформулировать алгебраически; но, естественно, это не позволяет нам идти дальше. – Применение по-прежнему остается критерием понимания.
147. «Но как это может быть? Когда я говорю, что понимаю правило ряда, я, безусловно, говорю так не потому, что выяснил, что до сих пор применял алгебраическую формулу таким-то и таким-то способом. В моем собственном случае, так или иначе, я знаю наверняка, что подразумеваю такой-то и такой-то ряд; не имеет значения, как далеко я продвинулся в его построении».
Твоя идея, выходит, в том, что ты знаешь применение правила ряда независимо от воспоминаний о его фактическом применении к конкретным числам. И ты, возможно, скажешь: «Конечно! Ведь ряд бесконечен, а та его часть, какую я смог построить, конечна».
148. Но в чем состоит это знание? Позволь спросить: когда ты знаешь это применение? Всегда? Днем и ночью? Или только когда действительно задумываешься о правиле? Ты знаешь его так же, как алфавит и таблицу умножения? Или то, что ты называешь «знанием», есть состояние сознания или процесс – скажем, мысль о чем-то и т. п.?
149. Если сказать, что знание алфавита является психическим состоянием, задумаешься о состоянии ментального аппарата (возможно, мозга), посредством которого мы объясняем проявления этого знания. Такое состояние называют диспозицией. Но тут не совсем корректно говорить о психическом состоянии, поскольку должны иметься два критерия для такого состояния: знание об устройстве аппарата, независимое от знания о том, что он делает. (Ничто не способно запутать здесь надежнее, чем употребление слов «сознательное» и «бессознательное» для различения состояний сознания и диспозиций. Ведь эта пара терминов скрывает грамматическое различие.)
150. Грамматика слова «знать», очевидно, родственна грамматике слов «мочь», «быть в состоянии». А также грамматике слова «понимать». («Овладение» практикой.)
151. Но существует и следующее употребление слова «знать»: мы говорим «Теперь я знаю!» – и также «Теперь я могу это сделать!» и «Теперь я понимаю!»
Давай вообразим следующий пример: A записывает ряд цифр; Б наблюдает за ним и пытается вывести закон последовательности чисел. Если он добивается успеха, то восклицает: «Теперь я могу продолжить!» Таким образом, эта способность, это понимание, проявляется в какой-то миг. Давай же присмотримся к тому, что именно проявилось. – А записывает цифры 1, 5, 11, 19, 29; и тут Б говорит, что знает, как продолжить ряд. Что произошло? Очень многое могло произойти; например, пока A медленно писал одну цифру за другой, Б выводил различные алгебраические формулы для этих чисел. Когда А написал цифру 19, Б испытал формулу an = n2+ n – 1; и следующее число подтвердило его гипотезу.
Или снова: Б не выводит формулы. Он напряженно следит, как А записывает цифры, и всевозможные смутные мысли витают в его сознании. Наконец он спрашивает себя: «Какова последовательность этих чисел?» Он определяет ряд 4, 6, 8, 10 и говорит: «Теперь я могу продолжить». Или же всматривается и говорит: «Да, я вижу, какова последовательность» – и продолжает ее, точно так же, как поступил бы, запиши А ряд 1, 3, 5, 7, 9. – Или не говорит ничего вообще, а просто продолжает ряд. Возможно, он испытывает нечто наподобие чувства: «О, это легко!» (Это чувство схоже, например, со вздохом облегчения после мимолетного испуга.)
152. Но являются ли описанные процессы пониманием? «Б понимает принцип последовательности» отнюдь не означает просто, что формула an =… пришла Б в голову. Ведь вполне можно вообразить, что формула ему привиделась, но понимание так и не наступило. «Он понимает» должно выражать больше чем: «Формула пришла ему в голову». И больше, нежели любое более или менее характерное сопровождение или проявление понимания.
153. Мы пытаемся осознать умственный процесс понимания, который кажется скрытым за более грубыми и потому более очевидными сопровождениями. Но мы не добиваемся успеха; точнее, у нас не доходит до реальной попытки это сделать. Ведь даже предположив, что я выявил нечто, происходящее во всех этих случаях понимания, – почему это должно быть искомым пониманием? И как процесс понимания может быть скрытым, когда я говорю: «Теперь я понимаю», потому что понимаю? И если я говорю, что он скрыт, тогда откуда мне известно, что именно искать? Я в замешательстве.
154. Но подожди – если «Теперь я понимаю принцип» не означает то же самое, что и «Формула… пришла мне в голову» (или: «Я произношу формулу», «Я ее записываю» и т. д.), следует ли отсюда, что я употребляю предложение «Теперь я понимаю» или «Теперь я могу продолжить» в качестве описания процесса, который лежит в основе произнесения формулы или его сопровождает?
Если что-либо и лежит в основе «произнесения формулы», это особые обстоятельства, которые позволяют мне утверждать, что я могу продолжать, когда формула приходит мне в голову.
Попытайся не думать о понимании как об «умственном процессе». – Ибо это выражение нас запутывает. Но спроси себя: в каком случае, при каких обстоятельствах мы говорим: «Теперь я знаю, как продолжить», когда, иначе говоря, формула приходит в голову?
В том смысле, в каком существуют процессы (включая умственные), характерные для понимания, понимание не является умственным процессом.
(Боль делается сильнее и тише; мы слушаем мелодию или фразу: вот – умственные процессы.)
155. Значит, я хочу сказать следующее: когда человек внезапно осознает, как продолжить ряд, когда понимает принцип, тогда, возможно, он переживает особый опыт, – и если его спрашивают: «Что это было? Что произошло, когда ты вдруг постиг принцип?», он, быть может, опишет свой опыт сходно с тем, что мы сказали выше; но для нас это обстоятельства, при которых он обрел такой опыт, позволяющий утверждать в данном случае, что он понимает, знает, как продолжить.
156. Станет яснее, если мы прибавим сюда рассмотрение другого слова, а именно, слова «чтение». Сначала нужно отметить, что я не считаю понимание прочитанного частью «чтения» в рамках нашего рассмотрения: чтение здесь – произнесение вслух того, что написано или напечатано, а еще записано под диктовку, переписано с печатного текста, сыграно по нотам и так далее. Употребление этого слова в типичных обстоятельствах нашей жизни, конечно, хорошо нам знакомо. Однако роль, какую это слово играет в нашей жизни, и, следовательно, языковая игра, в которой мы его используем, трудно описать даже приблизительно. Некий человек, скажем, немец, получил в школе или дома то или иное образование, обычное для нас, и при этом научился читать на родном языке. Позже он стал читать книги, письма, газеты и прочее.
И что происходит, когда он, допустим, читает газету? Его глаз бегает – как мы говорим – вдоль напечатанных строк, он произносит слова вслух – или про себя; причем отдельные слова он читает, воспринимает их печатную форму как целое; другие его глаз опознает по первым слогам; третьи он читает слог за слогом, какие-то слова воспринимает побуквенно. – Мы также должны сказать, что он прочел предложение, хотя не произносил его ни громко, ни про себя, но впоследствии смог повторить предложение дословно или почти дословно. – Он может вникать в то, что он читает или же – как мы могли бы выразиться – функционировать как простое считывающее устройство: я имею в виду читать вслух и правильно, не вникая в то, что читает; возможно, его внимание сосредоточено на чем-то постороннем (и потому он не сможет ответить, что именно читал, если спросить его сразу).
Теперь сравним с этим читателем новичка. Новичок читает слова, старательно их произнося. – Некоторые, однако, он угадывает из контекста или, возможно, частично выучил отрывок наизусть. Тогда его учитель говорит, что на самом деле он не читает слова (а в конкретных случаях – что он лишь притворяется, будто читает). Если представить этот способ чтения, чтение новичка, и спросить себя, в чем состоит чтение, возникнет желание сказать: это особая сознательная деятельность ума.
Мы также говорим об ученике: «Конечно, только он знает, читает ли он на самом деле или просто повторяет слова наизусть». (Нам предстоит обсудить эти суждения: «Только он знает…»)
Но я хочу сказать следующее: мы должны признать, что – применительно к произнесению любого напечатанного слова – в сознании ученика, который «притворяется», будто читает, происходит то же самое, что и в сознании опытного читателя, который «читает» отрывок. Слово «читать» употребляется различно, когда мы говорим о новичке и об опытном читателе. – Теперь мы, конечно, захотим сказать: то, что происходит в сознании опытного читателя и в сознании новичка, когда они произносят слово, не может быть одинаковым. А если и нет различия в том, что они осознают, тут должно быть некое бессознательное действие их умов, иначе, мозга. – Таким образом, мы могли бы сказать: налицо, в любом случае, задействование двух различных механизмов. И то, что они делают, должно отличать чтение от не-чтения. – Но эти механизмы суть лишь гипотезы, модели, призванные объяснить, обобщить наблюдаемое.
157. Рассмотрим следующий случай. Люди или существа какого-либо иного вида применяются нами в качестве считывающих устройств. Их обучают для этой цели. Обучающий говорит относительно некоторых, что они уже могут читать, а относительно других – что они еще не в состоянии это делать. Возьмем ученика, который до сих пор не принимал участия в обучении: если ему показать написанное слово, он произнесет тот или иной звук, и в определенной ситуации этот звук «случайно» окажется примерно правильным. Некто третий слышит этого ученика и говорит: «Он читает». Но обучающий возражает: «Нет, он не читает; это просто случайность». – Но предположим, что этот ученик и далее правильно реагирует на слова, которые ему показывают. Через некоторое время обучающий говорит: «Теперь он может читать!» – Но что насчет того первого слова? Скажет ли обучающий: «Я был неправ, и он действительно его прочел» – или: «Он начал читать позже»? – Когда ученик начал читать? Какое первое слово он прочел? Этот вопрос здесь не имеет смысла. Если только мы не дадим определение: «Первое слово, которое некто «прочитывает», есть первое слово в первой последовательности из 10 слов, которые он прочел правильно» (или что-то вроде этого).
Если, с другой стороны, мы обозначаем словом «чтение» некий опыт перехода от письменного знака к произносимому звуку, тогда безусловно имеет смысл говорить о первом слове, которое он на самом деле прочел. Он может сказать, например: «На этом слове у меня впервые возникло чувство: “Теперь я читаю”».
Или снова, в отличном случае считывающего устройства, которое переводит знаки в звуки, наподобие пианолы, возможно сказать: «Машина читает лишь после того, как с ней произошло то-то и то-то – после того, как такие-то и такие-то ее части были соединены проводами; и первым словом, которое она прочитало, было…».
Но в случае живого считывающего устройства «чтение» означает реагирование на письменные знаки таким-то и таким-то способом. Это понятие потому совершенно независимо от понятия умственных или прочих механизмов. – И при этом обучающий не может тут сказать об ученике: «Возможно, он уже умел читал, когда произнес то слово». Ведь не приходится сомневаться, что он и вправду умел. – Перемена, случившаяся, когда ученик начал читать, есть перемена в поведении; и нет смысла здесь рассуждать о «первом слове в новом состоянии».
158. Но разве не по той причине, что мы крайне мало знаем о том, что происходит в мозгу и в нервной системе? Обладай мы более точным знанием об этом, мы бы увидели, какие связи устанавливает обучение, а потому смогли бы сказать, заглянув в мозг ученика: «Теперь он прочел это слово, теперь связь с чтением установлена». – И предполагается, что это так, поскольку иначе как могли бы мы быть уверены, что связь установлена? То, что все именно так, предположительно априорно – или лишь вероятно? И насколько оно вероятно? Теперь спросите себя: что вам об этом известно? Если это априорно, значит, это форма представления, весьма для нас убедительная.
159. Но если вдуматься, возникает желание сказать: единственный реальный критерий утверждать, что кто- либо читает – сознательный акт чтения, акт произнесения письменных знаков. «Человек наверняка знает, читает ли он или просто притворяется, что читает!» – Допустим, A хочет убедить Б, что способен читать тексты на кириллице. Он выучивает русское предложение наизусть и произносит его, глядя на напечатанные слова, будто их читает. Здесь мы, конечно, скажем: A знает, что он не читает, и осознает это, притворяясь, будто читает. Ведь имеется множество более или менее характерных ощущений при чтении печатного предложения; их нетрудно припомнить: подумайте о чувстве неуверенности, о пристальном вглядывании в текст, об ошибочном прочтении, о более или менее гладком порядке слов и так далее. И сходно имеются характерные ощущения при изложении вслух чего-либо, заученного наизусть. В нашем примере у A не будет ни одного из ощущений, характерных для чтения, зато будет, возможно, ряд ощущений, присущих обману.
160. Но вообразим следующий случай: мы даем кому-то, кто умеет читать бегло, некий текст, который он прежде никогда не видел. Он читает этот текст нам – но с ощущением, будто произносит нечто, заученное наизусть (это может быть следствием малой дозы какого-то препарата). Должны ли мы сказать в таком случае, что он на самом деле не читал отрывок? Должны ли принять его ощущения за критерии чтения или не-чтения?
Или снова: предположим, что человеку, находящемуся под воздействием некоего препарата, показывают ряд знаков (не обязательно относящихся к какому-либо существующему алфавиту). Он произносит слова в соответствии с числом знаков, как бы те были буквами, и притом со всеми необходимыми внешними признаками и ощущениями чтения. (Сходный опыт мы познаем в наших снах; после пробуждения в подобном случае человек может сказать: «Мне снилось, что я читал текст, хотя это были вовсе не письменные знаки».) В таком случае некоторые сочтут, что он вправду читал те знаки. Другие же скажут, что нет. – Допустим, он таким способом прочел (или истолковал) ряд из четырех знаков как «НЕБО» – а теперь мы показываем ему эти знаки в обратном порядке, и он читает «ОБЕН»; и в дальнейшем неизменно придерживается этого истолкования знаков: здесь нас, конечно, тянет сказать, что он составил для себя особый алфавит и читает письмена соответственно.
161. И запомни еще, что имеется непрерывный ряд переходов между случаем, когда человек повторяет по памяти то, что он, как предполагается, читает, и тем, когда он читает каждое слово по буквам, не опираясь ни на догадки по контексту и не вызубривая наизусть.
Проведем такой эксперимент: назовем числа от 1 до 12. Теперь посмотрим на циферблат часов и прочтем тот же ряд. – В последнем случае что мы называем «чтением»? То есть, что мы сделали, чтобы это стало чтением?
162. Введем следующее определение: вы читаете, когда осуществляете воспроизводство оригинала. И «оригиналом» я называю текст, который вы читаете или копируете; пишете под диктовку; по которому играете; и т. д. – Теперь предположим, что мы, например, преподаем кому- то кириллицу и объясняем, как произносится каждая буква. Затем мы даем ему отрывок, и он читает, буква за буквой, как мы его учили. В этом случае мы с великой вероятностью скажем, что он производит звук по письменному образцу и по правилу, которое мы сообщили. И это также очевидный случай чтения. (Мы могли бы сказать, что преподали ему «правило алфавита».)
Но почему мы говорим, что он производит звук из напечатанных слов? Или нам известно больше, нежели то, что мы его научили, как произносится каждая буква, а он затем стал читать слова вслух? Возможно, ответ будет таким: ученик показывает, что применяет правило, которым мы его снабдили, чтобы перейти от печатного к произнесенному слову. – Как это может быть показано, становится яснее, если мы заменим наш пример на тот, в котором ученик должен записать текст вместо того, чтобы его прочитать; должен осуществить переход от печати к рукописи. Ведь в этом случае мы можем преподать ему правило в форме таблицы с печатными буквами в одном столбце и рукописными в другом. И он показывает, что производит рукописный текст из напечатанного, сверяясь с таблицей.
163. Но предположим, что, делая это, он всякий раз пишет б вместо А, в вместо Б, г вместо Д, и так далее, и а вместо Я? – Конечно, и этот способ мы должны назвать воспроизводством посредством таблицы. – Он использует таблицу, мы могли бы сказать, согласно второй схеме из § 86 вместо первой.
Это все равно будет отличный пример воспроизведения по таблице, даже будь он представлен схемой со стрелками без какой-либо закономерности.
Предположим, однако, что наш ученик не придерживается единого метода транскрибирования, а меняет метод согласно простому правилу: если он в первый раз написал б вместо А, то во второй раз напишет в, в третий г, и так далее. – И где разделительная линия между этим методом и случайным перебором?
Но значит ли это, что само слово «воспроизводить» не имеет значения, поскольку оно его утрачивает, кажется, при разъяснении?
164. В случае (162) значение слова «воспроизводить» было очевидно. Но мы сказали себе, что это особый случай воспроизведения; воспроизведение в весьма необычном облачении, которое следует снять, чтобы выявить суть воспроизведения. И мы сняли это необычное облачение; но исчезло и само воспроизведение. – Чтобы отыскать реальный артишок, мы ободрали всю листву. Да, конечно, (162) – особый случай воспроизведения; суть воспроизведения не скрывается, однако, под внешними проявлениями этого случая, а само это «внешнее» есть один вариант целого семейства случаев воспроизведения. И тем же образом мы употребляем слово «читать» для семейства случаев. И в различных обстоятельствах применяем различные критерии того, что кто-то читает.
165. Но конечно – мы бы сказали, – чтение является совершенно особым процессом. Прочти страницу печатного текста, и ты поймешь, что происходит нечто особенное, нечто весьма характерное. – Итак, что же происходит, когда я читаю страницу? Я вижу напечатанные слова и произношу эти слова вслух. Но, безусловно, это не все, поскольку я могу видеть напечатанные слова, произносить их вслух и при этом не читать. Даже если слова, которые я произношу, именно те, которые, исходя из имеющегося алфавита, должны, как предполагается, считывать из данного печатного текста. – А если ты говоришь, что чтение – особый опыт, тогда становится не слишком важно, читаете ли вы в соответствии с некоторым общепризнанным алфавитным правилом или нет. – И в чем состоит характерное для опыта чтения? – Здесь я хотел бы сказать: «Слова, которые я произношу, приходят ко мне особым образом». То есть не так, как если бы я, например, их составлял. – Они приходят сами собой. – Но даже этого недостаточно; ведь звуки слов могут открыться мне, пока я смотрю на напечатанные слова, но это не означает, что я их прочитал. – Кроме того, я мог бы сказать здесь, что никакие звуки не открываются мне, как если бы, скажем, что-то напомнило о них. К примеру, я не должен говорить: печатное слово «ничто» всегда напоминает мне произнесенное «ничто» – но произносимые слова будто бы проскальзывают в сознание, когда читаешь. И если так, то при взгляде на немецкое напечатанное слово возникает некий особый процесс, и внутренне слышишь его звучание.
166. Я сказал, что, когда мы читаем, произносимые слова приходят «особым образом», но каким именно? Разве это не фантазия? Рассмотрим отдельные буквы и изучим способ, каким они оглашаются. Назовите букву «A». – Откуда взялся этот звук? – Мы не знаем, что сказать. – Теперь напишем строчную а. – Откуда взялось движение руки при письме? Отлично от возникновения звука в предыдущем эксперименте? – Все, что я знаю: я смотрел на напечатанную букву и написал письменную. – Теперь посмотрим на знак  , и позвольте звуку открыться нам; произнесем этот звук. Мне открылся звук «У»; но я не могу сказать, что в способе появления этого звука было сколько-нибудь существенное отличие. Различие заключается в несходстве ситуаций. Я сказал себе заранее, что позволю звуку открыться мне; некоторое напряжение предшествовало появлению звука. И я не произнес «У» автоматически, как происходит, когда я смотрю на букву «У». Далее, этот знак не знаком мне, как знакомы буквы алфавита. Я смотрел на него довольно пристально и с определенным интересом к его форме; глядя на него, я размышлял о перевернутой греческой «сигме». – Предположим, мы употребляем этот знак регулярно в качестве буквы; и поэтому привыкли произносить при его виде особый звук, скажем, «ш». Можно ли сказать что-либо сверх того, что через некоторое время этот звук будет возникать в сознании автоматически при взгляде на знак? То есть: я больше не спрашиваю себя, когда вижу знак: «Что это за буква?» – и, конечно, не говорю себе ни: «Этот знак побуждает меня произнести звук “ш”», ни, все же: «Этот знак так или иначе напоминает мне звук “ш”».
, и позвольте звуку открыться нам; произнесем этот звук. Мне открылся звук «У»; но я не могу сказать, что в способе появления этого звука было сколько-нибудь существенное отличие. Различие заключается в несходстве ситуаций. Я сказал себе заранее, что позволю звуку открыться мне; некоторое напряжение предшествовало появлению звука. И я не произнес «У» автоматически, как происходит, когда я смотрю на букву «У». Далее, этот знак не знаком мне, как знакомы буквы алфавита. Я смотрел на него довольно пристально и с определенным интересом к его форме; глядя на него, я размышлял о перевернутой греческой «сигме». – Предположим, мы употребляем этот знак регулярно в качестве буквы; и поэтому привыкли произносить при его виде особый звук, скажем, «ш». Можно ли сказать что-либо сверх того, что через некоторое время этот звук будет возникать в сознании автоматически при взгляде на знак? То есть: я больше не спрашиваю себя, когда вижу знак: «Что это за буква?» – и, конечно, не говорю себе ни: «Этот знак побуждает меня произнести звук “ш”», ни, все же: «Этот знак так или иначе напоминает мне звук “ш”».
(Сравни с этим мысль, будто образы памяти отличаются от прочих умственных образов некоей характерной особенностью.)
167. Теперь, а что с предложением, гласящим, что чтение – «весьма особый процесс»? Это, по-видимому, означает, что, когда мы читаем, имеет место один особый процесс, который мы замечаем. – Но предположим, что я когда-то прочитал предложение напечатанным, и в другой раз написанным азбукой Морзе; сходны ли умственные процессы? При этом, однако, налицо некоторое единообразие опыта чтения печатных страниц. Ведь сам процесс единообразен. И очень легко понять, что этот процесс отличается от того, скажем, который позволяет словам возникать при лицезрении произвольных знаков. – Сам по себе вид печатной строки чрезвычайно характерен – он представляет в целом особое зрелище, буквы все приблизительно одинакового размера и сходны формой, и постоянно повторяются; и большинство слов постоянно повторяется и хорошо нам знакомо, как привычные лица вокруг. – Подумай о беспокойстве, которое нас настигает, когда правописание слов меняется. (И о более сильном чувстве, порождаемом вопросами о правописании слов.) Конечно, не все знаки запечатлевают себя столь мощно. Знак в алгебре логики, например, можно заменить любым другим, и это нас не сильно обеспокоит.
Помни, что вид слова привычен нам в той же мере, как и его звук.
168. Снова: наш взгляд движется по печатным строкам иначе, нежели пробегает по произвольным крючкам и росчеркам. (Я не говорю здесь о том, что можно выявить при наблюдении за движением глаз читающего.) Можно сказать, что взгляд движется без сопротивления, не встречая препятствий и не соскальзывая со строки. И одновременно в сознании отмечается непреднамеренное проговаривание прочитанного. Именно так происходит, когда я читаю текст на немецком или ином языке, в печатном или рукописном виде и различным начертаниями. – Но что во всем наиболее существенно для чтения как такового? Нет ни единой черты, свойственной всем видам чтения. (Сравним чтение обычного шрифта с чтением текста, напечатанного полностью прописными буквами, как печатают иногда решения ребусов. Насколько они различаются! – Или с чтением справа налево.)
169. Но когда мы читаем, разве не кажется нам, что графические образы слов так или иначе воздействуют на звуковые формы? – Прочти предложение. – А теперь взгляни на следующую строку:

